Определение берега
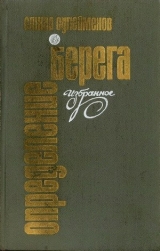
Текст книги "Определение берега"
Автор книги: Олжас Сулейменов
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 15 страниц)
НОЧЬ НА НИАГАРЕ
Душно. Люди. Июль.
Дождь вцепился в бетон;
Припаял свои желтые струи к стеклу.
Город молча бредет.
По колена – Гудзон,
Город рот утирает,
Прислонившись к углу.
Я смотрю ему в зубы,
Как смотрят коню.
Это желтые струи грызут мои окна.
Поброжу. Выхожу.
Дождь на парк-авеню.
Я твой гость.
Ты намок.
И я тоже намокну.
Душно. Дождь.
Я бреду по колена,
Мне на руки просится мутный ручей.
Ему так одиноко, степному,
Средь каменных зданий.
Америка!
Это ты затерялась крохотным пламенем
Под ногами теней!
– Ты чей?
Я молчу, пробираясь
Между задами автомобильных трупов.
Желтый день. Ливень. Сель.
Я стою наконец под навесом
У входа в отель.
С визгом женским машины,
Машины взлетают из желтой гущи,
Вылетают на сушь.
И отряхиваются, как гуси.
Расселина между домами
Ветрами полна.
Вихри воды по лицу
Сапогами колотят.
Голубая машина
Барахтается, как волна.
Голубая волна океана.
В желтом болоте.
ЧИКАГО. В МУЗЕЕ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
Такая целомудренная ночь!
Она испуганно глядит из теней сосен.
О лунный луч,
Словно отцовский нож,
Дорога белая, как тень Иисуса.
…Дрожит, локтями упираясь в мох.
А тишина такая грозовая!
Рванулась из объятий,
Только – ох!
Бежит,
В просветах телом розовея!
Скользит на мокрых черных валунах.
Вскочил. Кричу.
И сам себя не слышу.
Как мачеха над ней летит луна,
Свирепая, сиятельная, рыжая.
Девчонка-ночь!
Постой! Бегу. Постой!
Она глазами черными взглянула,
Она власами черными взмахнула.
Ладонями дрожащими укрылась
И стала, улыбнувшись, под луной.
Надменная от белого стыда.
Стоит нагая на краю обрыве.
Я подошел.
Вода проносится, белея черной гривой.
Мешая годы, сны, меридианы.
Я молодой.
Но рядом с нею старый.
Я ночь целую.
Словно индианку,
С гортанным именем —
О Ниагара!..
«Вожди индейцев пришли на обед…»
Трубка из яшмы украшена перьями
горных совят.
Трубка Мира похожа на черный
чубук чукчи,
чучела даков
курят и держат Верховный совет,
широкоскулые, узкоглазые, как Джучи.
На здоровенных кедровых стапелях
пирога-каик,
воины в скальпах,
толстые копья, в коже – ножи,
впередсмотрящий —
желтый худой старик
напоминает гадальщика из Кульджи.
Отодвигая левой рукою степь,
чуть наклонившись, туго пружиня в ногах,
вождь засмотрелся в глаза неоновых стен,
что-то язычнику чудится
в странных ночах.
Бродишь по залам, рядом бредет тишина,
локтем коснешься случайно —
голову кружит.
Желтые экспонаты.
Декоративная тишина.
Кажется, люди только и знали,
что делать оружие.
Стройные луки
и наконечники из халцедона,
а томагавки какие —
с серебряной чернью!
Алмазы, рубины,
дубины по мегатонне!
Не все ли равно, чем ударить
по хрупкому черепу!..
Ведь все уравнялось,
мертвым уже не помочь советами,
жаль, что одно
никогда
не увидят они:
трубки Мира, украшенные совятами,
робко прижились
в яркой витрине Войны…
ИНДЕЯ
Вожди индейцев пришли на обед
к французскому губернатору,
их мало осталось после побед
французского губернатора.
Мундиры сияют. Хозяин учтив.
Курчавятся белые скальпы,
шутник-адъютант, длинноногий
штатив,
сверкает, заботится, скалится.
Мажет горчицей хрустящий хлебец,
вождю подает с улыбкой,
он знает, лощеный парижский
подлец,
как верят индейцы улыбкам.
Индейцы раскрашены под образа.
Чинно, как на дуэли,
ели индейцы, закрыв глаза,
и мужественно доели.
Никто не смеялся.
Никто не хрипел.
Молчал губернатор,
а Тана,
жена губернатора,
мажет хлебец
медленно-
медленно,
для адъютанта…
Я видал над Ниагарским водопадом радугу; и в солнечный день и ночью в цветных прожекторах – алая радуга.
«Я таю над ночными городами…»
I
«Где в ночах шелестит
голубая трава Аяганга,
одуванчик Бакбак
и по озеру – лилия Лала,
где черные камни,
оторванные от гор,
зовутся негромким, гордым именем – Скалы.
Совята мои улетают в густую траву Аягангу.
Тоскуют по лунам багровым бесплодные жены.
А там, далеко-далеко-далеко за Хинганом
одинокий плачет верблюжонок…»
II
Будь я вождем
и Хранителем Воинской клятвы,
над Ниагарой сказал бы вам, старикам:
«Дети мои, крепкореберные совята!
Вспомним траву Аягангу на берегах!
Вспомним костры и песни, которые пелись.
Мы грызли кость, не поднимая глаз,
Ы-х!
Рубили!
Мы в пыли хрипели,
жеребцы обнюхивали нас.
Снятся нам – трава и кобылицы,
губы их железом отдают.
Нюхая изрубленные лица,
кони от волнения поют.
Хилые стояли у костра,
отвечая беспощадным воем.
В душу заползал хороший страх,
и потел, и озирался воин.
Трусы, цепенея, повставали:
– Дай коней, отвага!
– О атака!..
Женщины в молчаньи танцевали,
грубыми качая животами.
Вой все поднимался, поднимался,
воин убивал и убивал.
Женщины совсем не понимали
то, что воин недопонимал!
III
Мы от берега тихо отходим,
нас кидает опять на скалы,
нам сыны оправданья находят,
чтоб самим не раскаяться.
Что же! Пусть наводнение. Не беда.
Пусть наливаются илом и рыбами города,
это – счастье пустынника желтого!
Это – вода!
Пусть нас мутит похмелье,
мы, как отцы, кутили,
красную теплую влагу
мы, как умели, пили.
Пусть на траве черствеют
мощные их тела,
пусть молодые пчелы
пьют пьянящий нектар.
Пусто в холодных залах,
ох и дела,
утром опять вороны протяжно орали —«кар!»
Жизнь, ты беспечна, как Ниагара,
ты пробиваешь в граните русло,
чтобы свалиться с криком на камни.
Хочешь в истоки вернуться,
грустная!
О Ниагара!
У, Ниагара!
А-а-а!
И падение после удара.
Падаешь?
Пыль водяная и грохот,
если упасть с высоты, то
с огромной!
А над адом горит, не сгорая,
алая радуга, о Ниагара!
Разве не счастье – так умирая,
в чьем-то сердце оставить
радость?..
АФРИКАНСКИЕ РИТМЫ
Я таю над ночными городами,
Их много, молчаливых, под крылом,
Огни земные, как снежинки, тают,
Годами оседая над огнем.
Я пролетаю над ночным Парижем,
Огни, все те же рыжие огни!..
Упав лицом в иллюминатор, вижу,
Что мне знакомы издавна они.
Кизячными кострами полыхают
Приморские чужие города,
Над миром ночь как будто неплохая,
Огни мелькают,
Мечется радар,
Напоминая нам,
Что все спокойно.
Глаза ночей, подкрашенные хной.
Внизу трава полита темнотой.
Костры. Луна. И ожидают кони
Пронзительного выкрика: «Атой!»
Я пролетаю,
Словно в планетарии,
Огни мерцают, тайны отдают.
Укутав ноги, женщины читают.
При свете ламп историю мою.
Не все бывает в нашей жизни важно.
Огни. На всем пути молчат огни.
Иллюминатор от тумана влажен,
Растут, сливаясь.
Частые огни.
А. Алимжанову
Два часа в негритянском театре на Бродвее.
Темная мягкая сцена,
поблескивающая
агатовая женщина уселась,
обняв колени,
на берегу вставшего стеной океана.
Молодые негры в зале
выплевывают жвачку и плачут,
топая ногами:
I
– Позор! Я лицо потерял. Оно черное.
Кафр. Неверный.
Мою Африку; милую Африку
рожденные мною веры назвали—
Адом.
Африкой мы угрожала
бледным адамам, бедным муслимам,
птицам, гадам.
Кипели в пенной смоле грешника-солнца
черные черти.
Века позора ползут по пятам. Кафр.
– Ты хороша ночами; необычная,
тело твое лоснится.
Чуть шевелит плечами,
ветви впечатаны четко
в небо густое, чайное…
Тайны нечаянно к горлу
стаями подступают,
тихо луна тает,
тени плотны до глянца,
сонно бормочут в клювы забавные попугаи,
трескаются в ущельях
остывшие сланцы.
Устья рек, лохматые,
теплые, словно лоно,
мутно открыты напоры ночных океанов,
в чаше берберского неба
ворочаются биллионы,
снова кричат океаны
за занавеской лиан.
Мы – пастухи своих дней —
кочуем,
качаемся в седлах,
падаем раньше стад.
Мы отдадим своим дням
золото, тело, стыд.
Пьем из ручьев холодных,
размягшее мясо стынет,
стадо уходит, блея.
Падаем раньше стада.
II
Белая женщина, как негритянка, незаметна
в нью-йоркской ночи. Она сливается цветом
молчания
с тоской уставшего города.
Сидит, обхватив колени, на берегу океана.
Я оглядываю притихший зал. Негры подавленно
смотрят на черную яркую сцену.
Месть режет белых в Нью-Йорке, насилует
женщин, как в джунглях Центрального парка земли.
Воздух Америки – сладкий дымок гашиша.
На электрическом стуле и в гибкой веревке линча
вы скорбны, как в этом зале. Вы смотрите на искусство —
на доброго палача.
Удары тока. Рывок петли. И – бескожие души ваши
банановой коркой стучат о рифы дальнего берега.
Родина ваша – Америка. Вы защитите
ее, как всегда защищали.
В братских могилах, на смешанных кладбищах
самоубийц,
вы – хозяева. Удары тока. Рывок петли.
И грешные птицы, дав круг над любимой
Америкой, улетают
с радостным кликом на остров счастливого ада.
III
Родина! О Негрия моя!
Громадных манго легкие кроны,
алых акаций знойные тени,
тунцы,
ананасы,
бананы,
базары,
женщины,
стройные,
как растения!
Мчатся автобусы мимо саванны,
барабаны стучат,
баобабы торчат,
чистые зубы на черном лице:
«Мой негритенок вылез из ванны,
съел банан и помчал в лицей!»
В этой деревне конусом хижины,
туго на бедрах солнце расстелено,
вон крокодилы смотрят обиженно.
Слушай – поэты хохочут растерянно.
IV
…Ритмы гремят —
это на яркой сцена,
голая, черная,
плавно ведет животом.
Страстные шутки зала,
сало рецензий,
бубны и саксофоны.
Ну!
А – потом!
Черный и тонкий,
звонкий Джин Круппе,
пальцы нервные,
ноздри крупные,
как пулеметы, трясутся палочки,
хриплые кличи пляшущих парочек!..
Вышел из зала;
небо как негр,
звезды как пот на щеках барабанщика,
градусов семьдесят по Фаренгейту,
парни, похожие на карманщиков,
пьяные,
с тусклыми лицами гениев,
в бары заносят плотные тени.
Бары в подвалах, как бомбоубежище.
В Америке —
бешеное веселье…
1962-1963
РИШАД, СЫН СТЕПНЯКАРЕЙС СВОБОДЫ
Я дарю тебе тюбетейку,
Перевитую нитью золота,
Твой отец отвернулся молча,
Так, наверное, помнят молодость.
Мать красивая машет пальцами,
И лепечет,
И восторгается.
Ришад очень похож на испанца,
Сын француженки
И адаевца[4]4
А д а й – казахское племя у Каспийского моря.
[Закрыть].
«Вы поедете в штат Небраска?!
Там такие прекрасные прерии,
Там колючки, жара и кочки,
Пыль и кони такие! Прелесть!
Вы поедете?»
Жадно смотрит
И руками картину лепит.
Люди летом уходят к морю.
Его тянет в сухие степи.
В стремя – хоп!
Отшвырнуть сомбреро!
Ветер черные волосы – в клочья!
Тюбетейку – на лоб,
Карьером,
Перепадом по тропам волчьим.
Задыхайся, кричи, мой мальчик,
Страсть поэта – и плач и хохот.
Твой отец наконец-то плачет.
В моих жилах грохочет холод.
Я поехал бы в штат Небраска,
Но мне надо спешить на родину.
Там такой же пейзаж неброский,
Я поеду к себе на родину.
Я поеду в адайские прерии,
Там колючки, жара, морозы,
Пыль и кони такие! Прелесть!
Я поеду к себе на родину…
«В южный город на лето…»
В автобусе с коричневыми стеклами
Колотят парни кожу барабанов.
– Куда автобус?
Девушки высокие зовут меня и манят:
– В Алабаму!
Монах веселый с грешными глазами.
Студенты в шортах,
Женщины в панамах.
Галдят,
Поют густыми голосами
Мотивы Африки:
«О Алабама!»
Я подсел,
Они шумно теснились,
Предлагали мне лучшее место:
– Рядом с самой красивой, мистер!
– Места много. Не все явились. —
Места много. Но надо трогаться,
Ждать вам некогда.
Время странное.
Вот рука моя на дорогу.
Мне так хочется в Алабаму!
Вместе с вами принять участие
В честной драке за чье-то счастье,
Я умею.
Я так-воспитан.
Кто-то весел, а кто-то – избитый…
Извините.
Вот рука моя!
Пячусь с подножки
На нью-йоркский бетон горячий,
Я из автобуса, как из ножен,
Вышел в расцвеченную толпу.
Кто-то кудахчет,
Кто-то судачит.
Чья-то толстая мама плачет.
Привалившись спиной к столбу.
С тротуара машу, как с берега.
Они долго и долго смотрят.
Молодые глаза Америки
Уплывают в лихое море.
Я пошел по Нью-Йорку веселому,
Напевая под нос «Алабаму».
Даже толстые негры высокие
Пожимают плечами и лбами.
Я уехал бы в том автобусе,
Как на фронт уходили, мама!
На покатом и скользком глобусе
Все сегодня поют «Алабаму».
«Пес сидел на цепи весь век…»
В южный город на лето
приехала девочка,
две косички,
два бантика пышных и белых.
Дивная девочка,
звать ее – Белла.
Аборигены знают, что делать,
Вымыли шеи, надели сандалии,
ходят под окна, кричат, выхваляются.
Дворники как-то
им крепко задали:
в жилкомбинате не дозволяется.
Девочка все же
с одним подружилась.
Каждое утро приходит под окна,
маленький, робкий,
и, напружинясь,
тихо орет, озираясь:
– Бел-ла…
Девочка белкой сбегает по лестнице,
за руки взявшись,
мчатся на речку.
Мама считает сумму полезной:
солнышко, воздух, водичка
и девочка.
Как-то случилось. Пришла телеграмма.
Девочка с мамой – ночным самолетом.
Лето не кончилось.
Утром рано
смуглый малец, как обычно:
– Бел-ла…
Я выхожу на балкон,
наблюдаю.
Мальчик спокойно скандирует:
– Бел-ла…
В полном параде —
в новых сандалиях,
в чистых трусах по колена:
– Бел-ла.
Я надругался:
– Она улетела.
Малый взглянул снисходительно.
Парень.
Буркнул (наверное: «Не твое дело»)
и затянул свою арию.
Каждое утро,
вы не поверите:
голосит под окнами
тот сирота.
«Ночи августа…»
Пес сидел на цепи весь век.
Он охрип, одряхлел, шкура – войлоком.
Как-то вышел во двор пожилой человек.
Пес не взлаял, пошел, ноги волоком.
Руки лижет
и крутит обрубком хвоста.
А когда-то был славный хвост!
Человек не был пьян,
он себя опростал
и подумал:
«Паршивый пес…»
И подумал: «Собака уже, а не пес…»
Снял ошейник и дал пинка.
Он с ненужными был в обращении прост,
просто взял и намял бока.
И собака пошла, кособочась, рысцой.
Двор пустой. Листьев куча. Забор.
Если б видел хозяин собачье лицо
в этот миг!
Ах, какой-нибудь вор
вышиб доску бы из забора!..
Воры были на счастье —
собака нашла под забором
большую нору —
и на брюхе, ползком, не дыша,
со двора
в мир какой-то,
в чужие просторы.
Как ударили странные запахи в нос!
Он чихнул и метнулся к столбам.
О, уже не собака —
матерый пес
нелюдимо глядел из-под лба.
я
Жадно нюхал
и склады костей разрывал,
он впервые как пес поступал незаконно —
верный сторож
бродягой в ночи воровал.
Нет, он грабил
и молча бросался на конных.
…Он вернулся под утро.
Пролез.
Обошел.
Листьев куча. Сараи. Забор.
И уснул.
Черт возьми, хоть какой-нибудь вор!..
Пес услышал спросонок:
– П-шел!
И – пинок.
Он клыками за ногу – р-раз,
Видно, сны ему снились хорошие.
А хозяин – бегом
и с крыльца между глаз
из берданки.
– Сбесилась собака…
Пес лежал без цепи,
шелудивый, худой.
Шерсть свалялась на бедрах,
как у барана.
Котелок почерневший наполнен водой.
Волчьи сны вытекали, краснея, из раны.
ОН БОРМОЧЕТ СТИХИ…
Ночи августа,
Уходите, но помните —
Нет чернее ночей.
Ветка яблони надо мною приподнята,
Ночь пахуча, как чай.
Рот открой,
И невидимо в горло
Проберется ручей,
И течет по зеленому городу
Этот час.
Ветка яблони,
Как завеса, приподнята,
В черном небе – огонь.
Морщу лоб, я стараюсь припомнить
Имя этой звезды.
Марс. Наверное, – Марс!
У сарая откликнулся конь,—
Вороной мой Джульбарс
Тихо звякнул железом узды,
После пыльной дороги
Усталость. Прохлада. Сон.
Небо звездное – конусом,
Как продырявленный шлем,
Самой яркой звездой
Полыхнул и повис над лицом —
Марс, наверное, Марс!
Перезрелый, прозрачный плод
Ветку яблони тянет и давит,
Ломает и гнет.
Ночи августа,
Уходите, но помните:
Нет светлее ночей.
Еще многое, многое мною не понято,
Ночь пахуча, как чай.
Брошен старый ковер
На густую траву типчак,
Мрак стоит за стволами урючин.
Как вороной,
Голова на седле… А седло пахнет
Потом и пылыо…
И примятые стебли ворочаются подо мной.
ГРАНАТ В ПЕСКАХ
Слово – медленный блик человеческого поступка.
Высоту, глубину и цвета извергает язык.
Повторятся в словах и глоток,
И удар,
И улыбка,
Стук копыт через век
И наклон виноградной лозы.
Эту черную ночь
Я опять принимаю в сообщницы.
В эту ночь я услышал неясный луны монолог,
А на красный язык,
Как на свет,
Пробирается ощупью
И полощется в горле
Белого слова клок.
Я сейчас закричу,
Я нашел!
Я хочу его выставить!
Пусть луна продолжает на тенях
Судьбу гадать.
Этот матовый свет.
Будто вспышка далекого выстрела,
Обнажает лицо,
Опаляя меня на года.
Не нуждаюсь в пощаде глупцов,
Не покорствую мудрым.
Слово бродит в степи,
Чтоб нечаянно встретить меня.
…Он бормочет стихи. Так молитву читают
курды.
На скуластом лице отсвет медленного огня.
НОЧЬ В ПУСТЫНЕ
Прозрачный, твердый,
красный мозг граната.
На кустике – громадные плоды.
В пустыне невеселой, как латынь,
краснеет куст таджикским рубаятом.
И я под ним сижу, чернее негра,
в тиши тысячелетий, глажу грудь,
наверно, здесь я сел бы отдохнуть,
идя из неразрушенного Мевра.
Гранаты можно срезать и продать,
гранаты могут вырасти опять.
Сто маленьких голов на тонкой шее,
похожей более на ногу Нетто,
сто алых, раздражающих голов,
забитых в неожиданное небо.
Ремнем экватора затянут шар,
кому-то он прошел по узкой талии,
кому под грудь, под плечи и так далее.
А здесь по горлу узкий поясок,
песок, песок – как будто все старатели
за все века несли сюда старательно
пустой песок…
Я глажу алый сок,
я, истощенный актами пустыни,
не протестую, не сопротивляюсь
цветам граната,
зернами тугими
спрессован сок,
а в глубине плода
таится тень, отброшенная соком…
Не скрою, одному в прохладе слов
так хорошо!
Кишлак собою занят,
он варит плов, не слушая ослов,
ослы себя подслушивают сами.
«В Поволжье снова сушь, земля желта…»
Нет росы,
Удивительно, нет под руками росы,
На безвольно холодном песке,
На лице и на войлоке —
Нет росы,
Волны камня измолотого
Спокойные, как часы,
Изнывают под зноем
луны полуночной.
И нет росы.
Босые шакалы в песках хохочут,
Что нет росы.
Скелет саксаула кричит, белея,
Что нет росы.
Алюминиевый свет обнажает
Разбухшие груди пустыни,
И нет красы
Человечней тоски барханной
По капле росы.
Луна остынет,
И дальняя кромка восхода
Взорвется солнцем…
Зачем?
Роса на лице одинокого человека.
ТОНКИЕ ОРЛЫ
В Поволжье снова сушь, земля желта,
пшеницей называется солома.
Я гость огромного села Жельта,
торчащего над плоскостью изломом,
оазисом угрюмым. Арыки
глубокие, сухие, как морщины.
В запруде, в желтом киселе реки,
купаются веселые мужчины.
Пылит в степи райкомовский «газон».
В бригаде тихо плавятся комбайны.
Вода расплавлена, степной озон,
как войлок, нависает над купальней.
Рубаху стягивает агроном,
он худ, стесняется полей колхозных,
он удручен (жену отвез в роддом).
С обрыва в воду прыгает в кальсонах.
Э, засуха, отчаянное зло!
Не рассчитал (река мелее стала).
И с вывихом коленного сустава
его, смущенного, везут в село.
«Хрипло поет о любви старик…»
Ползут над полем толстые орлы,
летят по полю тонкие орлы.
Орел, он думает, что все – орлы,
у каждого подозревая горло.
Он с сусликом дерется,
как с орлом.
Сожрет и думает:
«Какой он горький!..»
Их —
«беркуты,
стервятники,
ягнятники».
Орел, он не увидит своей тени,
добыча видит тень его огня.
Тень – плоть его,
а он – виденье тени.
По небу стелются орлы тяжелые.
А по земле,
травы не тронув,
не царапнув глины,
темно-зеленые и темно-желтые
несутся тонкие орлы углами
по круглой плоскости своей горы.
Орлы уйдут.
Опять желток и зелень.
Степь – горы без вершин и без ущелий,
без острых ощущений Бухары,
ни гром, ни молния,
не встали и не сели.
Спокойный ужас солнца
и орлы.
«Вблизи Чингизских гор его могила…»
Хрипло поет о любви старик,
Почесывая домбру;.
К юрте-, прислонена
Чаща пик,
Усатый скуластый круг.
Трется об юрту пыльный ишак,
Кони лягают псов,
Люди покрикивают
в такт
Грустных кипчакских слов.
Мясо остыло,
Серый айран
В чашах цветных уснул…
Блеет в предчувствии пира баран…
Завтра проспит аул.
ХРОМОЙ КУЛАН
Вблизи Чингизских гор его могила,
Исколотая желтыми цветами;
Голодными, немилыми, нагими
К могиле приходили на свиданье.
И пили, усмехаясь, горечь песен,
И, колыхаясь, колебались травы,
Цветы желтеют грустно,
Как отрава…
Вблизи Чингизских гор его могила.
МОЛИТВА БАТЫРА МАМБЕТА
Дикие кони в степях Джетысу!
Жмутся в долинах,
Вдруг – на курганах.
Тучи храпящие ветер несут,
И-и-и,
Заливаются конским «ураном»[5]5
У р а н (к а з.) – клич.
[Закрыть].
Грохот протяжный.
Следом за солнцем.
Рвутся копыта по солонцам.
Черный вожак,
ковыляя, несется
И-и-и,
Выкипает кровь жеребца.
Черный вожак.
Сохранивший стадо
в джут[6]6
Д ж у т (каз.) – время гололеда, время падежа скота.
[Закрыть],
С перебитой в битве ногой,
Умница старый,
Скрывая слабость,
Гонит куланов на водопой.
Каждую ночь он стоит на кургане,
Ногу подняв,
Охраняет табун.
Кони клялись ему на коране
В верности вечной,
Клятвой табу.
Бег укорочен.
Дробно по кругу
Гривы толпою за вожаком.
Крупами потными давят друг друга
Не обгоняют Хромого —
Закон.
Травы затоптаны,
Взболтаны реки,
Первым хромой по воде зашагал.
Пьет.
Отдыхают низкие веки,
Ногу в воде незаметно поднял.
Стадо притихло.
Нюхает. Страшно.
Где-то рождается запах волков.
Пей! Не волнуйся.
Стадо на страже.
Белые волны – как молоко.
Дикие, да.
Но не стукнет копыто.
Бродит под шкурой начало чувств.
Я заарканю куланов для битвы
И благородству у них научусь.
Он успокоился.
Вышел на берег.
Телом тряхнул и пошел на бугор,
Кони рванулись,
Ты не поверишь,
Встали, и волны вот так —
До горл.
Реки степные пересыхают,
Вниз по течению в час водопоя
Жрут разгоряченные,
Вдыхают
Воду Тентека дикие кони…
ПЕРЕД КАЗНЬЮ
Бисмилля!
Я в далеких походах забуду себя,
Я в битвах – по году,
В обидах – по горло,
Я родился в седле,
Умираю в цепях,
Меня водят пешком, как собаку, по городу.
Я забуду, как пахнет запаленный конь,
Я забуду в зиндане[7]7
3 и н д а н – яма-тюрьма.
[Закрыть] гортанные кличи,
Утром тело разрубят и бросят в огонь,
Мое темя забудет былое величье.
Я забуду, как жены боялись меня,
Я как меч обнаженный,
Но ржа меня режет.
Сердце в горле как яростная змея.
Э, не так!
Мое сердце – ощипанный кречет.
Все забуду,
Молитвы – спасенье свое,
И пожары, и битвы, аллаха забуду…
Аруах![8]8
А р у а х – дух предков.
[Закрыть]..
Ясный месяц в пустынях встает, —
И уходят в барханы
За самкой верблюды…
И в казахских казанах шипит молоко…
И собаки рвут шкуры друг другу от скуки…
Я в зиндане лежу глубоко-глубоко,
А луна, как лепешка, мне катится в руки…








