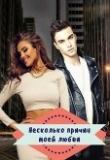Текст книги "Весёлый Роджер (СИ)"
Автор книги: Ольга Вечная
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 25 страниц)
– Приятно, – говорит он.
– И мне, – она впивается в его кожу, оставляя после сильного поцелуя яркий след.
– Вау, Вера, – смеется.
– Вау, Белов, – улыбается она тоже.
Отчеты непотопляемого пирата. Запись 12
Я никогда не сомневался в том, что когда-нибудь мать узнает, какая беда приключилась с Артемом. Вопрос был лишь во времени, как скоро это произойдет. С братом мы молча буравили друг друга глазами на всех семейных сборищах, благо их было не так много. Старались приезжать к родителям в разное время. Понимаете, у меня такие родители, которым не хватает созваниваться с детьми раз в неделю, им нужно видеть нас постоянно. Мама вечно выдумывает поводы, чтобы я тащился через пол-Москвы с камерой, но отказывать ей нельзя. Она столько пережила со мной, выхаживая своего обгорелого, едва живого сына, что я буду всю жизнь делать для нее все что угодно. И вот этот роковой день наступил. Ненадолго хватило Кустова, мог бы хоть годик поберечь их.
Мать рыдает, судя по узким глазам-щелочкам и припухшему лицу – уже несколько часов, не переставая. Артем с дядей Колей – зацепил краем глаза – пьют на кухне, курят, я разуваюсь у входа и по привычке иду сразу мыть руки. Вера выдрессировала за время, что мы вместе – с улицы сразу к мылу первым делом. Она вообще по части гигиены двинутая, а теперь, когда думает, что вирус внутри – и вовсе моется по три-четыре раза в день, словно это может помочь.
Никто мне не говорил, в чем срочность приезда, просто мама умоляла в трубку: «Вик, пожалуйста, быстрее...» – ну, я и сорвался, как был, в спортивном костюме, в котором спал. Натянул первые попавшиеся кроссовки и полетел. Восемь-пятнадцать на часах. Кустов, сволочь, не мог ближе к обеду всех «обрадовать»?
Даже поздороваться не выходит. Обнимаю маму, она встает на цыпочки, чтобы дотянуться до щеки, рыдает навзрыд. Чувствую, что хочу снова подраться с этим идиотом, не заслужила мама такого горя. Хотя кто я такой, чтобы судить его: в восемнадцать лет пропал на несколько недель, потом меня нашли едва живого, обгорелого, не в своем уме после сотни часов пыток огнем, облитого бензином и черт знает еще чем. Мама видела весь процесс реабилитации с самого начала. Маме не позавидуешь. Думаете, она просто так ударилась во всю эту гребанную йогу, буддизм и прочую индийскую хрень? Не вывозила наша церковь ее горя, пришлось искать новую.
Пока обдумываю все это, понимаю, что отпускает. Артем имеет такое же право портить родителям жизнь, как и я. А я здорово оторвался на их нервах, теперь его очередь. Жги, Артем.
– Горе-то какое! – причитает мама. – Вик, ты знаешь?
– Да, давно уже, – даже спрашивать не нужно, о чем она говорит.
– Сел в кинотеатре на иголку, не посмотрел. А оказалось, она зараженная!
– Чегооо? – вот это уже интересно. Отстраняю ее, вглядываясь в глаза, думая, не ослышался ли. Артем выплывает из кухни, бледный, осунувшийся, обросший, в какой-то непонятной мятой одежде. Выглядит кошмарно, никогда его таким не видел. Скрещивает руки на груди.
– Это СПИД-терроризм, – сообщает, а я просто стою и моргаю, глядя на него. – Новая волна пошла по Москве, зараженные люди специально таким способом распространяют вирус среди здоровых.
Он действительно говорит все это совершенно серьезно.
– Нужно быть очень осторожным, сынок, – причитает мать, – всегда смотри, куда садишься, кто рядом с тобой. Это так опасно, такой кошмар. Лишний раз лучше избегать метро, автобусов, кафе.
– Сначала не придал даже значения, – говорит Артем, – а потом пошел сдавать анализы для санитарки, а вирус и выявили. Пока пересдавал в нескольких местах, еще держали в «Восток-Запад», в одной лабе диагноз поставили под вопросом, а как подтвердилось, поперли на улицу. Такие вот дела. Руку-то пожмешь, брат, или побрезгуешь? – тянет мне свою ладонь. Мама заливается слезами и убегает в зал. Пока жму руку этому козлу, сердце сжимается от жалости к родителям. Дядя Коля тоже подает ладонь, сразу после сына. Он глубоко печален, сутул, впервые кажется мне стариком, хотя не намного старше папы. По глазам видно – отказал бы я Теме в приветственном жесте, он бы меня тут же вычеркнул из своей жизни навсегда.
– СПИД-терроризм? – переспрашиваю, нахмурившись, у Артема, тот пожимает плечами, дескать, докажи обратное, если сможешь. Трындец. Сейчас-то благодаря Вере я знаю о ВИЧ практически все, но и раньше знаний хватило бы, чтобы понять – его не существует. Это выдумка, байка. За все годы, как узнали о существовании вируса иммунодефицита, не было зафиксировано ни одного случая подобного заражения.
– Ты уверен, что заразился именно в кинотеатре? – мрачно спрашиваю, присаживаясь рядом с мамой. Жалко ее так, аж зубы сводит. Мог бы скрыть от них, вот зачем рассказал? Я же обещал, что с деньгами помогу, если надо. Заплатил бы за мамины нервы столько, сколько потребуется. Конечно, благодаря Марату Эльдаровичу, я сейчас не в лучшем материальном положении, но хрен с ней, с этой «трудермой», и так живу, справился бы. Все равно красавцем не стать никогда.
– В ресторане слух пошел, отчего меня уволили, он сразу разлетелся среди знакомых, – говорит Артем. Стоит в дверях, прислонившись спиной к косяку. Дядя Коля ходит из кухни в зал и обратно, нервно пожевывая сигарету. В этом доме нельзя курить, но сегодня, видимо, правил не существует. – У многих я теперь в бане, безработный, умирающий, никому не нужный.
– Какое горе-то, горе-то какое, – все причитает мама.
– Мама, погоди, не все так ужасно... – Но она не слушает меня, продолжает:
– Я все понимаю, все принять могу. Но Вера-то как могла так поступить?
Замираю, услышав имя своей девушки.
– То есть?
– Бросила его, как только узнала, что болен. От нее я не ожидала подлости. А как же и в радости и в горести (и в горе и в радости)? Да мы поможем деньгами!
– Сейчас с ВИЧ можно жить долго, и детей здоровых заводить. Медицина далеко шагнула, – Артем смотрит на меня, прожигает взглядом, а я на него, прищуриваюсь. Не отдам, слышишь? Не отдам ее. Он тоже сузил глаза, как будто читает мысли.
– Я думал, что Вера ушла, когда увидела тебя в постели с другой, – говорю.
Артем качает головой.
– Это было уже после. Сорвался, признаю, идиот, пустился искать утешения. Такие новости, я был в шоке, ужасе. Пришел к Вере, поделился бедой с самым близким человеком, а она скривилась, схватила сумку, и давай вещи собирать. Пытался и так, и эдак с ней хотя бы просто поговорить, а она – не прикасайся! И ушла. Даже одежду до сих пор не всю забрала, так торопилась. За Марти, ее любимой золотой рыбкой, не удосужилась вернуться. Видимо, противно ей со мной одним воздухом дышать.
Серьезно, если бы не захлебывающаяся в слезах мать и не матерящийся дядя Коля, я бы начал аплодировать.
– Пригрели ее, нищенку, – плачет мама, – как дочь ее, голожопую, приняли. Квартиру – на, машину – на, деньги – на. На все праздники она тут, со всеми проблемами – ко мне. Хочешь – ночуй приходи, хочешь... Все для нее! Никто ни разу не попрекнул. Родителей и племянницу ее принимали, по всей Москве катали. И где Вера, когда беда стряслась? Встречу ее – в лицо плюну, мерзавке.
Вскакиваю с места и иду к столу, на котором лежат сигареты. Раз уж все курят прямо в комнате, почему бы и мне не начать. Медленно подкуриваю от зажигалки, привычно прижимая руку к груди, к флагу. Огня я боюсь до трясучки и визга, уважаю его, как раб господина. Безропотно признаю его мощь и способность убивать меня: посредством горения кожи или же отравления легких. С огнем мы друг друга ненавидим страстно и заклято, но врага надо знать в лицо, поэтому я курю. Четко понимаю, что в день, когда не смогу поднести к лицу зажигалку, нужно будет срочно звонить своему врачу, потому что это значит, что ПТСР снова ставит перед собой на колени.
Затягиваюсь и выдыхаю медленно через нос и рот густой дым. Вера сказала, что это блажь: готовить я не готовлю, так как боюсь обжечься, а курю – запросто. Она все мои слабости выворачивает так, что становится стыдно, и хочется быть сильнее. Веру я в обиду не дам, она моя. Облокачиваюсь на стол, глотаю дым, смотрю на Артема, которого обнимает мама, гладит, целует.
– Мы тебя любим, сыночек мой хороший, мы тебя никогда не оставим. Все у тебя будет хорошо, мы справимся, Темочка.
– Мама, я заразный теперь, от меня надо подальше держаться, – мрачно говорит Артем. Мне одному хочется его придушить, не дожидаясь, пока за дело возьмется СПИД, или вам тоже?
– Не вздумай так говорить! Никогда. Мы не боимся, Коля, да же?
– Справимся.
– В детстве, – говорит Артем, – когда я болел, ты всегда обнимала и целовала меня, помнишь, мам? Говорила, что не боишься заразиться.
– Не боюсь, конечно. Мы вместе пойдем к врачу. Продадим бабушкину квартиру. – У родителей есть немного недвижимости, которую они сдают, и неплохо живут на аренду в том числе. – У тебя будет самое лучшее лечение.
– Спасибо, мам.
– А эта сука пусть только попробует на глаза показаться, – решительно говорит дядя Коля, – я за себя не ручаюсь.
– Зачем ты врешь? Мне просто интересно, вот зачем? – не выдерживаю. Кустовы всей троицей смотрят на меня. – Не так же все было.
– Вик прав, – кивает мне Артем. – Ее можно понять, любой был бы в шоке. Может, она одумается и вернется. Я же все еще люблю ее, идиот. И жду каждый день.
– Твою ж мать, – тушу сигарету в пепельнице и иду к выходу. Бросаться с кулаками на умирающего брата при матери – не лучшая идея, правильным будет уйти по-хорошему и как можно скорее. – Мне пора – работа. Извините.
Мать перехватывает в коридоре, тащит за руку на кухню, закрывает дверь и начинает кричать:
– Ты как себя ведешь?! Брату плохо, он нуждается в тебе, а ты что делаешь?!
– Мама, СПИД-терроризма не существует.
– Когда с тобой случилась беда, все кинулись на помощь! Все делали, что могли, из кожи вон лезли, Артем каждый день звонил, в больницу мотался с общаги, с другого конца Москвы. Факультет приличный бросил, так как платить нечем было, все деньги на твои операции ушли! А у тебя работа вдруг появилась неотложная?! Да ты раньше обеда ни разу глаза еще не продрал!
– Что ты от меня хочешь? Я сказал, что деньгами помогу...
– Да причем тут твои деньги!? Мы не нищие! Никто твои копейки отнимать не собирается, если хочешь быть самостоятельным, жить обособленно – дело твое, никто к тебе не лезет. Но когда в семье беда, будь добр, найди время поддержать брата, дать понять, что он не один, что у него есть мы!
– Хорошо, – сквозь зубы.
– Артем сказал, вы с Верой общались после их разрыва. Что она тебе все рассказала одному из первых.
– Да, так получилось...
– Позвони ей, поговори. Объясни, что эта болезнь – не приговор, мы поможем. Что Вера Артему нужна сейчас особенно сильно, когда все отвернулись. Мы сделаем вид, что ее отвратительного поступка никогда не было. Хотя мне так и хочется высказать все, что думаю о нашей Верочке дорогой. Если ты не позвонишь, это сделаю я.
Не то чтобы я собирался признаваться родителям, что кручу с Верой бурный роман и она давно живет у меня, но.. я действительно готовлюсь к тому, чтобы отпустить ее через месяц... но никак не передать обратно в заразные лапы Кустова. Я же знаю, какой он, он никогда не изменится. Я не пущу ее, только не к нему.
– Белов, пожалуйста, сделай, как просит мама, – на кухню заходит Артем, выглядит, как побитая собака, смотрит жалобно, а сам будто ростом ниже стал. Кажется, ему и правда плохо, кожа серая, взгляд потухший, он словно и правда умирает, хотя так быстро вирус бы не смог бы подкосить этого двухметрового лося. Видимо, сам себя доводит, как и Вера моя. Все наши страхи, блоки, неудачи берут начало в голове. Череп защищает обитель боли и удовольствия от механических повреждений, но проблема-то в том, что покромсать себя можно и без применения физической силы.
– Мы на этой неделе уже дважды завтракали вместе, – продолжает он. Об этом я не знал, и, видимо, замечая, как вытянулось мое лицо, он слегка улыбается. – И она дала понять, что все еще неравнодушна. Но... ей нужен толчок. Арину я пока не хочу впутывать, надеюсь, и не придется. Вера запуталась, растерялась, но она примет меня обратно, я уверен. И мы забудем эти чертовы недели, будто и не было их никогда. Как страшный дурацкий сон. Начнем с чистого листа.
Забудем те единственные несколько недель, когда я действительно хотел жить, как страшный дурацкий сон.
Мама кивает и сводит руки на груди в умоляющем жесте.
Вера не говорила, что виделась с Кустовым. Ни одного слова. Чувствую себя полным идиотом. Не может быть, чтобы она вернулась к нему после всего, что было. Да ну нафиг, не может этого быть.
С другой стороны, я совершенно не понимаю баб. Обихаживал Настю целый год, влюбился, что только ни делал, в лепешку разбивался. Она ясно дала понять – тоже сильно любит, но в трусы пустит только после свадьбы. Жениться в восемнадцать лет... так хотел ее, что, не поверите, готов был. Пообещал, что как поступлю в лётное, дадут общагу – и сделаю предложение официально. Все сделаю, так хотел сильно. С ума свела, красивая гадина, как картиночка. Ни одной бабы после нее не видел хотя бы отдаленно способной конкурировать. А он пришел из армии и трахнул ее в первую же неделю. Без всяких там штампов и обещаний, просто пришел, увидел, поимел везде, рассказывал потом еще подробно. Тогда таким неудачником себя чувствовал, что впору удавиться было. Вообще, не лучшее мое лето, если вспомнить, что после меня сожгли заживо. Несколько раз.
Потираю пиратский флаг на груди сильнее и сильнее. Горит он уже, но держится, выполняет свое предназначение: не выпускает черную гнилую злость наружу, из сердца. Защищает меня от ненависти, и тем самым других – от меня. Я ж болен дрянью, названия которой не существует, заразили, пока жгли, пока смотрели, как скулю от боли, обдирая ногти до мяса, царапая землю, бессмысленно пытаясь тушить ею себя, сознаюсь во всех мировых грехах, умоляю пристрелить, только прекратить все это. Передали яд от одной души другой. А избавиться можно, только если заново круг запустить, передать эту муку другому. Сказали мне тогда, что теперь я имею право карать, а значит, должен это сделать. А иначе гореть мне вечно в собственном аду, быть недочеловеком, вести войну с самим собой, в которой не стать победителем. Сказали, что должен сделать с кем-то то же, что сделали со мной, иначе от воспоминаний не избавиться, и люк в ад не захлопнуть. Ходить мне по краю всю жизнь, падая периодически. Представляете? Сказали мне, что люк этот гребанный заткнуть можно только другим человеком. Когда ты в пограничном состоянии между жизнью и смертью, подобная чушь почему-то обретает потаенный смысл. Застревает в голове, как пуля в кости, а потом растворяется, впитывается. На рентгене ее не видать, но на самом деле – никуда не девается годами.
Для души вообще существуют лекарства? Грязная она у меня, в пятнах, вытащить бы из тела, да выстирать, отбеливателем посыпать.
Смотрю на Кустова исподлобья.
Тогда, восемь лет назад, я еще не был уродом с огненной бурей в башке, и мне предпочли его. А теперь на что рассчитываю? Неужели ситуация повторится?
Смотрю на Артема, пытаюсь понять, почему этого уверенного в себе козла в женских глазах даже ВИЧ не портит?
– Я поговорю с ней, обещаю, – слышу свой собственный голос.
– Спасибо, брат, – он быстро обнимает меня, мои же руки по швам. Мама улыбается и кивает с благодарностью. – Если поможешь, считай, место крестного отца у будущих маленьких Кустовых – твое.
Еду домой злой, как черт, парковка у подъезда битком, почему все эти люди не на работе? Какой вообще сегодня день недели? Паркуюсь за два двора, иду по улице в домашнем спортивном костюме, сжимая руки в кулаки, не зная, с кем поделиться этой злостью, переживаниями, опасениями.
Что ж делать-то мне сейчас? Как поступить правильно? Даже в гребанное любимое кафе не пойти кофе выпить.
– Виктор Станиславович, вас можно на пару минут? – вдруг незнакомый мужской голос переключает на себя внимание. Оборачиваюсь – рядом остановился новейший черный «БМВ Х5», из которого вышел представительно одетый мужчина средних лет в идеально сидящем дорогом костюме. Смотрит на меня, вежливо улыбается. – Меня зовут Анатолий Петрович, я от Марата Эльдаровича, – тянет ладонь, приходится пожать. – Садитесь, прокатимся.
Скрещиваю руки на груди, поглядываю то на машину, то на Анатолия Петровича, понимая, что доброта в его взгляде наигранная и лживая, садиться в эту тонированную тачку с номерами три тройки точно не хочется. Выбросят потом где-нибудь в районе свалки со свернутой шеей, и никто ничего не докажет. Номер машины запоминающийся, но спорю, никто из прохожих не сможет назвать даже примерные цифры. Мгновенно вылетают такие из памяти.
– Виктор Станиславович, вы не переживайте, – услужливо открывает мне дверь, – у нас к вам деловое предложение, вам понравится.
– Рожу расквасить ваше предложение?
– Бог с вами! – занервничал он. – И в мыслях не было наносить вред вашему драгоценному здоровьицу, мы вас до дома подбросим и только. Ну, может, круг вокруг двора сделаем. Мы же знаем, где вы живете, не заставляйте к вам подниматься, на кофе напрашиваться. Вы ж не настолько гостеприимны.
Дома Вера, у нее выходной, как назло. Ко мне подниматься точно не надо. Вздыхаю и сажусь в машину. Анатолий Петрович присаживается рядом, впереди еще двое также одетых с иголочки незнакомых мне крупных мужчин. Каждый из них вежливо улыбается, жмет руку. Я в своем поношенном, пропитанным потом после вчерашней страсти с Верой, костюме и старых кроссовках выгляжу более чем нелепо.
Немого успокаиваюсь, хотя все еще некомфортно, когда дверь закрывается, и тонированная в ноль черная машина трогается с места. Слежу за дорогой, но водитель действительно нарезает круги вокруг дома. Пока что.
– Марат Эльдарович выражает вам благодарность за безупречную работу, которую вы выполнили для его отеля...
А чего я, собственно, переживаю? Не такие большие деньги они мне должны, чтобы убивать. Глупости, возни больше. Просто рано утром я плохо соображаю, да и Артем взбесил, заставил вспомнить бред сумасшедшего самопровозглашенного палача и мои бессвязные крики в больничной палате, что не будет этого никогда, и что на мне гребанная цепочка пыток прервется, что унесу ее с собой в могилу. Тьфу, забыть их давно нужно, и у меня же получилось. А вот Артем вывел из себя, и всплыло прошлое в памяти, только лишь о Насте подумал. Нужно врачу позвонить, чтобы успокоил. И закурить нужно. Зажигалки с собой нет, не ношу, в машине только лежит. Но чтобы добраться до «Кашкая», надо сначала из «БМВ» выбраться.
– ...нам крайне приятно было работать с таким обязательным, ответственным, пунктуальным человеком, как вы...
– Тем не менее, вы заявили в суде о моей профнепригодности, и разрываете контракт с «Континентом».
– Понимаете, какое дело, Виктор Станиславович, мы с вами люди умные, грамотные, хорошо выполняющие свою работу. Вы мне очень нравитесь, надеюсь, ко мне вы тоже проникнетесь симпатией.
– Сразу после того, как вернете мои деньги.
– Для этого мы и приехали сегодня к вам, – охотно кивает Анатолий Петрович, просияв широчайшей улыбкой, остальные мужчины в машине молчат. Мы едем уже третий круг вокруг дома. Он достает из сумки пакет и протягивает мне.
– Что это? – не беру в руки.
– Ваши деньги.
– Простите, но я привык получать зарплату на зарплатную карту, и чтобы деньги проходили через бухгалтерию с вычетом налогов. Не могу я, понимаете, обмануть государство, и присвоить себе его тринадцать процентов.
Анатолий Петрович смеется, словно моя шутка поразила его до глубины души.
– С вами так весело, Виктор Станиславович! Здесь половина суммы, которую по условиям контракта вам должен был заплатить «Континент», берите.
Мои руки лежат на коленях.
– Берите же.
– В чем причина такой неслыханной щедрости? Оплатить аж половину моей работы.
– Берите, иначе не увидите вообще ничего. А денежки вам нужны, ипотека сама себя не погасит, да и машину могут отобрать за неуплату. Вы, кажется, просрочили кредит по ней?
– Вам кажется. Если я возьму свои честно заработанные, то должен буду чувствовать себя должным?
Интересно, моя дверь изнутри заблокирована? В случае чего рвануть через нее и бежать? День на дворе, улица людная, не погонятся следом. Не должны. А что потом делать?
– Да не бойтесь вы. Это обычная сделка, таких каждый день в Москве заключаются тысячи. Вы берете деньги и оплачиваете свои нужды, погружаетесь в новые проекты, вы ж такой талантливый, несмотря на молодость. Не губите свою карьеру, не рискуйте понапрасну. Все знают, что талантливые люди рассеянные, бумажная волокита им чужда, ну подумаешь, случайно потеряете бумаги по нашему контракту, удалите переписки, с кем не бывает? Никто не расстроится.
– А, вот к чему вы клоните. Взятка, чтобы я состроил из себя идиота в суде?
– Побойтесь Бога, какого идиота, Виктор Станиславович! Просто случайно удалили не те папки, такое бывает. «Континент» вам все равно не возместит убытки, а Марат Эльдарович идет навстречу.
– А что вам это даст? Судя по тому, какая сеть отелей у вашего босса, моя зарплата и процент «Континента» – капля в море.
– А уж это вас, Виктор Станиславович, не касается никоим образом, – повышает голос, выражение лица мгновенно меняется, от лживого добродушия не остается и следа. Вот так бы сразу – к угрозам, а то мямлит и подлизывается, словно от меня действительно что-то зависит.
– Спасибо вам огромное за предложение, – я тянусь к ручке, дергаю за нее и – о чудо! – дверь открывается.
– Лёня, останови! Подумайте еще, Виктор Станиславович, это взаимовыгодное предложение, которое устроит и вас, и нас...
– А то что? Вы мне угрожаете?
– Нет, конечно! С ума сошли?
– Было дело. Я тоже думаю, что не станете мараться из-за такой ерунды. Я свою фирму не опрокину, можете передать Марату Эльдаровичу все мое уважение.
Машина останавливается, и я резко выпрыгиваю и иду домой. Этого еще не хватало, чтобы обо мне слух прошел, что подставил собственного босса. Предложенная взятка не стоит карьеры, ее не хватит, чтобы сбежать на Багамы и ни в чем там себе не отказывать до старости.
Ага, заволновался Марат Эльдарович! Этого стоило ожидать, юристы «Континента» нашли, что ответить его адвокатам. Взяли старого урода за яйца. Я думал, у него козыри в рукаве, а оказывается, нихрена у него нет, кроме наглости. От меня теперь многое зависит. Может, еще увижу свои денежки, как знать. Получу зарплату – и сразу в клинику записываться на операцию, пока еще что-нибудь не случилось.
Повышению настроения данная беседа не способствует, но сейчас мне хочется только одного – остыть, хорошо бы в душе. На улице так невыносимо жарко и душно, что я едва не бегу в свою прохладную берлогу. Теперь к злости на Кустова, маму, Веру добавляется еще нетерпение и желание побить в этом деле Марата Эльдаровича. Хрен я позволю ему выплыть чистеньким из затеянного им же спора, буду стоять на своем до последнего. Пусть все знают, что я не позволю на себе ездить. От решительности и нетерпения схватки потряхивает. Скорее бы.
Возле подъезда пританцовывает, мать ее, Алиса собственной персоной. Истину говорят – кто рано встает, тот быстрее умрет. Обычно я спокойно сплю в это время, а стоило встать с петухами – сразу столько гадости навалилось, выть впору от бессилия.
Увидела меня – машет и кидается сломя голову встречать. Интересно, она поднималась домой? Что ей сказала Вера? Еще по этому поводу скандала сегодня не хватало!
От досады руки опускаются. Ну как, скажите, как до нее донести, чтобы к черту катилась из жизни моей?! Посылаю ее нахрен с ходу, не замедляя шага, от всей души, грубо, с чувством, так, чтобы дошло. Чтобы поняла, что нахрен мне не сдалась, что всё – потрахал ее и забыл, не нужна. На одну ночь. Давалка, идиотка, шлюха, чтобы лила свои слезы крокодильи подальше от меня, и увижу еще раз – нос сломаю, без шуток сломаю. С меня станется, и не на такое способен. Ору на нее прямо на улице, и по глазам вроде видно, что верит. Убегает. Если простит и этот выпад, то не знаю, что и делать. Не бить же, в самом деле? Жестче я разговаривать не умею.
Захожу в подъезд, по-прежнему понятия не имея, как себя повести. В глаза бы Веры посмотреть для начала, потом уже действовать.
***
Белов сумасшедший. Он притащил ее на мост и собирается заставить смотреть, как к нему какие-то незнакомые странно одетые люди, на вид – обкурившиеся неопрятные хиппи из фильмов про забугорные шестидесятые, цепляют веревки. Еще и денег им собирается дать за это.
С этого моста прыгать запрещено, опасно, но на закате народ сигает с криками ужаса в черную пустоту, прямо вниз, на острые камни, растопырив руки, доверяя свою драгоценную единственную и неповторимую жизнь ненадежным, потасканным с виду креплениям и подозрительным людям, их притащившим, которые ни за что не несут ответственности.
Он купил ей бутылку шампанского, открыл в машине и протянул.
– Отмечать твою погибель?
– Начни с тоста за мое здоровье, – тянется к ней, прикрывает глаза, она к нему, трется своей щекой о его. Трется, трется, кожа к коже, душа к душе. Она его так обнимает, когда он нуждается. Ну и что, что руками нельзя. Зачем ей вообще руки, разве без них она не покажет ему, как сильно он стал дорог?
– Нужен мне, – шепчет ему, а он сильно зажмуривается, но не отвечает. – Очень.
– Я каждый месяц прыгаю, Вер, – говорит ей. – С парашютом еще несколько раз в год. Мне это надо.
– Адреналин?
Она все трется и трется уже о другую щеку, нежно касается губами. Ну что ему опять не сидится на месте, зачем эти приключения? Все же хорошо было.
– Острые ощущения, – улыбается он, и Вера тут же ловит эту улыбку губами. Она грустная. За эти недели они провели вместе так много времени, что кажется, уже год встречаются. Дату бы отметить, да не наступила еще ни одна приличная. С ним неделя идет за два месяца, нужно посчитать и устроить праздник.
Его пальцы сильно сжимают ее ладонь.
– Боишься за меня? Я ж не люблю тебя Вера, ты тоже веди себя так, будто не любишь.
Им обоим уже смешно от этих нелепых слов, прыскают, отворачиваясь. Можно подумать, их потряхивает от потребности скорее прикоснуться к телу друг друга, даже при короткой, в несколько часов, разлуке, потому что они совершенно не любят друг друга. Он приучил ее ласкаться языками, что могло бы показаться слишком, даже мерзко еще полгода назад, предложи ей другой мужчина, но он делает это по-особенному, и ей это нравится. Втянулась. Отвечает охотно, на равных. Это их секрет так делать друг с другом.
Она ему кивает. Разумеется, они облизывают друг друга потому, что не любят. Нисколечко. Ни грамма. Дурак он колоссальный.
Да они расстаются только потому, что обоим надо работать, иначе бы дни напролет что-то делали вместе. Потому что комфортно вдвоем. Молчать комфортно, пялиться в разные книги или планшеты, ругаться, мириться, – лишь бы вместе. Поодиночке не то. А с другими не хочется, ей так точно – ни одной капли. Тошнит при одной мысли позволить к себе прикоснуться другому мужчине. Сразу к нему надо бежать, чтобы дал понять, что по-прежнему нужна. А пока это так – ничего не страшно.
– Дотяни хоть до августа, Вик. Как я без тебя? ВИЧ убьет меня раньше времени.
– Твои мысли тебя убьют, ненормальная. Пошли, посмотришь, как я летаю.
Он выпрыгивает из машины, Вера выходит следом.
– А сами бы вы рискнули прыгнуть? – спрашивает она с вызовом у поджидающего их мужика неопределенного возраста с неухоженной заплетенной в косичку козлиной бородкой и недостаточно надежными, чтобы доверить своего родного человека, веревками в руках. Рядом толпа зрителей, не менее двадцати подростков. Оказывается, на добровольные прыжки с двадцатиметровой высоты нужно записываться заранее. Оказывается, это дорого, и нужно еще очередь отстоять.
Мужчина в поношенной одежде и грязных рваных китайских кедах усмехается.
– Тебе понравится, кроха, не бойся. Это абсолютно безопасно.
Белова упаковывают, он бегло проверяет крепления и легко запрыгивает на бордюр. Его держат за ноги, пока он стоит и смотрит вниз, на верную смерть.
– Тебя толкнуть или сам? – лениво спрашивает человек с бородой, пожевывая зубочистку. По-видимому, он тут самый главный. Документы бы его сфотографировать на всякий случай, да вряд ли они у него есть.
– Сам, – отзывается сзади Вера, надеясь, что в Вике проснется хоть чуточка благоразумия и он откажется. Пусть деньги не вернут, ей не жалко. Она готова еще и доплатить, лишь бы отпустили их по-хорошему, не заставляли.
Она зануда, которая не умеет веселиться. Понимает, что ведет себя, как настырная мамаша, которая вот-вот начнет раздражать. Но если с ним что-то случится, как она будет жить дальше? Он же держит ее за руку, когда ей страшно. А когда она порезала палец на днях – нож съехал с апельсина – он облизал рану прежде, чем она успела что-то сообразить. Кто еще будет так делать? В нем будто вырвали с корнем чувство самосохранения, зачем он с ней спит и лезет на этот мост сейчас? Чего ему не хватает?
Может, дело вообще не в ней? Может, он и правда не любит ее, как говорит постоянно. Просто ему нравится ходить по лезвию, возбуждает близость смерти. Может, она в нем ошиблась, и он просто псих, ищущий возможность прикончить себя поскорее? Адреналиновый наркоман?
От этих мыслей сердце пропускает удар. Вера сжимает кулаки, понимая, что отомстит ему за них так изощренно, как только сможет. Прямо сейчас. Держись Белов, довел. Сам виноват. Она ему подарит острые ощущения.
Тем временем Вик стоит пару минут, разводит руки широко, оборачивается и широко улыбается. А затем прыгает! Не делает шаг, а именно прыгает вверх и вперед, но не взлетает, как птица, а падает вниз на бешеной скорости несколько секунд, сгибая ноги в коленях, он кричит что-то вроде: яхууу! А потом висит на веревке и машет ей, пока его тянут вверх несколько сильных мужчин.
– А ты, красотка, следующая? – обращаются к ней. – Белов два прыжка бронировал.
– Не, она не будет, – оказавшись на земле, он поправляет крепления под аплодисменты зрителей, с кем-то здоровается за руку, с кем-то перебрасывается парой слов и показывает жестами, чтобы ему позвонили позже. – Второй прыжок тоже для меня.
– Буду, – она решительно выходит вперед, откуда-то берется уверенность, что обязательно сделает это.
– Эмм, нет, она не будет, – Белов делает шаг назад, не давая снять с себя страховку. – Вер, ты чего? Это же опасно.
– Ты ж прыгнул, ничего не случилось. Я тоже хочу летать.