
Текст книги "На земле живых (СИ)"
Автор книги: Ольга Михайлова
Жанры:
Классическое фэнтези
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 18 страниц)
Тот спросил, глядя на Ригеля исподлобья:
– Разве Ему нужны твои молитвы?
Со времени их почти четырехмесячного пребывания в Меровинге это были первые слова Риммона, напрямую обращённые Сиррахом к Ригелю. Эммануэль опустил глаза и тихо проговорил:
– Он – бессмертие. Молитва – соединение с Ним. Это нужно мне.
Риммон улыбнулся. Он не понимал, но мирный покой души, установившийся столь нечаянно, разрушать не хотелось. Они вместе вышли из храма и побрели по заснеженному двору в свой корпус. Неожиданно Риммон спросил:
– А где ты научился писать стихи?
Ригель робко пожал плечами и сказал, что воспитывался в доме священника, любившего поэзию. Сам он начал сочинять ещё в детстве. Они подошли к спальням, и Эммануэль, повинуясь приглашающему мановению руки Риммона, прошёл в его апартаменты. Он никогда здесь раньше не был. Вся комната – темно-красные портьеры, глубокие кресла с вольтеровскими спинками, деревянные шкафы, доверху набитые старинными фолиантами, мрачные картины в тёмно-бордовой и буро-зелёной гамме, черепа на столе – всё носило на себе отпечаток личности хозяина.
Эммануэль, пока Риммон разжигал камин, листал лежащую на столе книгу. На странице, заложенной засушенной веткой с цветком жимолости, он вполголоса прочёл: 'Упражнения в истинной магии не требуют обрядов и заклинаний; нужна лишь глубокая вера в великую силу магии. Истинная магическая сила заключена в истинной вере, истинная же вера основывается на знании, и без знания не может быть веры. Если я знаю, что божественная мудрость может совершить некое деяние, я обладаю истинной верою. Если же я лишь полагаю либо пытаюсь убедить себя в том, что верю в такую возможность, это не есть знание и это не дарует веры. Никто не может обладать истинной верою в то, что не есть истина, ибо такая 'вера' будет лишь убеждением или суждением, основанным на неведении истины...'.
Эммануэль усмехнулся.
– Полагаешь, что это не так? – заметив его усмешку, поинтересовался Риммон.
– Автор считает, что вера – есть глубокая самоубежденность, самоуверение самого себя в некой истине. Это не так. Вера – это мистический дар Бога человеческой душе, жаждущей, достойной и способной вместить Его. А магия – это попытка души, оказавшейся недостойной Божественного дара и потому лишенной его, управлять сверхчеловеческими потенциями. В основном – это удел безнравственных людей.
– Разве магия – не есть просто стремление постичь Божественный мир?
– Зачем же для этого магия? – И Эммануэль тихо прочитал:
Не в волхованиях Халдеи, не в мистериях Элевсина
изначального Бытия постижение,
но случайные его видел я отражения
в запахе жасмина, в утончённости паутины.
Неуловим шалфея аромат чародейный,
лепестков лилейных тайна невместима.
Я изнемог, осмысляя идею жимолости
и непостижимость орхидеи...
– Невер прав, Эммануэль, neс mortale sonas, 'не смертный глаголет'. – На пороге апартаментов Риммона стоял Гиллель Хамал.
Сиррах с приветливой улыбкой поднялся навстречу и протянул руку Гиллелю. Они по-приятельски обнялись. Ригель и не подозревал об их дружеских отношениях.
– Рад вас видеть, Хамал.
Гиллель опустился в глубокое кресло.
– Вы говорили о вашем хересе, Риммон... Фино, Амонтиладо, Олорозо?
Сиррах улыбнулся и кивнул.
– Олозоро. Он в погребе. Сейчас принесу.
Оставшись наедине с Эммануэлем, Гиллель мягко прикоснулся к его руке и вполголоса заметил:
– Риммону вовсе ни к чему знать о моих скромных дарованиях, Ригель. Становится опасно. Узнай слишком многие о моих экстравагантных способностях, и я не дам за свою жизнь и ломаного гроша...– он вздохнул, помолчал, а затем, без всякой связи с предыдущим, добавил, – А знаете, я тоже пишу стихи. И тоже – о смысле жизни.
Вошёл Риммон с пыльной, тёмного стекла бутылью.
– Ну вот, отведайте.
Бутыль была торжественно раскупорена и со знанием дела продегустирована. Затем Риммон и Эммануэль стали просить Гиллеля прочитать им что-нибудь.
– Он давно мне обещает, но все время откладывает, – пожаловался Риммон.
– Ладно, сегодня я в духе, – заметил Хамал, и тихо начал:
Там, где лишь тихий шум прибоя,
извечно размеренный и спокойный,
у старой таверны, где так назойливо
трещанье цикад и нежен запах магнолий,
щемящие спазмы сердечной боли
прошли и были забыты мною.
Я, затаившись, вслушивался
в бескрайние вересковые пустоши,
в створки раковин устричных,
в журчание речной излучины, без устали
постигая шестым чувством
неизреченное бытийное искусство.
Я – птичьи трели интерпретировал,
цитировал на память римские сатиры,
надписи ветхих папирусов
разбирал придирчиво, искал эликсиры
вечной юности, догматизировал
казусы Торы и Каббалы варьировал Сефиры.
Грезил я, в заблуждения впадая,
хоть единожды, хоть нечаянно,
впасть и в Истину. Но обретал ли?
Песком меж пальцев, ветром ускользая
в проёмах оконных, облаком в небе тая,
она исчезала, меня отвергая...
До вас мне, конечно, далеко, Эммануэль, но я вам подражаю. – Хамал скромно опустил глаза.
– 'Вернейшая порука мастерства – не признавать своё же совершенство', – с улыбкой процитировал Эммануэль в ответ Шекспира.
Ригель расслабился и как-то отогрелся. За окном тихо падал снег. В камине трещали дрова, тёмное вино золотилось в искрах пламени. Рантье, огромный лохматый пес Риммона, с аппетитом грыз у дивана баранью кость. Откуда-то пришло ощущение, что он дома. Риммон разлил оставшийся херес по стаканам и недоумённо заметил:
– Почему это кругом одни гении да поэты, а я один – бездарь? Впрочем, это не главное, – успокоил он себя. – Вот что, господа, – он извлёк из кармана помятый листок, исчёрканный чернилами, – помогите-ка мне.
– Это, я полагаю, мадригал в честь прекрасных глаз Эстель? – невинно поинтересовался Хамал.
Эммануэль снова удивился. Слова Хамала предполагали весьма короткое знакомство – сам он никогда бы не осмелился заговорить с Сиррахом о его увлечении. Риммон же нисколько не удивился и ничуть не обиделся на реплику Гиллеля, но насмешливо заметил:
– Не угнетайте меня своей чрезмерной ментальностью, Гиллель. У неё день рождения в январе. Подарю ей бриллианты и стихи. В общем, посмотрите, исправьте, а ещё того лучше, сочините заново за меня.
Эммануэлю стало немного грустно. Он не мог подарить Симоне ничего, кроме стихов. Между тем Хамал подтянул к себе листок и начал разбирать риммоновы записи. Ригель вслушался в анализируемый текст. Стихотворение хоть и носило отпечаток истинного чувства, свидетельствовало о весьма слабом знакомстве автора с правилами стихосложения.
– Надо всего-навсего немного поправить размер и добавить рифмы, – невозмутимо сказал Гиллель, и на чистом листе за несколько минут создал новый вариант. Эммануэль внимательно прочитал его, вычеркнул несколько слов, другие – заменил. Хамал кивнул, соглашаясь с исправлениями. Стих переписали начисто. Риммон внимательно прочитал написанное.
– Вы что, издеваетесь, господа? Считаете мою избранницу дурой? Да она с третьей же строчки поймет, что это писал не я! Что такое 'Анадиомена', Бога ради?!
Хотя это слово употребил в мадригале Хамал, Риммону ответил Эммануэль, пояснив, что это один из эпитетов Афродиты – 'выходящая из пены'. Риммон пожал плечами и снова уверил своих сокурсников, что ему никогда не удастся убедить Эстель в авторстве подобных строк. Неужели нельзя написать попроще?
-Перепишите своим почерком, сделайте пару орфографических ошибок, сбоку посадите кляксу...– хладнокровно посоветовал Хамал.
Риммон возмущённо блеснул глазами.
– Я, вообще-то, по чистописанию и грамотности у отцов иезуитов всегда был первым!
Эммануэль, слушая их перепалку, с изумлением снова отметил явное взаимное доверие и теплоту отношений, хотя ему самому Риммон всегда казался человеком резким и жестоким. Было также очевидно, что Гиллель Хамал в глазах Риммона имеет высокий авторитет, и его суждения весьма уважаются собеседником.
Тут раздался тихий стук в дверь, Риммон вышел и спустя минуту вернулся с небольшим конвертом в руках. Он неторопливо надавил на сургуч и развернул несколько листов, исписанных бисерным почерком.
– Простите, господа. Это ответ на моё письмо поверенному.
Пока он читал, Ригель и Хамал обменивались мнениями о хересе. Эммануэлю не нравились креплёные вина, но старый херес Сирраха, пахнущий дубовой корой и какими-то странными смолами, пришёлся ему по вкусу. Хамал же оказался знатоком вин и начал было рассказывать Эммануэлю историю изготовления хереса, но неожиданно осёкся.
Риммон застыл в кресле с письмом в руках как изваяние. Гиллель окликнул его.
– Риммон! Дурные новости?
– А? – Сиррах вздрогнул, словно спросонья. – Да. Новости. Это всё вы с вашими утверждениями, что лучший способ уверить девицу в серьезности намерений – подарить ей бриллианты. Вы сказали, они красноречивее любых слов. – Хамал кивнул головой, даже не думая опираться от сказанного. Риммон же продолжил: – Я просил поверенного подобрать ювелирные украшения для Эстель Он сообщает, что старик Моозес, вы должны знать его, Хамал, это вас касается, предлагает на продажу редчайшие камни.
Хамал пожал плечами.
– Да, Моозеса я знаю, он ювелир и был другом моего покойного деда, и часто бывал в доме. Я работал у него некоторое время, дед настоял, чтобы я прошёл у него выучку. Но почему это меня касается?
– Он продает колье и серьги, сделанные вашим дедом, Хамал.
Гиллель улыбнулся и развёл руками.
– Мой дед работал почти полвека, Сиррах, и сделал немало дамских украшений – даже для королевы Евгении. Если там его клеймо, смело можете покупать. Не сочтите это снобизмом или фамильной гордостью, но он действительно был мастером. Все его вещи уникальны, отличаются изысканностью и весьма утончённым вкусом. – Он умолк, заметив выражение лица Риммона, и обеспокоенно поинтересовался. – Что с вами?
– Моозес продает украшение в виде виноградной лозы, – Риммон уткнулся в строки письма, – где это?.. а вот... с листочками из золота и виноградными кистями из бледно-зелёных бриллиантов. Он много делал таких? – Хамал побелел. – Эстель и Симона говорят, что такое было у Лили.
Хамал неестественно побледнел, почти до синевы.
– Вы хотите сказать, что это оно?
– Не знаю. Вы его видели? На Лили?
Хамал кивнул. Риммон соображал быстро, действовал ещё быстрее.
– Надо ехать к Моозесу. Нам вдвоём. Я, признаюсь вам, вообще не помню камней Лили, я-то и глядеть на неё не мог без отвращения, а вы опознаете их безошибочно. Не говоря уже о том, что мы сможем расспросить Моозеса о том, кто ему их продал или заложил. Вернее, – вы. Вам он скажет, мне – нет. Заодно я выберу подарок для Эстель. Вы же знаете цены? – Хамал потерянно кивнул. – Не дайте мне переплатить или купить дешёвку. Я прикажу заложить карету. К ночи будем в городе. Переночуем в гостинице, а утром – к ювелиру, – Риммон быстро вышел.
Хамал с трудом выбрался из кресла, опираясь на подлокотники. Эммануэль подошёл к нему.
– Будьте осторожны, Гилберт. Мне почему-то страшно, – Ригель со дня смерти Виллигута упорно называл Хамала Гилбертом, чего тот обычно старался не замечать. Но сейчас ему было не до того.
– Мне почему-то тоже, – сдержанно отозвался он, тщетно пытаясь унять дрожь пальцев.
Через полчаса они с Риммоном уехали. Ригель проводил их глазами до самого поворота. Отъезжающая карета показалась ему странно призрачной в белом лунном сиянии.
Глава 16. 'Из бездны взываю к тебе, Господи...'
'Магия, матерь любых догм, есть замена отпечатка – следом,
действительности – тенью.
Она есть ложь истины и истинность лжи'.
Элифас Леви. Догма высокой магии. Париж. 1856. ХХII, 22.
Мысли о Хамале и его полных значения словах об опасности, грозящей ему, о неизвестном убийце, все ещё остающемся неразоблачённым, размышления о Риммоне, оказавшемся при более близком знакомстве человеком умным и неординарным, и, наконец, тяжелые раздумья о Морисе де Невере и Симоне всю ночь не давали Эммануэлю уснуть.
Он разобрался в себе. Рассчитывать на любовь Симоны было с его стороны просто нелепостью. Что он мог ей предложить? Её любовь к Морису де Неверу, если он понял всё правильно, объяснима и естественна. Морис – красив, добр, умён и богат. Как не полюбить его? Но любит ли он Симону? С его стороны Ригель не подметил ни одного жеста, свидетельствующего о каком бы то ни было расположении. Между тем, Морис щедр на такие жесты. Эммануэль оглядел в свете ночника свою спальню. Морис заставил её изящными антикварными безделушками, заполнил дорогими коврами и занавесами, украсил стены изысканными гравюрами. Он постоянно, сняв мерки с Эммануэля, заказывал по два комплекта роскошного гардероба. Теперь Ригелю не приходилось скрывать потертости на старом сюртуке и расползающиеся швы на рубашках.
Морис любил его, и Эммануэль чувствовал это.
Сам Ригель никогда не считал себя настолько проницательным в любви, чтобы осмеливаться делать какие-то выводы. На мгновение он предположил, что и Невер может отвечать Симоне взаимностью, просто не афишируя своё чувство, чтобы не задеть его самолюбие. Он заметил, что с некоторых пор Морис перестал расточать комплименты Эстель, быстро поняв, что чувство к ней Риммона далеко выходит за рамки светского флирта. Что касается Эрны, Морис прекратил даже кланяться ей при встрече... Не значит ли это, что он увлекся именно Симоной? Сам Эммануэль не воспринял бы такое поведение Мориса как предательство, скорее, смирился бы...
Ведь сердцу не прикажешь.
Господи, как высока и чиста любовь Божья, и сколь много муки и скорби в этой странной и неуправляемой земной любви... Но ещё раз задумавшись о возможности взаимности между Морисом и Симоной, Эммануэль покачал головой. Нет. Ведь он был постоянно рядом. Ни разу ни в манерах, ни в словах Мориса он не замечал ничего, говорящего об увлечении. Да и Лили... Будь Морис влюблён – разве соблазнился бы он возможностью такого суетного и доступного наслаждения? Нет, Морис не любит Симону. Но что тогда будет?
Господи, сжалься надо мною, сжалься над всеми нами...
Воспитанный человеком, давшим обет безбрачия, Ригель умел управлять собой. Он сможет это выдержать. Бог послал ему это испытание, Бог даст ему и силы перенести его. Он сможет, сможет, сможет. Эммануэль вынул скрипку, но заунывный и скорбный звук, вырвавшийся от соприкосновения смычка со струнами, только сильнее опечалил сердце. Он положил инструмент обратно, и перед ним тенью пронеслось странное воспоминание. Он не понял его. Снова вынул скрипку, и вновь вложил инструмент в футляр. Вот оно. Гробы. Они тоже опускались в землю, точно инструменты в футляры. Словно возвращались в свою исконную обитель...
Странное, томительное и скорбное чувство охватило его. Эммануэль замер, оледенев, и ощутил себя в жуткой, пугающей пустоте. Казалось, его покидала жизнь, вытекая, как кровь из венного пореза. В его душе не было привычной богонаполненности, тихой радости веры. Эммануэль забыл о Симоне и Невере, с трудом опустился на стул, приник грудью к столу, погрузившись в молчание этой звенящей, как трель цикады, тишины. Сколько просидел так – он не помнил. Мысли мерно и едва осмысляемо текли в голове, становясь полу-жалобой, полу-плачем, полу-молитвой...
Облачиться бы в рубище и незаметной тенью – облаком – скользнуть по жухлым травам осенним. Мир без Тебя – беспросветность. На храмовых узких ступенях раствориться в потоках дождя, растаять в сумраке тленном... Не оставляй меня! Мир без Тебя – нелепость. Я – ничто и живу потому лишь, что длится этот серый ненужный вечер. Я, как царь вавилонский, взвешен на весах Твоих, и гаснут одна за другой в шандалах оплывшие свечи. ... Кто я, чтобы роптать? Но мир без Тебя – агония. Под сенью крыл Твоих я постиг Полноту – и пустые сжимаю ладони. Сжалься же, Свете Тихий, над чадом Твоим поникшим. Сжалься надо мною. Сжалься надо мною. Сжалься надо мною. Мир без Тебя – безысходность...
Лишь под утро Эммануэлю удалось забыться тяжёлым сном.
Проснулся он после полудня. Риммон и Хамал ещё не вернулись. Съев что-то, не разбирая вкуса, Эммануэль некоторое время сидел, словно в прострации, затем медленно оделся, вышел из замка и побрёл вдоль дороги навстречу карете, которая должна была уже, по его расчётам, возвращаться в замок. С горного уступа он видел дорогу до самого горизонта, но она была пуста. Охряной громадой сзади возвышался Меровинг. Серое море сливалось с серым свинцовым небом. Неожиданно Эммануэлю показалось, что он видит призрачную фигуру человека в лохмотьях. Но тот вышел из лежащего в ложбине рваного тумана и оказался реальностью – бледным и чуть сутулым путником лет сорока.
Тоска не проходила, сердце сжималось в предчувствии беды. Эммануэль вспомнил, что приехав сюда, уже ощущал это. 'Нет, это просто моя боль, это пройдет, – уверил он себя. – Такова воля Господня, я смирюсь, и всё пройдет'. Обернувшись, он посмотрел на замок. Почти до ветхой вековой черепицы цепкие побеги иссохшего плюща оплетали стены и бойницы его безмолвного ночлега. Вдали, у кромки прибоя, послышался тревожный клекот одинокой птицы. 'Нет, напрасно поэт, не любя небылиц, Левконою просил не верить Вавилонским таблицам. Даже если не верить в предзнаменования, не листать фолиантов чернокнижных -так размыты здесь бытия очертания, что случайный странник кажется призраком... Как же устал я дышать затхлостью подвалов, бродить лабиринтами этих полутёмных лестниц ... Симона... горе моё... '
Эммануэль почувствовал, что замерзает, и медленно побрёл по направлению к Меровингу. Мысли всё мрачнее и тяжелее окутывали его. Ему стало страшно. 'De profundis glamavi ad Te...' 'Из бездны взываю к тебе, Господи...'
В эту минуту Эммануэль услышал лошадиный топот и, обернувшись, увидел приближающуюся карету. Риммон почти на ходу втянул Ригеля внутрь, и Эммануэль ощутил железную силу мышц Сирраха. Карета промчалась под въездной аркой и остановилась у Южного портала. Ригель внимательно вглядывался в лица Сирраха и Гилберта, но в темноте кареты ничего не рассмотрел, когда же все трое оказались, наконец, в гостиной Риммона, он не выдержал:
– Ну, не томите же, рассказывайте.
– Риммон приобрел красивые безделушки для своей пассии,– устало и как-то глухо проговорил Хамал. – Покажите, Сиррах, – Риммон достал ларец, обтянутый синим бархатом, и раскрыл его. Голубое мерцающее сияние вспыхнуло мириадами крохотных искр. – Я чуть было не отравился мясным пирогом в гостинице. Сам виноват, пытался съесть некошерное, вот Яхве меня и наказал. Встретились мы и со стариком-ювелиром... Да, – кивнул он головой, поймав вопросительный взгляд Эммануэля, – это камни покойницы. Вы бы заказали уже обед, Сиррах, – обратился он к Риммону, – как едва не отравившийся я нуждаюсь в диетическом питании. Да, надо что-нибудь выпить, bibendum quid!
Эммануэль боялся дышать. Хамал же, точно нарочно испытывая его терпение, принялся обсуждать с Риммоном обеденное меню. Спор был въедливым, выдавая прихотливый и тонкий вкус Гиллеля. Он одно за другим браковал предлагаемые Риммоном блюда. Наконец они сошлись на легком консоме и нежных гренках, улитках по-бургундски, засахаренных фруктах и венгерском рислинге.
Сердце Эммануэля гулко билось. Едва Риммон вышел, он кинулся к Хамалу, вцепившись в лацканы его сюртука.
– Ну, говорите же!
Хамал мягко убрал его руки. Эммануэль обратил внимание на залегшие под его глазами густые чёрные тени. Вчера их не было.
– Старик сказал, что украшения принёс какой-то молодой человек, рассказав, что это-де семейная реликвия, но дела идут плохо и он вынужден продать её. Говорит, что не разглядел лица.
Ригель на мгновение замер.
– А то, что он сказал... соответствовало тому, что он думал?
Хамал долгим, мрачным взглядом окинул Ригеля.
– Нет, не совсем соответствовало. Точнее, совсем не соответствовало.
Эммануэль молча ждал.
– Он сказал Моозесу, что хочет не заложить, а сразу продать украшения.
– И это всё? Немного, – резюмировал Эммануэль.
Хамал судорожно вздохнул. Вошёл Риммон. Слуги стали накрывать на стол.
– Можно сделать ещё ряд умозаключений. Он хорошего происхождения, семья богата – ведь он разбирается в камнях, хотя, ... ну, не важно, а ещё – у него хорошие артистические данные и недюжинные находчивость и смелость.
– Я исключаюсь по всем признакам, – невесело заметил Эммануэль, разглядывая купленное Риммоном колье. На душе его странно похолодело. Он Симоне такого не купит... нет, не то...Что-то он понимал, но само понимание не облекалось в слова и не доходило до сознания.
– А вот Риммон подходит по всем, – ввернул Хамал.
– Да уж, нашли артиста, – Сиррах лениво развалился в кресле и, взяв ларец, внимательно поглядел на камни. – Что нужно женщинам? Зачем им эти побрякушки?
– Бриллианты никогда не были просто украшениями, Риммон. Они отражают статус. А статус будет важен всегда.
– Наверное, вы правы. Кстати, вы торговались, Хамал, как заправский делец. Я много переплатил?
– Нет. Вы не переплатили. Торговался же я не как делец, а как самый обыкновенный еврей. Есть такой забавный анекдот. Еврей обещает Богу, что будет исполнять все заповеди, если Бог даст ему богатство, красавицу-жену и сделает его раввином. Слышащие его молитву говорят ему, чтобы он не торговался с Богом. Тот педантично перечитывает все десять заповедей и уверенно говорит, что заповеди 'не торгуйся' там нет... – Эммануэль и Сиррах улыбнулись.– Я надеюсь, Риммон, камни Эстель понравятся. Они подходят под цвет её глаз.
Некоторое время все молча ели. Неожиданно Риммон заметил:
– А может, Хамал, мы ошибаемся? Укравший камни – ведь не обязательно убийца. Он мог просто знать о них, а, когда Лили убили, подумать, что это – весьма удобный случай стащить их.
– Если так, то воришка – одна из девиц. А продать камни она могла через подставное лицо.
-Девица не стала бы их продавать. Оставила бы до лучших времён. Сами же говорите – 'статус', – Риммон захлопнул футляр.
– Слишком много загадок. Никто так и не знает, как её убили. Есть ли связь между смертью Лили и гибелью Виллигута? Как погиб Генрих? Колдовство какое-то... – Хамал нервно поежился, и Эммануэль снова ощутил исходящий от него странный импульс.
– Я не верю в колдовство, Гиллель.
-А в привороты, Риммон? – насмешливо спросил Гиллель. Губы его раздвинулись в какой-то механической, деревянной улыбке.
– Да ну вас, Хамал! Будь можно колдовством мужчин заманивать, у Хеллы Митгарт были бы любовники!
Хамал нервно расхохотался. Отсмеявшись, заметил, наклонившись к Ригелю:
– Представьте, Эммануэль, нашего красавца мсье де Невера и Хеллу Митгарт у алтаря...
Эммануэль обладал живым воображением, и нарисованная Гиллелем картинка на мгновение вызвала оторопь, потом – улыбку, сменившуюся тихой болезненной грустью. Морис и Симона...
Хамал заметил странности его мимики, внимательно посмотрел на него и опустил глаза. Руки его нервно дергались, он, казалось, готов был сломать себе пальцы. За окном закружились снежинки, и вскоре снег повалил хлопьями.
После обеда Хамал напомнил Эммануэлю о книге, обещанной ему. Эммануэль ничего не обещал Хамалу, но понял, что тот хочет остаться с ним наедине. Он кивнул, и они направились к нему в комнату. В коридоре Гиллель напевал под нос какую-то шансонетку, смеясь, рассказал, как пытался уговорить Риммона сходить в городе в варьете, а сам то и дело поглядывал на Ригеля. Эммануэль, наконец, смог сформулировать свои ощущения.
Хамал солгал ему. Всё совсем не так. Хамал боится чего-то. Он напуган до полусмерти.
Глава 17. Оборотень.
'И под личиной внешней скрыта личность, которой мы вовек не разгадаем...'
И.В.Гёте 'Фауст'.
Едва они оказались в гостиной Ригеля, Гиллель наложил на дверь засов и дважды провернул ключ в замке. Выдержка начала изменять ему. Он рухнул в кресло, вцепившись руками в волосы. Ригель присел на краешек тахты и терпеливо ждал. Страх Хамала передавался ему.
– Это ужасно, Ригель.
– Рассказывайте же, Господи!
– Старик Моозес знает меня с пелёнок. Почти год до поступления сюда я работал с ним. Он любит меня как внука своего друга и невероятно высоко ценит как сотрудника. Говорит, что у меня великолепная интуиция. Вы знаете, Эммануэль, на чём она основывается. Я помог ему заработать на клиентуре сотни тысяч. – Он сглотнул слюну, и руки его конвульсивно сжались, – Моозес обладает огромным опытом и отточенным умом. Обмануть его невозможно... – Гиллель снова замолчал. Эммануэль боялся пошевелиться. – ... а самому ему ничего не стоит надуть любого... Но лгать мне он бы не стал, да и не смог бы, вы же понимаете...
Ригелю показалось, что он уже начал понимать.
– Эммануэль, это ужасно... Он был потрясён моим вопросом и подумал, что я рехнулся.
– То есть... к нему приходил...
– Гиллель-Исроэль-Шломо бен Давид бен Абрахам Хамал! Я, я к нему приходил!!! – сорвался на истеричный крик Хамал.
Эммануэль потрясённо молчал, ни о чём не спрашивал. Опустив глаза, обдумывал услышанное. В глухой тишине было слышно только мерное тиканье настенных часов. Хамал тоже сидел молча, вцепившись в подлокотники кресла.
– ...Я говорил Неверу, что здесь слишком много чертовщины, но это уже чертовщина запредельная, – проговорил наконец, глубоко дыша, Хамал. – Человек, принимающий облик другого... Спасибо, что не подумали...
– О чём? – прошептал Эммануэль.
– 'Не я ли это все-таки был?', 'Не стащил ли я сам в сомнамбулическом сне дедовы бриллианты и не загнал ли их в беспамятстве?' Кстати, вор получил настоящую цену, Моозес же знал, что я в этом разбираюсь не хуже него. Я боюсь, Эммануэль.
– Если речь идет о гриме, под вас могли загримироваться только девушки или... я. У всех остальных – другая комплекция.
– Грим не мог бы обмануть Моозеса Фейбиша. Он знает меня с детства, помнит ребенком. Форма лица, носа, скул, цвет глаз, разрез век и ноздрей! Это не подделать никаким гримом.
– Да, у вас своеобразная внешность. Но вы объяснили этому Моозесу, что произошло? Он рассказал, как прошла встреча с этим человеком? Или бесполезно было разговаривать?
– Старик живёт в мире денег и реальных дел. Но он очень умён, и границы собственного опыта не считает границами мира. Я не смог до конца уверить его, что это был не я, но то, что произошло, я знаю – и с его слов, и – из его мыслей... это чертовщина, Ригель, чертовщина. Подумать только – я сам разгуливаю по городу, предлагаю другу деда ворованное на продажу, и никто ни о чём не подозревает. Страшно подумать – что может вытворить мерзавец, способный на подобные метаморфозы! Но не верить мыслям Моозеса я тоже не могу. Но как поверить в такую дьявольщину? Вы можете? Впрочем, вы же верите только в Писание...
– Я верю в Бога, Гилберт. Но дьявол существует несомненно, как и Бог. Они несопоставимы, но оба экзистенциальны. В чертовщину я верю. Подобное возможно, но...
– Но?
– Такие вещи делаются тоже посредством веры, страшной веры в дьявола, питаемой стремлением ко злу. Но заниматься этим – значит испытывать и гневить Бога, и всякий, кто преуспеет в этом, серьёзно навредит своей душе. – Эммануэль говорил медленно, ему казалось, что надо дать Хамалу время прийти в себя.
– Согласен, но не думаю, что это волнует твердолобых тевтонов типа Нергала или Мормо. Мысль о том, что они гневят несуществующего для них Бога, их не остановит.
– Вы считаете, что это кто-то из них?
– Не знаю. Они, конечно, ambo meliores, оба хороши. Нергал – вервольф, а Мормо – вампир-кровосос. – Поражённый Эммануэль в ужасе замер с полуоткрытым ртом. – Вы разве не знали об этом, Ману? – Эммануэль потрясённо покачал головой. – Я думал, Невер сказал вам. Да, это волк и вампир. Но горло Лили было неповреждённым. Мормо – далеко не дурак и, где живёт, там... не очень блудит и не сильно кусается. Над окровавленным трупом Генриха, мир его грешному праху, Август, конечно, несколько возбудился, но не он убил Виллигута. Он недоумевал не меньше нашего. А если он узнает, кто убил Лили, уверяю вас, убийце не поздоровится. Он мстителен, а тут... это немыслимо, но он до сих пор... скорбит. И это не напускное.
– Но никто из них не мог превратиться в вас?
– Нет. Нергал в полнолуние становится волком и разгуливает по окрестностям. Встреча с ним ничего хорошего никому не сулит, но других метаморфоз за ним не замечалось...
Эммануэль несколько минут молча обдумывал сказанное.
-Значит, здесь собрались вампир, волкодлак, человек, читающий чужие мысли, и некто, принимающий чужой облик? Не много ли в этом странного?
Хамал высокомерно усмехнулся.
– Вы кое-что упустили, друг мой. Здесь ещё была женщина-лярва, высасывающая из мужчин душу... ну, в смысле... у тех, – Хамал прищурил огромные глаза, – у кого она, разумеется, была. Мы чудом или, как выразились бы вы, милостью Божьей избежали этого, а вон Риммон с Невером, те с одной-то ночи – месяц в себя прийти не могли, а уж оба куда как покрепче нас с вами будут. Кстати, вы её особенно почему-то интересовали. А ещё, – продолжил Хамал, судорожно вздохнув, – ещё здесь до недавнего времени пребывал чудной юноша с противоестественными склонностями блудливой бабы, умевший к тому же завораживать. Правда, он не сумел, хотя и очень хотел, приворожить вашего дружка Невера и Бенедикта Митгарта – непонятно почему. Есть тут и ещё особы... тоже дарований неординарных. Так что странного не много, Ману, а очень много. Проблема, кстати, заключается ещё и в том, что негодяй был у Моозеса довольно давно – через три недели с лишним после смерти Лили... Не покойник ли Виллигут приворожил ювелира? Неуёмно жадна до безделушек и ещё одна особа... Не было ли какого сговора между ними? – Хамал тяжело вздохнул. – Вы не обессудьте, Эммануэль, но я просил бы разрешения переночевать у вас. Мне сильно не по себе. С моим сложением глупо играть в смельчака.
– Разумеется, оставайтесь. А... Риммон? Что он собой представляет? Вы, я видел, доверяете ему, но не до конца.
Хамал поморщился.
– До конца. Я просто не хочу, чтобы мои возможности были широко известны. Чем больше людей посвящены в мою тайну, тем выше и степень моего риска. Я слишком много знаю. Ваш дружок Невер, непомерно, кстати, умный для красавца, просто поймал меня тогда. – Эммануэль с укором взглянул на него, но Хамал сделал вид, что не заметил этого. – Я излишне выпил и действительно перепутал, то, что он говорил, с тем, что он думал. Непростительная ошибка. Но Риммон будет опасен для меня только в одном случае – если красавица Эстель вдруг влюбится в молодого еврея. К счастью, пока я нравлюсь ей не больше, чем Митгарт или Мормо. Кстати! Я заметил странность ваших последних помыслов. Вы так легко уступили мсье де Неверу свою любовь... Я-то был уверен, что если между двумя мужчинами встаёт женщина... Суть ваших мыслей мне ясна, но как Вам удается так, как это сказать – самоотречённо, да? – мыслить, для меня непостижимо. Amare et sapere vix deo concendit. Любить и оставаться в здравом уме и богу неподвластно...







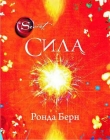
![Книга Слоеный мир [СИ] автора Тимур Лукьянов](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-sloenyy-mir-si-1610.jpg)