
Текст книги "На земле живых (СИ)"
Автор книги: Ольга Михайлова
Жанры:
Классическое фэнтези
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 18 страниц)
А кроме того... ему просто вдруг захотелось угостить друзей.
Глава 28. Не провалился ли он в болото?
'Ущербный месяц сквозь туман
Льёт свет с угрюмым видом скряги.
Ни зги не видно, и при каждом шаге -
Стволы деревьев, камни, и коряги'.
И. В. Гёте 'Фауст'.
Митгарт после похорон вернулся в спальню покойной сестры, разжёг камин и сел в то же кресло, где сидел минувшей ночью. Где камни? – эта мысль не давала ему покоя. Бенедикт плохо знал сестру, никогда не интересовался её пристрастиями и склонностями. Куда она могла сунуть колье? В чем оно? В тряпице, в шкатулке? Камин? Выдвигаться может любой камень, но какой? Он посмотрел на пламя и покачал головой. Не похоже. Кровать? Под периной? Нет, Хелла была скрытной. Скорее, где-то есть укромный тайник. Где? На поиски могло уйти несколько дней.
Неожиданно Митгарт вспомнил, как нервничала Хелла неделю назад, когда он поставил стул около окна. Он встал, подошёл к окну и носком туфли постучал по квадратам паркета. Через несколько минут Бенедикт уже держал в руках чёрный ларец, окованный по углам медными заклёпками. Глаза Митгарта ожили, когда он увидел, что шкатулка битком набита бриллиантами Лили и сверху лежит баснословная драгоценность – 'колье Козимо'. Дождавшись темноты, Митгарт пробрался по коридору в свою спальню. Он задвинул тяжелый засов, поставил ларец на комод, зажёг свечу и тут увидел неожиданных гостей.
С кресел в углах гостиной поднялись Нергал и Мормо.
Ожидая Митгарта, жрецы сатаны договорились, что общение с Бенедиктом возьмёт на себя Нергал, а Мормо заберёт ларец и отнесёт к себе. Но, воистину, 'человек предполагает, а располагает... кто-то совсем другой'. Во всяком случае, попытка Нергала сбить с ног Митгарта не увенчалась успехом, зато от удара Бенедикта Фенриц отлетел к стене. Рядом свалился и Мормо, кинувшийся в драку, а Митгарт, схватив ларец, выскочил из спальни, успев дважды провернуть ключ в замке. Оседлав в конюшне лошадь, он выехал из замка.
Луна шла на убыль, Нергал с Мормо, выбравшись из митгартовой гостиной и с трудом перевоплотясь, бросились следом. При этом наглец-Мормо, не желая расходовать силы, вцепился когтями крыльев в волчьи уши Фенрица и нёсся на нем во весь опор. 'Auribus teneo lupum!', 'Держу волка за уши' – весело пронеслось у него в голове.
Лошадь Митгарта, почуяв волка, тоже мчалась, как бешенная. Силы Нергала стали иссякать, но тут, на его счастье, из-за косогора у Хлипкого моста, проложенного через Вонючее болото, показалась волчья стая.
Кобыла взвилась на дыбы, и завертелась на задних ногах. Секунда – и Митгарт оказался сброшенным вниз через перила моста. Мормо, спикировав на него, вырвал из его ослабевших рук ларец и взмыл с ним в поднебесье. Нергал, помня давешнее, не спешил бросаться вниз, наблюдая, как Митгарт, барахтаясь, пытается выбраться из зловонной жижи, затягивавшей его всё глубже. Волчья стая, свалив митгартову лошадь, пировала неподалеку.
Бенедикт всё глубже уходил в смрадное месиво, Нергал внимательно следил за процессом погружения, попутно отвечая Мормо, сидевшему на перилах с ларцом, и задававшему дурацкие вопросы: любят ли волки больше конину или баранину, отчего это болотные испарения такие вонючие, и – что им лучше заказать сегодня на ужин? Когда Митгарт, не переставая барахтаться и звать на помощь, с головой погрузился в болото, Фенриц, по привычке почесав передней лапой за ухом, сказал Мормо, что пора возвращаться в замок.
Теперь Нергалу пришлось тащить и ларец, и Мормо, снова нахально пристроившегося между волчих ушей. Около Меровинга силы Нергала истощились. Перед перевоплощением он, злобно рыкнув, согнал беспардонного шельмеца с ушей: запутается чёртов нетопырь в волосах, – выдирай его потом оттуда! Мормо недовольно и злобно пискнул, протестуя против нергаловых грубостей, но вынужден был подчиниться.
В итоге в замок пробрались два ночных гуляки-школяра, один из которых прижимал к себе какой-то толстый фолиант, спрятанный под мантией.
Исчезновение Митгарта было замечено не сразу: в последнее время он часто пропускал лекции. Куратор поинтересовался его местонахождением только спустя три дня после похорон Эрны и Хеллы. Обыскали его комнаты, коридоры, порталы. Заглянули на колокольню, в подвалы, прочесали галереи.
Никаких следов.
Наконец кто-то наблюдательный и зоркий, кажется, Мормо, досмотрелся, что в конюшне нет митгартовой лошади. Проехали из Меровинга к городу, и у Хлипкого моста под слоем снега, шедшего накануне, наткнулись на лошадиные останки, обглоданные волками. Но останков Митгарта нигде не было.
– Не провалился ли он в болото? – встревожено высказал роковое предположение обеспокоенный Нергал, принимавший в поисках самое горячее участие. 'Очень может быть', согласились все. 'Не поискать ли?' Но зловонная жижа, смердевшая метановыми испарениями, не замерзавшая и зимой, отпугнула и самых ревностных участников розыска. Некоторое время ещё полагали, что Митгарт может вернуться, убежав от волков, но с каждым днём эта надежда слабела.
Хамал вообще не принимал участия в этой кампании, уверенно заявив друзьям, что Митгарта они больше не увидят, но отверг догадку о прямой причастности к его исчезновению Нергала или Мормо. Ригель поверил и никуда не ездил. Невер и Риммон тоже поверили, но труп искали – чтобы, как заметил Сиррах, 'проветриться'. В итоге – Невер вернулся ни с чем, а Риммон – с подстреленным тетеревом. Случайно повезло.
– Гилберт, почему Вы уверены, что Митгарта нет в живых? – Пока Невер с Риммоном пытались форсировать болото, Эммануэль внимательно взглянул в бездонные глаза Гиллеля.
Спроси его об этом Морис или Сиррах, Хамал высокомерно улыбнулся бы со скучающим видом. Так он делал всегда, чтобы дать понять, насколько он умнее всех остальных. Но перед Ригелем актерствовать никогда не хотелось.
– В этом-то я как раз и не уверен. Мне трудно сформулировать это, Эммануэль. Наверное, точнее всего было бы сказать, что в живых нашего дорогого Бенедикта никогда и не было. На эту мысль меня, признаюсь, натолкнул Невер. Помните, он сказал, что все мы – оборотни? – Эммануэль кивнул. – Риммон слышал под Рождество выстрел в его комнате. Потом видел дыру от пули в диване. А Нергал и Мормо, нюхом-то обладающие, сами понимаете, нечеловеческим, с некоторых пор оба откровенно недоумевали. Нергал унюхал мертвеца, а Мормо чуял свернувшуюся кровь. Митгарт, судя по всему – мертвец, но... похоже, стал им задолго до третьего дня... да и до Рождества тоже, пожалуй. Не удивлюсь, если он им и родился. Кстати! Становится понятной его нечувствительность к чарам Виллигута! К тому же, судя по его мыслям, он был близко знаком и с нашей очаровательной Лили, но при этом это знакомство не оставило у него неприятных воспоминаний. Впрочем, и приятных не оставило. Он думал о ней так же, как размышлял о необходимости почистить сюртук или купить табак.
– Простите меня, Гилберт, а... вы сами сразу поняли всё о Лили?
– Нет. Сначала я подумал, что она – одна из тех, кто, уразумев, что мужчинам от них нужно, считают, что вполне познали мир. Её мысли не раскрывали всех её ...хм... дарований. Но кое-что просто насторожило меня, и я решил... поберечься. Лишь некоторое время спустя, уже наблюдая за недомоганием Невера и Риммона, я понял истинное положение дел. Хотя... понял ли? С Нергалом и Митгартом ничего ведь почему-то не случилось! Ну а последовавшая продолжительная связь с Мормо... Для любой другой, в свою очередь, три ночи с ним подряд были бы смертельны.
Ригель некоторое время молчал, затем спросил:
– А где сейчас Митгарт?
– Нергал и Мормо видели, как он с головой ушёл в болото. Но я склонен думать, что извлеки мы его оттуда и отмой от тины – он будет разгуливать по Меровингу как ни в чём ни бывало. Митгарт – бессмертен, хотя нетление двигающегося трупа – издевательская и удручающая форма вечности. – Хамал вздохнул. – Дьявольский розыгрыш какой-то.
– А вы читали его мысли?
– Да. С легкостью. А что?
– Мертвец, способный думать?
Хамал взглянул в лицо Ригелю.
– Ну, да. – Гиллель опустил глаза и задумался.
Ригель улыбнулся.
– Я не картезианец, но если не всё существующее мыслит, то все же очевидно, что всё мыслящее должно существовать... хотя бы для того, чтобы было кому мыслить. Почему же вы назвали его мертвецом? Чего не было у мыслящего покойника Митгарта, чтобы быть живым?
Хамал закусил губу и молча уставился в пол.
То, что на первом курсе гуманитарного факультета творится чёрт знает что, – было общим мнением всего деканата. Четыре трупа и один пропавший без вести! Quelle horreur! Какой ужас! Да за все века своего существования Меровинг не знал ничего подобного!
– Что ни говорите, а это маньяк. Трое убитых – девицы. И убиты одинаково. Маньяк, без сомнения.
– А что творится в городе! Каждый месяц исчезают люди. Местные крестьяне пытались устроить облаву на этого мифического волка-убийцу. И что же? Ничего. Тупое мужичье. – Профессор Пфайфер высокомерно усмехнулся.
– А говорят, удалось попасть ему по хвосту горящей головней, это так?
– Вздор, его никто не видел...
– Но всё же нужно понять, что происходит, – эмоционально жестикулируя, восклицал профессор Ланери.
– Да, то, что something is rotten in the state of Danmark, очевидно, – поддержал его профессор Уильямс. – Происходит чёрт знает что. На курсе осталось всего восемь человек.
Преподаватель греческого, профессор Триандофилиди заявил, что, прослышав про творящееся здесь многие родители могут забрать детей и со старших курсов. Но главное – что предпринять?
Только двое – куратор факультета Эфраим Вил и латинист Рафаэль Вальяно – не принимали в разговоре никакого участия. На шахматной доске перед ними осталось всего восемь фигур. Куратор улыбался.
Лицо Рафаэля Вальяно было задумчиво и непроницаемо.
Глава 29. Библиотечные изыскания.
'Пергаменты не утоляют жажды.
Ключ мудрости не на страницах книг'.
И. В. Гёте 'Фауст'.
'Нравственность не имеет ничего общего с верой в Бога.
Человек находит в себе самом побуждение к обузданию своих страстей,
к борьбе со своими порочными наклонностями'.
К. А. Гельвеций.
Ларец с побрякушками был заложен Нергалом в основание подножия статуи Бафомета в Зале Тайн. Жизнь в Меровинге, казалось, вошла в размеренную колею. Опасения Хамала не оправдались, но он, прочно обосновавшись в запасной спальне Риммона, возвращаться к себе не собирался. По вечерам он зарывался в библиотечные анналы, а днем, после лекций, они с Сиррахом обычно бродили по закоулкам замка, – Хамал хотел сделать в университетском Обществе изучения древностей доклад о его архитектурных особенностях.
Весьма часто Эммануэль с Морисом становились свидетелями их въедливых и пристрастных дискуссий. Хамал полагал, что название замка – не более чем претензия на древность. 'Разве это средневековье? Да, в замке имеется донжон. Это, кстати, не Центральная башня, пристроенная много позже, а как раз небольшая Северная, в подземном склепе под которой расположен Зал Тайн. Но машикули для навесной стрельбы слишком декоративны для средних веков! То же можно сказать и об отделке башен и зубчатых стен с бойницами. Смесь поздней готики с романским стилем, господа, вот что это такое'. Хамал датировал архитектурный комплекс Меровинга тринадцатым веком.
Риммон возражал. После того, как генерал Клаудио Аквавива в 1599 году утвердил устав 'Ratio atque institution studiorum societatis Jesu', замок почти два столетия принадлежал отцам-иезуитам. Они достроили его и унифицировали строения. Но Зал Тайн, как верно изволил заметить его оппонент, являющийся криптой под донжоном, напоминает, и притом весьма, крипту церкви Сан-Поль в Жуаре, в Иль-де-Франсе, а это, воля ваша, господин Хамал, седьмой век!
– Ну, если уж на то пошло, – язвительно шипел Хамал, – гораздо большее сходство прослеживается между архитектоникой Зала Тайн и церковью Сен-Лоран в Гренобле!
– Не был я в Гренобле! – огрызался Риммон, – но резьба на крышках саркофагов в замке, как мог бы заметить господин Хамал, если бы, конечно, был повнимательнее, – плоскорельефная, а это явное свидетельство меровингского стиля!
Эммануэль с улыбкой слушал их препирательства, чиня перья и конспектируя латинские тексты, а Невер, когда не читал очередной богословский фолиант, просто сладко посапывал под них на риммоновом диване. Просыпался он, когда слуги начинали, звеня бокалами, накрывать стол к ужину, и гостиную наполнял аромат снеди, а иногда его будил Рантье, вскакивавший всеми четырьмя лапами ему на грудь.
Библиотечные изыскания принесли Хамалу неожиданные плоды. На страницах древних инкунабул и свитках ветхих пергаментов, на рулонах хрупких папирусов и на изъеденных крысами обрывках заскорузлых палимпсестов он, к немалому удивлению, то и дело натыкался на знакомые имена. Сын жреца Гекаты в Эгине Фамирис, за свои странные склонности прозванный Мормолик, замечен приносящим жертвы жуткой Эмпузе. В подземелье храма были найдены десятки тел, иссохших и обескровленных. Изгнанный из Эгины, он перебрался в Ликию, а оттуда вскоре исчез неведомо куда...
...Патолс, страшный прусский бог ночных привидений и мертвецов, 'постыдный призрак', проходящий сквозь стены. Его жрецы и жрицы приносили ему человеческие жертвы...
...'И вошли все князья царя Вавилонского, и расположились в средних воротах, Самгар-Нево, Сарсехим, начальник евнухов, Нергал – Шарецер, начальник магов, и все остальные князья царя Вавилонского'. Откуда что берётся? А вот – некий норвежец Тунрид Нергал в 1229 году по Рождестве Христовом из ревности оставил жену в лесу на растерзание волкам. А вот ещё один Нергал – Фридрих. Хо, уже в Швейцарии. 1465 год. За жестокость прозван Черным Бароном...
...Под древними гербами, увитыми змеями, мелькнули знакомые если не по написанию, то по звучанию фамилии Midgard и Niеrach... Глава одного из родов – по имени Бенедикт – продал душу дьяволу за бессмертие, а представительница другого – свыше двух веков продлевала свою жизнь, научившись красть жизненные силы своих молодых любовников...
...Бартоломео Микеле ди Фьезоле, ученый-книжник и мистик, в 1443 в Ломбардии обвинен в колдовстве и ереси. Сожжён. ...Некий Джон Утгарт, моряк, выгнан из деревушки Вудли по подозрению в колдовстве и наведении порчи...
Но некоторые имена не попадались нигде.
– Невер! Откуда Вы родом?
– Из Ньевра.
– Вы по виду и манерам – из скромных рядов древней аристократии...
– Невер – это не полная, но родовая фамилия. – Морис пожал плечами и усмехнулся. – После 9 термидора нам вернули замок Нуар Невер и земли, но мой дед – Арман-Франсуа – предпочел оставить фамилию, взятую прадедом после 1789. Тот – Гийом Донасьен де Нуар-Невер – стал именоваться просто Гийомом Невером. Несколько раз он чудом ускользал от собратьев аррасского адвоката. Я слышал, что он был весьма низкого мнения о своих соотечественниках, и ожидал новых бурь, что, кстати, говорит о большой прозорливости. Тогда же он, говорят, заявил, что если на вершине иерархической лестницы стоит не трон, а гильотина, карабкаться по ней слишком рьяно – глупо. Дед же продал замок, обратив имущество в ценные бумаги, купил скромный дом в пригороде Парижа и имение в провинции, и усиленно изображал буржуа. Даже во времена Реставрации предпочёл не высовываться, правда, снова стал зваться де Невером. При этом, и прадед, и дед в каких только передрягах не бывали, но всегда выскальзывали без единой царапины.
– Немудрено. А ваш отец?
– Фактически, дворянин-рантье в третьем поколении. Не мне судить, но безделье очень угнетало его. Он увлёкся какими-то опытами с сурьмой и сулемой. Его нашли мёртвым в своей лаборатории, когда мне было семнадцать. В тот день он зашёл пожелать мне доброго утра и сказал, что видел во сне мать. Это было так странно. Он вообще никогда со мной о ней не говорил.
– А кто была ваша мать?
-Тоже, как вы выражаетесь, из скромных рядов древней аристократии. Их семья в родстве с Шатобрианами. Прожила она, правда, мало. Мне и трёх лет не было, когда её не стало. Кормилица говорила, что она была удивительно красива. Как ангел. Впрочем, из-за отца, это мой камердинер сплетничал, ещё до моего рождения несколько дам высшего света просто передрались. Говорят, знаменитый своей красотой де Руайе в сравнении с ним казался просто уродом.
Хамал промолчал. Комментарии не требовались. Он ещё некоторое время внимательно наблюдал за Невером, рассеяно глядящим в окно, а потом неожиданно обратился к нему.
– Вы это всерьёз?
Невер взглянул на Гиллеля.
– Что?
– Я говорю о вашей мысли, что красота – обуза, и вы готовы поменяться внешностью с любым из нас.
Морис пожал плечами.
– Поймите, Хамал. Для женщины красота – в известной мере компенсация за внутреннюю пустоту. Да, говорим мы, пустышка, дурочка, но зато – какая красавица! А для мужчины, одаренного этим никчемным женским даром, всё иначе. Его красота как дворянство. Только обязывает. Вам ничего не прощается. Если вы в чём-то несовершенны, спрашивают, – по какому праву вы тогда так красивы?! Не говорю и ещё об одном обстоятельстве. Помните, когда мы после похорон Лили пришли к вам с Эммануэлем?
– Конечно.
– Вы же тогда, я прочёл это по вашему лицу, были не только рассержены тем, что вас раскусили, но и изумлены тем, что это сделал я. А всё потому, что не принимали меня всерьёз. Но почему не принимали-то? Если задумаетесь, поймёте. Вы подсознательно склонны были считать красавца глупцом, хотя никаких оснований для этого у вас не было.
Хамал закусил губу и усмехнулся, а Невер между тем продолжал:
– Есть и другие неприятные моменты. Вас почему-то считают созданным для любви, и любая девица претендует на вас как на возможную собственность. А мне, извините, Хамал, как и любому мужчине, хочется принадлежать, прежде всего, самому себе.
– Проще говоря, чем больше в красавце мужчины, тем больше он ненавидит свою красоту?
Невер подумал и кивнул.
– Мне нравится ваша формулировка.
Хамал продолжал свои изыскания. Дом Риммона и Скала Риммона попадались ему в Книге Навина, в Книге Царств, у Неемии и Захарии. А вот – Черный род Риммон из Дамаска. Дьяволопоклонники. Волхователи. Факиры. Спасаясь от преследований, в десятом веке перебираются в Европу...
– Сиррах, вы совсем ничего не знаете о корнях своего рода? Вы не евреи? – осторожно спросил Хамал Риммона.
– Я осиротел в двенадцать лет. Но помню, мать говорила, что наши далекие предки – сирийцы.
Хамал счёл за благо прекратить расспросы и углубился в архитектурные исследования.
Но не все, подобно Хамалу извлекали из книг интересные сведения. Гиллель, пришедший как-то к Эммануэлю в спальню пожелать доброй ночи, несколько минут удивлённо следил за Ригелем. Лицо Ману было искажено, но в неверном свете пламени камина трудно было понять его гримасу. Эммануэль медленно рвал книгу и бросал листы в огонь.
– Что вы делаете, Эммануэль?
Ригель повернулся к нему. Нет, он лишь показался взволнованным. Черты были как обычно бесстрастны, лишь нижняя губа была брезгливо оттопырена, а в тёмных глазах, казавшихся почти чёрными, застыла тоска.
– Я... замёрз.
Хамал окинул взглядом вязанку дров около камина.
– Не лучше ли использовать их? Жечь книги?
– Почему нет?
– Эммануэль!
Ригель поднял на него смиренный взгляд, исполненный муки и кротости.
– Простите меня, Хамал. – Ману оторвал от книги титульный лист и положил в огонь.– Я напоминаю вам, должно быть, Савонаролу или Торквемаду?
– Скорее, молодого Лойолу. Но это не меняет дела.
– Я понимаю.
– Это что – желтый роман?
– Нет.
Эммануэль, бросив в огонь переплет, осторожно подвинул его кочергой подальше в огонь. Хамал прочёл на обложке имя Гельвеция.
– Господи, он-то чем вам не угодил?
– Это ужасно, Гилберт. Я только сейчас осознал это. Это непостижимо и страшно. Как объяснить, что книга, которая, казалось бы, битком набита высокими словами о человеческом достоинстве и благородстве, гораздо отвратительней и непристойней любого бульварного желтого романа? Его пошлость удручающа. Ничтожество и мерзость всегда ищут низость в основании любого поступка и события. Завистник, сребролюбец и развратник везде будет видеть только зависть, денежный расчет и разврат. Даже в Боге. Как они пошлы, все эти упорные утописты, превращающие человеческую природу в абстракцию, творцы женской эмансипации, разрушители семьи, составители обезьяньей родословной, чье имя ещё недавно звучало как ругательство, а сегодня стало последним словом науки! Это ужасно.
– Я готов с вами согласиться, но жечь? Помилуйте, это аутодафе какое-то. Искушение было слишком велико?
Эммануэль хмуро покосился на Хамала.
– Не знаю. Это – не искушение, а оскорбление Бога Живого. Но вы правы, наверное. Я не должен был судить... Бог ему судья. Но, с другой стороны, для этого человека не было ничего святого. Почему же для меня должны быть святы его писания? – Эммануэль поворошил кочергой пепел и подбросил дров в камин. Потом виновато улыбнулся, – простите, Гилберт. Должно быть, вы все-таки правы. Не надо было этого делать. Ещё раз простите. Доброй ночи.
Едва Хамал покинул его, Эммануэль задвинул засов и вернулся к камину. Затем сел, вздохнул и неторопливым движением вынув из-под кресла тяжёлый том Вольтера, открыл и, вырвав титульный лист и сморщившись как от зубной боли, отправил его в огонь.
– Возможно, я не прав, – заявил как-то вечером Хамал, вернувшись с заседания Общества изучения древностей, – но сегодня имеет смысл общаться лишь со святыми, помешанными или отпетыми мерзавцами. Только они сохраняют главное свойство, a potiori fit denominatio подлинного интеллекта – свежую мысль. У остальных совершенно нечего почерпнуть. Совершенно нечего.
– Мерзавцами? Хм. Вот уж не припомню, чтобы Нергал радовал нас свежестью мыслей, – пробормотал Риммон себе под нос.
– Что с вами, Хамал? Ваши слова отдают вселенской скорбью. Для taedium vitae вы слишком молоды. – Морис догрызал копчёную тетеревиную ножку – остатки риммонова трофея. Рантье, с умилением глядя на него, с надеждой бил по паркету хвостом.
– Судите сами, Невер! Слушал сегодня доклад о гностических Евангелиях. Автор доказывал, что наряду с оккультными фрагментами, там встречаются явные элементы христианства, и высказывал недоумение, почему они были нелиберально отвергнуты. Я люблю устрицы, но отвергну их, вымочи вы их в хрене, а, по мнению докладчика, надо давиться, но есть! Докладывал Уильям Элиот с богословского. И это длилось два часа, господа. Ужасно.
В прошлый раз было интереснее. Мы обсуждали содержание римских палимпсестов, обнаруженных в 1816 году в Веронской библиотеке. Там был найден текст 'Институций' Гая, считавшихся лучшим учебником римского права. Доклад делал ваш любимец – Вальяно. Но это так – светлые промежутки. lucida intervalla.
До этого, на последнем январском заседании, – продолжал он, – был доклад 'О некоторых особенностях изложения специфики черномагических ритуалов у Раймонда Люллия и Агриппы Неттесгеймского'. Докладывал куратор. Это было нечто! Убогая средневековая латынь, в которой были утрачены и меткость, и сложная простота языка. Философское и схоластическое пустословие, вот что это такое! Латынь в эти века покрылась копотью хроник, летописей, утяжелилась свинцовым грузом картуляриев и потеряла робкую грацию и чарующую неуклюжесть, превратив остатки древней поэтической амброзии в подобие циркуляра! – не на шутку разошёлся Хамал. – Пришел конец мощным глаголам, благоуханным существительным, и витиеватым, на манер украшений из медового скифского золота, прилагательным. И этим кондовым языком написаны рецепты каких-то омерзительных дьявольских снадобий. От одного только списка ингредиентов меня чуть не затошнило! Крыло нетопыря! Печень жабы! Бр-р! Селезенка дрозда! Да если я даже поймаю дрозда, хотя, право, не знаю, как не перепутать его с рябиновкой или удодом, – и если у меня хватит сил свернуть ему шею и вскрыть его внутренности, как я отличу, спрашивается, его селезенку от желудка? Я не орнитолог. Но глупо думать, что демонизированные особы в деревнях, практиковавшие все эти мистерии, разбирались в орнитологии лучше меня. Ужасно, говорю вам. Так это только Люллий. Послушали бы вы, что пишет этот Агриппа! Кстати, Нергал конспектировал этот доклад, как одержимый. Я редко замечал в нём такое усердие. А после заседания ещё и вынес из апартаментов куратора фолиант каких-то заговоров в сто фунтов весом, и потащил к себе. Я сам видел. А Вы говорите, taedium vitae, Невер...– Хамал вздохнул. – Зато на следующем заседании снова докладывает Вальяно. 'Основные принципы богопостижения'. Нергал, как услышал, перекосился. Наверняка, не придёт.
– А вы пойдёте? – отдав остатки тетеревятины счастливому Рантье, который, надо заметить, сильно округлился с тех пор, как друзья завели привычку вместе обедать в гостиной Риммона, Невер окунул длинные бледные пальцы в чашу с розовой водой. Промокнув их салфеткой, он откинулся с книгой в кресле, накручивая на палец золотистый локон.
– Разумеется. Вальяно лично пригласил меня. – В голосе Хамала промелькнула тень самодовольства. Он даже порозовел.
Профессор, действительно, на последнем заседании общества внезапно подошёл к нему и спросил мнение Гилберта о гностических Евангелиях. Хамал даже растерялся от этого неожиданного внимания, но постарался сформулировать своё суждение лаконично и искренне. Вальяно молча слушал, и под его мягким и внимательным взглядом Хамалу стало немного не по себе. Он чувствовал себя беспомощным, мысли Вальяно были непостижимы для него. Он видел лишь огромные глубокие глаза странного, сиреневато-лазуритового цвета, напоминавшего цветы цикория, и чеканные, строгие черты тонкого лица. Неожиданно Гиллель подумал, что уже где-то видел это лицо, но память подводила, воспоминание ускользало. Профессор улыбнулся и, сказав, что будет рад видеть его на следующем заседании, откланялся. Польщённый Хамал не сразу отметил странный факт, что профессор, как и Ригель, назвал его Гилбертом.
Гиллель будто невзначай спросил у Эммануэля, не говорил ли он с Вальяно о нём? Откуда тот знает, как его зовут в крещении? Эммануэль задумался и наконец покачал головой. Нет, он ничего не говорил Вальяно. 'И тот не спрашивал. Может, он видел документы Хамала?' 'Может быть', согласился Гиллель.
Сегодня, услышав тему будущего заседания общества, Эммануэль тоже решил сходить.
– Всякий раз жду чуда. Жаль, что оно не происходит, – продолжал между тем Хамал. – А как истово уверовал бы такой Фома, как я! Но боюсь, чудес там не будет. Скорее, их сотворит наш дорогой Фенриц со своим Агриппой...
– Агриппа Неттесгеймский, говорите? – Риммон, всё время строчивший какое-то письмо, почесал кончик носа. – Его, говорят, боялись покойники. Я видел гравюру, где он вызывает чёрта.
– Да? И куда он делся?
– Кто? Чёрт? – изумился Сиррах.
– Да нет, этот ваш Агриппа.
– А-а-а! Ну, не знаю. Наверное, сожгли его. А может, и нет. Но скорее всего – сожгли.
– А почему чёрт не вступился?
– А он и не стал бы вступаться, – вмешался в разговор Ригель, – просто многие ошибочно переносят на дьявола, как воплощение зла, предикаты Бога. Благодарность, то есть 'умение благо дарить' – признак божественный, никак не свойственный дьяволу. Он – 'лжец' и 'человекоубийца искони', и все, что он умеет, – обмануть и убить. И чем верней ему служат – тем верней и дьявольские награды. Все адепты дьявола, одураченные им, просто уничтожаются. Вспомните дело Грандье. Глупцы и сегодня недоумевают, как это демоны могли предать Грандье, видят в этом нечто курьезное.
– Грандье? – дописавший и запечатавший письма Сиррах стал внимательно прислушиваться к разговору. – Я что-то слышал про него. Это инквизиционный процесс?
– Нет, – просветил его Хамал, – Урбан Грандье появился на свет в департаменте Сарты, в 1590 году, а в 27 лет он, выпускник иезуитской коллегии в Бордо, был священником в Лудене. Инквизиции в эту пору во Франции уже не было.
-Его оклеветали? Кем он был?
Хамал почему-то замолчал, но на вопрос Риммона ответил Эммануэль.
– Один из его современников характеризует его как человека с величественной осанкой, придававшей ему надменный вид. Учёность и дар проповедника выдвинули его и породили в нём безграничную самонадеянность. Он был молод, и успех вскружил ему голову. Во время проповедей отец Урбан позволял себе ядовитые обличения капуцинов и кармелитов, намекая на грешки высших духовных лиц. Простецы падки на подобные обличения, и Грандье стал популярен. Его же собственные поступки были просто омерзительны. У него был близкий друг – королевский прокурор Тренкан. Урбан соблазнил его дочь, совсем молоденькую девочку, и имел от нее ребенка. Злополучный Тренкан, потерпевший такое бесчестие, стал смертельным врагом Урбана.
Кроме того, весь город знал, что Грандье состоит в связи с одной из дочерей королевского советника Рене де Бру. В этом последнем случае гнуснее всего было то, что мать этой девочки, Магдалины де Бру, перед своей смертью вверила лицемеру-духовнику свою юную дочь, прося его быть духовным руководителем девочки. Грандье без труда совратил её, и она влюбилась в него. Но девочку брало сомнение, что вступая в связь с духовным лицом, она совершит смертный грех. Чтобы сломить ее сопротивление, Урбан прибег к великой мерзости: он обвенчался со своей юной возлюбленной, причём одновременно сыграл двойственную роль жениха и священника. Разумеется, церемонию эту он устроил ночью и в большом секрете. И подобных дел за ним числилось немало...
– Мерзавец. И его судили за совращение?
– Нет. В 1626 году в Лудене был основан женский урсулинский монастырь. Восемь монахинь пришли в Луден из Пуатье и первое время жили подаяниями. Но потом над ними сжалились благочестивые люди и кое-как их устроили. Они наняли себе небольшой дом и стали принимать девочек на воспитание. Их настоятельница, сестра Анна Дезанж, женщина хорошего происхождения, ещё девочкой поступила послушницей в урсулинский монастырь в Пуатье, затем постриглась, и под ее настоятельством луденский монастырь начал процветать. Число монахинь с восьми выросло до семнадцати. Все монахини, за исключением одной, были знатного происхождения. До 1631 года священником в монастыре был аббат Муссо. Но в указанном году он умер, и монахиням надо было отыскать себе нового священника. И вот тут-то, в числе кандидатов на вакантное место и выступил Урбан Грандье. В его деле упоминается о том, что им руководили самые чёрные намерения, его соблазняла мысль о сближении с толпой молодых девушек знатного происхождения. Но его репутация была подсалена, и ему предпочли аббата Миньона. А как раз с Миньоном у него были личные счеты. Главным источником их вражды являлось беспутное поведение Грандье, на которое сурово-нравственный Миньон жестоко нападал. Вражда страшно обострилась во время представления кандидатуры в священники к урсулинкам. Когда представился Грандье, ни одна из монахинь не пожелала даже говорить с ним, тогда как аббата Миньона они приняли охотно. И вот, чтобы отомстить торжествующему недругу, Грандье, по общему убеждению его судей и современников, и решился прибегнуть к колдовству, которому его обучил один из его родственников. Он намеревался соблазнить нескольких монахинь и вступить с ними в преступную связь, в расчёте, что когда скандал обнаружится, грех будет приписан Миньону, как единственному мужчине, состоявшему в постоянных сношениях с монахинями.







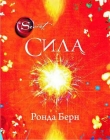
![Книга Слоеный мир [СИ] автора Тимур Лукьянов](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-sloenyy-mir-si-1610.jpg)