
Текст книги "На земле живых (СИ)"
Автор книги: Ольга Михайлова
Жанры:
Классическое фэнтези
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 18 страниц)
– Amor – dolor. Любовь – страдание. И разве Морис в чём-то виноват?
– Влюбись в меня Эстель, Риммон свернёт мне шею, нисколько не задумываясь о степени моей вины.
Эммануэль грустно улыбнулся и промолчал. На душе его потеплело. Ночное искушение прошло. Он почти физически ощутил мощный приток крови к сердцу. В него возвращалась жизнь.
– Почему вы так отозвались о Морисе? Он вам не по душе?
– Мне? – Хамал изумился. Потом ненадолго задумался. – Он разозлил меня, когда догадался, но ... нет, я не очень-то и сердился... Может, я немного завидую его смазливости? Не знаю. Вообще-то он ...благороден. Не по рождению, а, как бы это сказать-то? По душе. Ваши мысли насчет его возможной влюблённости в Симону неверны. Она ему абсолютно безразлична. Он и в самом деле влюблён, но совсем не в неё.
Эммануэль исподлобья взглянул на Хамала.
– Не в неё?
– Воистину так. Предмет его склонности – вы, Эммануэль. Я ни на что не намекаю. Он – отнюдь не Виллигут. Но его влечёт к вам вполне искренне. Кстати, знаете, что он сказал мне однажды? 'Если Эммануэль будет со мной, я найду Бога'. Довольно странное условие богопостижения, вы не находите? Но это я так, к слову. Мне-то не до Бога, жизнь под угрозой.
– Если бы я чувствовал угрозу своей жизни, мне было бы сугубо 'до Бога'.
-Нисколько не сомневаюсь. Но подумайте, Эммануэль, к вам приходит Морис, который на самом деле некто совсем другой, и спрашивает о чём-то сокровенном. Вы отвечаете... Или Симона попросит прийти к ней на помощь, и вы оказываетесь в ловушке... А сколько ещё вариантов...
Эммануэль выслушал молча, потом – пожал плечами.
– Нельзя жить, не доверяя никому... Да и как защититься?
– Этот человек, как я понял, может принять только облик другого. Только облик. Пришедший к Моозесу избегал разговоров и расспросов. Пробыл считанные минуты. Может, время его пребывания в чужом облике ограничено? Чем? Но, если это был Виллигут, то он просто мог заворожить Моозеса, внушить тому, что тот видит меня... В любом случае, завтра утром приедет де Невер, и нам нужно обдумать, как действовать. Нужно иметь особые знаки узнавания.
– Как вы это себе представляете?
– Проще простого. Я и вы, вы и Невер, Невер и я, я и Риммон, – все мы должны договориться друг с другом. Если мы остаемся наедине, я спрашиваю вас, допустим, 'Сколько стоит звезда Давида?' – вы отвечаете: 'Не дороже звезды Мегрец' – и я буду знать, что передо мной – вы. Кроме нас двоих, об этом никто не должен знать. Со стариком Моозесом я на этот счет уже договорился.
– Понимаю, но тогда вам придётся посвятить Сирраха во всё.
– Да. Но вы меня убедили. И в самом деле, кому-то же надо доверять. Он ко мне расположен. Я даже восхищаю его – эрудицией и пониманием некоторых пока недоступных ему вещей. Нет-нет, он более чем умён, но обстоятельства его жизни не всегда благоприятствовали ему. И не он убил Лили и Виллигута, хотя и отнёсся к гибели последнего с трогательным равнодушием, что же касается Лили, то не могу осудить его за нескрываемое ликование. Тут, кстати, дело не в мстительности. Ведь теперь та не проболтается его дорогой Эстель об их интрижке, чего он сильно опасался. Ну, а сам он ни сонный, ни пьяный о том не проговорится. И не он был у Моозеса. Он никогда вообще не был в той части города. Он тут не причём. – Хамал помолчал, затем вновь заговорил. – Нужно всё же постараться понять, кто это. Нищих здесь было всего двое – вы и Виллигут. Да ещё Митгарт практически разорён. Но, боюсь, это не причина убийств. Как понять – есть ли у вора подлинная нужда в деньгах или это просто стремление стать ещё богаче? И действительно ли Лили убита из-за побрякушек? Или, что мне представляется не менее вероятным, с ней свели счеты за её, так сказать, 'лярвистость'? Но в последний месяц никто, кроме Мормо, не якшался с этой пиявкой, а он здесь тоже не причём. Поди, разберись. – Он глубоко вздохнул. – А главное-то – кто был у Моозеса??
– А кто мог знать о вашем знакомстве с этим ювелиром?
– Я уже думал об этом. Все. Как-то на вечеринке у Невера Лили спросила меня об этом перстне. Я ответил, что это подарок ювелира Моозеса, друга моего деда. Там были все, – Хамал поморщился и неожиданно спросил, – как вы вообще можете верить в Бога, когда кругом столько дьявольщины и зла?
– Зло – не кругом. Разве это – зло? – Эммануэль показал за окно, где в инее, словно заколдованные, серебрились древесные ветви. – Зло – внутри нас. Но уничтожение зла, то есть нас, несовместимо с милосердием Божьим. Каким бы ни был сын – отец будет пытаться, любя, вразумить его. Если я не могу быть совершенным, причём тут Бог?
– Теодицея...
– Теодицея как таковая – результат ошибочного мышления, Хамал. Бог есть беспредельно совершенная Личность, а если Виллигуту нравилось быть женщиной, то это проблемы Виллигута, а не Бога. Генриху, надо полагать, было известно, что Бог считает содомию мерзостью. Но он остался содомитом. Меня никто не ставил судьей над ним, но с чего я должен осуждать Бога? Странная логика.
– Но ведь есть и жертвы... Несчастные совращённые, невинно убиенные...
– Богом совращённые? Богом убиенные?
– Бог это допустил.
– Чтобы не допустить совращения невинного, надо уничтожить совращающего. Но ведь и Лили когда-то была чиста и невинна. Чтобы не допустить дальнейшего, её нужно было уничтожить в колыбели. И тогда вы сказали бы, что Бог допустил гибель невинного и чистого существа, 'и оправдана премудрость чадами ея'.
Хамал грустно и недоверчиво усмехнулся.
– Я вообще заметил удивительную вещь, – горячо продолжил Эммануэль, – чтобы понять, что есть человек, его надо спросить о Боге. И высказанное мнение: вся градация – от праздного безмыслия и отрицания до трепетной любви – скажет о человеке больше, чем многолетняя дружба, сотня совместных вечеров и задушевных бесед. Безошибочно.
– И как вы определите ...Мориса ... и меня?
-Морис?... Он не святой, и, я полагаю, вам это известно. Пока человек 'жаден до удовольствий', он немного... неблагонадежен для Царствия Небесного. Но Морис никогда не говорил, что он совершенен, и не утверждал, что мораль – выдумка идиотов. К тому же, вы правы, он – благороден... точнее, благодушен, а благодушие – философский камень, превращающий всё, к чему он прикасается, в золото. Морис нравственно вменяем. Вы, как мне хотелось бы думать, – тоже. Хотя ваши проблемы – разные. В голову, забитую гордыней, суетой и прагматизмом – Бог не входит. Ему там нет места. Сказано: 'в простоте сердца ищите Господа, ибо Он открывается неискушающим Его, а неправые умствования отдаляют от Бога'. Но вы, Гилберт, и 'простота'...
Гиллель перебил его.
– Эммануэль, я умён и поглупеть не могу. Если для богопостижения ум излишен, мне не нужно богопостижение.
– Христа, ещё в колыбели, признали простецы-пастухи и мудрецы-волхвы. А не признали как раз те, кто отошёл от первых... но не приблизился ко вторым.
– И у вас нет сомнений?
– Ну почему же? Как вы твердо уверены в ваших сомнениях, так и я порой сомневаюсь в своей вере. Но я понимаю, во что я верю, – Эммануэль принёс с кресла и положил на тахту к Хамалу большое покрывало, подаренное Невером. – Гораздо труднее бывает поверить в то, что я понимаю...
– Вы о Лили и Черной мессе?– прочтя его мысли, наморщил нос Хамал. – Да, пожалуй. А, кстати, знаете ли вы, – всколыхнулся он, – что ревность Нергала к Неверу, как к красавцу, неприязнь к Риммону, как ренегату, и презрение ко мне, как к иудейскому ничтожеству, – ничто в сравнении с его ненавистью к вам. Не задумывались, почему?
– Я не знал об этом, но задумываться не о чем. Они не могут не видеть во мне то, что им глубоко враждебно... Екклесиаст. 'Мерзостен для нечестивого – идущий прямым путем', – он помолчал и виновато добавил, – мне они тоже временами омерзительны.
– Вы ненавидите их?
Эммануэль покачал головой.
– Они не хотят знать Бога и честно говорят, что служат дьяволу. Каждый, не ищущий Господа, есть слуга дьявола. В мире Духа все бинарно. 'Кто не со Мной, тот против Меня'. Но не все это понимают. Далеко не все. Мормо и Нергал просто умнее прочих. И последовательнее. И даже – честнее.
– Каждый, не ищущий... Странно. Но если человек не нашёл Бога...
-Никто не сможет оправдаться тем, что не нашёл Его. Каждый, кто искал с чистым сердцем, нашёл. Не находил неискавший. Или – не там и не то искавший. Или – искавший с нечистым сердцем...
– Ну, и формулировки у вас, Ригель...
Эммануэль поморщился.
– Я не знаю, как объяснить. Бог ведь есть Любовь, а любовь, как известно – аксиома для сердца, но для ума – не более чем гипотеза. Но ваша проблема – вовсе не избыток ума. Не лгите себе. Ум богопостижению не мешает.
Хамал хмуро взглянул в огонь камина и снова усмехнулся.
– А в чём же дело?
Эммануэль опустил голову и неожиданно полушепотом спросил:
– Скажите, Гилберт... Кто развратил вас?
Гиллель вздрогнул всем телом и метнул быстрый взгляд на Эммануэля. Губы его неожиданно пересохли. Нет, Невер ничего не говорил ему... но откуда? Он ведь нарочито старался при Ригеле вести себя... безупречно. Он снова исподлобья взглянул на Ригеля. Мысли Эммануэля несли печать такого полного и страшного понимания, что спорить и опровергать что-то было глупо.
– Заметно?
– Да, – просто ответил Ригель. – Вы... очень развращены. И очень несчастны.
– Как вы догадались?
– Я же говорил. В ваших глазах – синайская пустыня.
Хамал вскинул брови, вздохнул, потом, махнув рукой, откинулся на подушку.
Гиллель боялся продолжить этот разговор и потому отвернулся к стене, и вскоре его мерное дыхание, казалось, слилось с тиканьем настенных часов и потрескиванием дров в камине. Эммануэль прочёл вечерние молитвы, погасил свечу и, улегшись на диване, уснул. Через полчаса Хамал тихо повернулся и, бесшумно поднявшись, сел на постели.
То, что его поняли, и поняли безошибочно, точно раздели, было для него, привыкшего понимать других, неожиданно и болезненно. Но, размышляя над словами Эммануэля, Хамал вдруг осознал, что на самом деле услышал не обвинение, а скорее, печальный диагноз, и вдруг постиг то, что при всей своей прозорливости до сего часа не понимал.
'Вы... очень развращены. И очень несчастны'.
Он и вправду – несчастен. Несчастен, несмотря на дарование, ум и богатство. Очень несчастен... Гиллель совсем забыл о том, что так волновало его всего несколько часов назад. Все воображаемые, предвидимые и ожидаемые беды не стоили этой одной, только что осознанной, что давно и прочно угнездилась в его душе. Угнездилась и начала разрушать его. Он долго сидел в темноте, переводя взгляд с тлеющих дров в камине на сияющий в прогале портьер ущербный месяц.
Бенедикт Митгарт после смерти стал немного живее. В нём вдруг появился интерес к богословию, необъяснимый даже для него самого. Он прекрасно знал себя и был уверен, что неспособен на смирение; понимал, что никогда не ощутит тот самый миг благодати, когда, по словам Лакордера, 'луч веры осветит душу и все рассеянные в ней истины сольёт в одну'. Он не испытывал ни малейшего порыва к покаянию и молитве, без которых, если верить священникам, обращение к вере невозможно.
Тем не менее Бенедикт начал с интересом перелистывать Писание. Его душа никогда не знала ни свежих впечатлений, ни новых мыслей или чувств от встреч с людьми или книгами, и пробудившийся вдруг посмертный интерес как-то даже возвысил его в собственных глазах. При этом храмовые богослужения стали ему почему-то тошны до отвращения.
По ночам он стал видеть сны. Перед ним плясали голые девицы из лупанара, с дощечками, описывающими их прелести, старые шлюхи с неоправленными платьями, набеленные и нарумяненные, размахивали перед его глазами пистолетами. Пухлые и кудрявые шестнадцатилетние педерасты с незапоминающимися лицами толковали о морали.
Но, просыпаясь, Митгарт ничего из сказанного не помнил.
Тот, кто заглянул бы по истечении вакаций в спальню герра фон Нергала, был бы шокирован открывшейся картиной. Август Мормо накладывал на задницу дружка Фенрица слой кислой сметаны и зло бурчал что-то неразборчивое себе под нос, Нергал же стонал от боли, а порой зло похрюкивал, непристойно бранясь. Что же случилось? Увы, 'не все волку масленица'. Нергал и Мормо во время очередной охоты влипли в гадкую историю: напав на лесника, неожиданно натолкнулись на облаву. Мормо вспорхнул и затаился в ветвях лесного дуба, а несчастному Фенрицу попали по хвосту горящей головней.
Мормо считал, что всему виной самонадеянность дружка. Тот полагал, что ночью поймать вервольфа невозможно: он передвигался с быстротой молнии, а пули его шкуру не пробивали. Однако, полнолуние уже три дня как миновало, и надо было избегать неосторожности. Ибо опрометчивость – мать глупости. Излишняя самонадеянность не признак интеллекта, а прямое следствие незрелости характера. Сведущие – осмотрительны и полны сомнений, и лишь глупцы – неосторожны и дерзки. Да, величайшая гордыня и дерзость скрываются под самонадеянностью, возвышенно проповедывал Мормо.
Фенриц, страдая от ожога, не склонен был выслушивать проповеди – хватит с него поучений отца Бриссара! Он дружески попросил Мормо заткнуться. Мормо, глядя на Нергала, как принц королевских кровей – на подзаборного блохастого пса, ничего не ответил, продолжая врачевать израненный зад Фенрица.
А что поделаешь? Дружба.
Глава 18. Целомудрие.
Quanto se magis reperit anima segregatiam et solitariam, tinto optiorem se ipsam redit
ad quaerendum intellegendumque Creatorem et Dominum suum.
I. Lojola.
Чем более душа уединяется и обособляется, тем более она
становится способной к пониманию и постижению Творца и Господа своего.
И. Лойола.
...Эммануэль, без всяких сомнений, знает всё. Проболтался Хамал? Нет. При прощании он спокойно выдержал его взгляд, был, как обычно, сдержан и холоден. С Нергалом Эммануэль не общается. С Мормо – тоже ... Сиррах? Зачем ему? Митгарт?
Но что толку гадать? Всплыть правда могла откуда угодно... Сколько раз, сколько раз он давал себе слово, что со всем этим будет покончено? И каждый раз всё повторялось снова и снова. Странно, Риммон стал совсем другим, едва влюбился в Эстель. Может быть, и для него любовь стала бы ... стала бы... чем, Морис?
Три раза Морис де Невер просил Эммануэля поехать с ним на Рождество, но тот только качал головой. Морис боялся спросить о причине отказа, страшился услышать роковые слова. Он не хотел терять Эммануэля. Он не мог его потерять. Он вспомнил свои ночные похождения, грязные постели с грязными женщинами. Ему на миг показалось, что вся грязь этих ночей налипла на нём. Хамал прав, он не любит женщин. Эти несколько минут блаженства – стоят ли они...
На последней церковной службе в Меровинге Морис почти выбежал из храма. От кадильного дыма ему стало плохо. Это Святой Дух отметил его и отторг от Себя. Отторгает его и Эммануэль. Дрожащей рукой Морис открыл Писание. Двадцать шестой псалом. 'Сердце мое говорит от Тебя: 'ищите лица Моего'; и я буду искать лица Твоего, Господи, ибо отец мой и мать моя оставили меня, но Господь примет меня. Научи меня, Господи, пути Твоему и наставь меня на стезю правды; я верую, что увижу благость Господа на земле живых...'.
Неделю Морис провёл в своем доме один. Никого не хотел видеть, ни с кем не говорил. Дважды был в городском соборе. Выстоял всенощную службу. Перед самым концом богослужения неожиданно попросил Бога родиться в его душе. Но нет. Его душа грязнее любых яслей. Ему ли увидеть благость Господа на земле живых? Морис никогда ни о чём не просил Бога осмысленно и с верой. С полной верой. Не верил он и сейчас.
Господи, помоги моему неверию...
Домой Невер возвращался верхом. Около старой мельницы остановил лошадь и спешился. Одетые инеем деревья были сказочно красивы. Запруда до конца не замерзла и, когда сквозь разошедшиеся вдруг облака в ночном небе показалась луна, Морис невольно замер, наблюдая за искрящимися переливами лунного света на тёмной воде. Он не помнил, сколько простоял так неподвижно и бездумно, в удивительной, какой-то поющей тишине. Морис видел, как блики лунной дороги стали ступенями сияющей лестницы, уходящей в небо. Туман облаков обрисовал тела каких-то легкокрылых существ, а по ступеням вниз медленно стал спускаться Некто, чье лицо и одежда невыразимым светом жгли глаза Невера. Когда сквозь свет проступило лицо, Морис увидел глаза и черты Эммануэля...нет ...
Это был Он, Предвечный и Неосмысляемый.
Это Его глаза с непереносимой для Мориса скорбной любовью смотрели на него. Мука этого взгляда мгновенно истомила и обессилила его. Чувствовать и выносить такую боль Морис не мог, но одновременно пришло безотчетное понимание – если Он отведёт этот взгляд хотя бы на мгновение – из него, как кровь из вскрытых вен, уйдёт жизнь. Глаза Мориса запекло от готовых хлынуть слёз. Сердце сжало невыразимой, мучительной болью. Сияние приближалось и тихо слилось с отблесками лунного света на зеркальной глади воды. Лестница исчезла. Тишина лунной ночи странной, отрешённой мелодией влилась в него.
Как он мог так опоганить свою душу и так осквернить Его Любовь? Такую Любовь...
Простояв ещё около получаса на берегу, Морис медленно побрёл к дому. Лошадь шла следом за ним.
Неделю спустя Морис вернулся в Меровинг и не узнал его. Испуганно шарахнулся от голоса Митгарта, поприветствовавшего его у ворот, вздрогнул и попятился от возвращающихся из Зала Тайн Мормо и Нергала и, только увидев Эммануэля на пороге своей комнаты, встал и робко сделал шаг навстречу. Эммануэль улыбнулся, подбежал и обнял его. На глаза Мориса выступили слёзы, и ему пришлось сделать над собой усилие, чтобы не разрыдаться.
Эммануэль заметил перемену в Морисе. Теперь вечерами у него больше не было дел в городке, он просиживал долгие часы в одиночестве, но не высказывал желания видеть гостей. Стал ровнее, спокойнее, если не сказать – безучастнее. Сам Морис никому, включая и Эммануэля, не рассказывал о происшедшем с ним. Даже себе он боялся обозначить его, облечь в слова. 'Это', – думал он, вспоминая явление ему Христа.
Осознав, что тайна жизни начинается там, где слова заканчиваются, Морис стал молчаливее, но безмолвие его души ощущалось им как предельная наполненность. Он только иногда, словно взвешивая, повторял странное для него слово 'целомудрие', ощущая на губах его необычную полновесность, словно тяжесть медовых сот и загустевших ароматных мирровых смол.
Глава 19. Все развратились и непотребны были...
'Поле битвы, оживая, наполняют привидения...'
И.В.Гёте 'Фауст'.
Январь знаменовал начало нового триместра, и студенты уже втянулись в размеренный ритм лекций.
Хамал, который в прошедшие дни был молчалив более обычного, как и собирался, собрал в сирраховой гостиной самого Риммона, только что вернувшегося с охоты, Невера и Эммануэля. В начале разговора он тихо спросил Мориса, что он нашёл на столе у Виллигута в день его смерти. 'Волт', – недоумённо ответил Морис. Риммон с неменьшим удивлением дал ответ на вопрос об имени внучки старика Моозеса, которую они встретили в доме ювелира. 'А, маленькая такая, смазливенькая? Эстэр он её называл, кажется, а что?' Эммануэлю пришлось вспомнить главу из Исайи, цитированную Хамалом в день смерти Виллигута. 'Возвеселится пустыня. Кажется, 35-я'.
Хамал был удовлетворён и, убедившись таким образом в их подлинности, рассказал о последних событиях. Ригель, уже посвящённый во многое, вглядывался в лица Мориса и Сирраха. Первый насторожился, зато Сиррах, поражённый рассказом об удивительных способностях Хамала, о которых не имел до этого ни малейшего понятия, казался странно взволнованным. Гиллель, однако, мгновенно загасил его возбуждение, заявив, что мысли Эстель о нём подождут. Есть вещи поважнее.
Риммон блеснул глазами, поёрзал на стуле, но промолчал.
Все согласились с хитроумным предложением Гиллеля, дававшим им возможность опознавать друг друга. В течение нескольких минут была разработана система паролей, обеспечивающая безошибочную идентификацию любого из них. Риммон поинтересовался, не следует ли предупредить Эстель... ну и Симону, разумеется, об опасности?
А уверен ли Сиррах, что ни одна из девиц не является искомым оборотнем? Хамал был настроен решительно. Уверенным он может быть только в отношении самого себя, Мормо-вампира, вервольфа-Нергала, покойницы-лярвы Лили да Виллигута, колдуна-содомита. Все остальные, уж извините, включая и вас, господа, – под подозрением. Эммануэль улыбался. Риммон, вначале замерший с полуоткрытым ртом, вскоре откинулся в кресле и задумался. Морис де Невер уставился в пол и молчал.
– Вампира и вервольфа... – тихо прошептал Риммон, почесывая переносицу. Его не очень-то изумило это сообщение. Было ясно, что нечто ещё раньше натолкнуло его на подозрения о том же... Сообщение же о Лили и вовсе его не задело. Что-что, а в этом он и сам не сомневался ни минуты. Но вскоре в нём проступило и смутное недоверие.
– Постойте... Но я слышал, все эти вампиры терпеть не могут чеснок...
– Ну, и что?
– А Мормо обожает баранину под чесночным соусом...
Хамал усмехнулся.
– Вампиры – мертвецы, а Мормо жив и наделён прекрасным аппетитом. У него склонности вампира, он может обернуться нетопырём, но никаким чесноком вы его не отпугнёте. Скорее, этим покажите, что его суть вам известна и разозлите. А злить дорогушу-Августа опасно. Натура там глубокая... Не делайте ничего, ведите себя, как обычно.
– Вот пакость...
Хамал неожиданно напрягся.
– Невер?! Вы о чём это?
Морис вздрогнул и потёр лоб рукой. Он задумался об этом ещё у себя в имении, а сейчас слова Хамала просто вдруг осветили такую-то часть его внутренних потаённых знаний, в которых он не отдавал отчёта даже самому себе.
– 'Все развратились и непотребны были...' – еле слышно проговорил он. – Вы видели пятно на лице Мормо, Хамал? – Гиллель кивнул. – Такое же было у Виллигута, на локте. У Хеллы Митгарт оно на шее, где яремная вена. Такое же было на груди Лили, – он брезгливо поморщился. – В общей бане я видел такое же на плече Нергала, на бедре у Митгарта, у Риммона в районе седьмого ребра. И у вас, Хамал, на запястье, – Гиллель отодвинул манжет и посмотрел на руку. – И, что удивительно, форма – подковы – у всех одинакова. Или копыта дьяволова, Бог его знает... У себя я такого не видел, но когда избили Эммануэля, на его спине, у правой лопатки я опять увидел такое же пятно. Это натолкнуло меня на мысль...
– Ясно. Вы нашли пятно и у себя? Я, кажется, даже помню, где...
– Угу. Я его там и обнаружил. – Морис почесал нос, а Хамал усмехнулся. – Пришлось смотреть в карманное зеркало, стоя нагишом перед трюмо. Да, там оно и оказалось.
– И что это может значить?
– Не знаю, – Невер сегодня явно изумлял Хамала, то и дело останавливавшего на нём взгляд своих внимательных недоумевающих глаз, – но мне кажется, что все мы в той или иной мере... оборотни.
В гостиной повисло гнетущее, тягостное молчание. Первым пришёл в себя Сиррах.
– ... Вздор, Невер! Чтобы девушки, или Ригель, или я? Не умею я ни в кого превращаться!! Вздор это всё. – Риммон был просто шокирован. Помолчав несколько мгновений, он добавил тише, – в любом случае, если оборотень и есть – он всего только один...– он неожиданно осёкся.
– Эрна? – Хамал наклонился над Риммоном. Его глаза странно блеснули. Он и сам знал это, но предпочитал не распространяться. – Почему вы о ней вдруг вспомнили?
Риммон восторженно поглядел на Гиллеля.
– Действительно мысли читает...
– Риммон, умоляю вас, сейчас не до пустяков!
-Ладно-ладно. Я просто вспомнил, что когда мы с Эстель и Симоной обыскивали комнату Лили, вдруг появилась Эрна...
– Ну и что?
– А ничего. Просто, когда Эстель меня позвала, и я понял, что они хотят, я наружную дверь в их гостиную запер. Запер и засов задвинул. Она, что, сквозь стену прошла? – Хамал и Невер ничуть не удивились сообщению, но Эммануэль недоумённо взглянул на Сирраха, – а Митгарт? – неожиданно спохватился Риммон. – Я своими ушами слышал пистолетный выстрел в его комнате на Рождество. Сказал, вешалка упала. Как будто я не отличу звук падения вешалки от выстрела... И мой Рантье, как увидит его или Нергала, захлебывается лаем, аж шерсть искрит на загривке! С чего бы это?
– А... Эстель? – Хамал не сводил с Сирраха тёмных глаз.
– ...Что... что ... Эстель? – растерянно прошептал Риммон.
Хамал молча ждал, не сводя глаз с Сирраха. Риммон занервничал.
– Ваша Эстель – принимает чужой облик, не так ли?
– ...Моя... моя Эстель? Вы с ума сошли, Хамал!! Никакой она не оборотень! Ничего подобного, просто баловство! Ну, просто... в полнолуние иногда... полетает на метле. Сущие пустяки это, уверяю вас. Не умеет она принимать чужой облик... Я бы знал. – Торопливой скороговоркой пробормотал Риммон.
Невер, Хамал и Ригель потрясённо переглянулись. Сиррах поспешно продолжил:
– А малютка-Симона?!! Вы когда-нибудь слышали, как она гадает на своём хрустальном шаре? Это же дьявольщина!
– Мне казалось, что вы и сами, Сиррах, в некотором роде – адепт дьявола. – Хамал сморщил нос и впился глазами в Риммона. – По крайней мере, вы-то уж нергаловы чертослужения посещали, это точно.
– Я? Чёрта с два! – Сиррах даже задохнулся от возмущения. – Ну, был там пару раз от скуки. И что? После той фенрицевой мерзости на этой ...как её... их мессе, его скандала в борделе и попытки отравить моего пса, – я послал негодяя ко всем чертям собачьим с его дьяволом и ночными оргиями!!
– Фенриц пытался отравить вашего Рантье? Зачем, Господи? – Хамал даже привстал от удивления.
– Понятия не имею, но я случайно увидел, как он бросил в тарелку псу кусок мяса. Хорошо, что собаку выгуливали. Выскочила крыса, схватила кусок – и тут же в корчах издохла. Свинья ваш Нергал.
Хамал задумался.
– Свинья? Он вообще-то вервольф. Впрочем, одно другого, безусловно, не исключает. А ваш Рантье...извините, я не разбираюсь в породах, кажется, лайка?
– Ну что вы, Гиллель! Рантье – овчарка, волкодав.
– А-а-а...
– Подумать только! – вернулся к теме Сиррах. – Я не поверил Митгарту... Фенриц – свинья. Ну, можно напиться. С кем не бывает? Но избить несчастную Жанет? Ещё и упиваться этим? Ударить женщину? Я просто поверить не мог... – На лице Риммона отпечаталось полное недоумение и жесткое неприятие фенрицевых забав. – Но теперь всё ясно...Волк – он и есть волк.
Хамал, закусив губу и побелев, промолчал, с трудом слегка кивнув головой в знак согласия, а что касалось Мориса де Невера, то, припомнив Эрну, он, спокойно взглянув на Сирраха, мягко улыбнулся и благодушно проговорил:
– Мерзость, конечно, но Фенриц есть Фенриц.
Его поддержал и Эммануэль, заметивший, что сочетание в инфернальной натуре Нергала черт свинских и волчьих при всей их внутренней антиномичности – вопрос сугубо академический.
– Ну, а что вам напророчила Симона, Сиррах? – Невер был явно заинтригован.
Риммон снова замялся.
– Предсказали ему всего-навсего денежные расходы и опасность пожара, поразило же нашего дорогого друга совсем не это. – Хамал улыбнулся, радуясь возможности сменить неприятную для него тему. Риммон смотрел на него с выражением экзальтированного восторга. – В его прошлом обнаружились наилюбопытнейшие факты. Когда ему их изложила Симона, он и сам стал наводить справки. Всё подтвердилось, не так ли, Сиррах? Его отец – Бегерит Риммон – обладал феноменальной меткостью, проще говоря, не промахивался вообще никогда. А мать Сирраха заклинала пламя, подчинявшееся ей, как змея – факиру. Впрочем, надо отдать должное Сирраху – он действительно, рано осиротев, ни о чём не знал. Симона через свой хрустальный шар может разглядеть забавные вещи... Кстати, Риммон, вы ведь тоже феноменально метки, не правда ли? Третьего дня вы подстрелили лису с шестидесяти ярдов.
– Вы не правы, Хамал. – Риммон погрустнел, нахохлился, выглядел жалким и несчастным. – Я промахнулся. Эстель хотела лисицу с мордочкой на воротник, и попасть надо было в глаз, я же на полдюйма скосил влево. – Он уныло подпёр рукой подбородок. – Я, наверное, позор всего рода. И, уверяю вас, Гиллель, это не первый мой промах. Нет у меня никакой особой меткости, увы. Вот мой покойный брат Менкар, вот тот, и вправду, стрелял, как бог. А я – нет. Были случаи пару раз, стыдно признаться, когда я и вовсе не попадал.
Эммануэль всё это время молча прислушивался к разговору. Упоминание о Симоне слегка царапнуло его душу, но сильной боли он не ощутил. Он осторожно взял в руки ружьё Сирраха. Инкрустированное серебром, это было очень дорогое оружие. На прикладе белела небольшая табличка с гравировкой 'Киммерис Риммон'. Сиррах из-за его плеча показал на надпись, пробормотал: 'это ещё от деда', и потянул к себе приклад. Эммануэль, зацепившись длинными пальцами за курок, не смог сразу вытащить их из куркового круга. Прогремел выстрел. Дуло, оказавшись направленным на Невера, дымилось. Всех парализовало. Испугаться никто не успел. Тишину рассёк повелительный крик Мориса:
– Бросьте ружьё!!!
Риммон не бросил, а скорее просто выронил приклад из ослабевших рук на стол.
Дальше произошло нечто невообразимое и совершенно невозможное.
На фоне зеленого сюртука мсье де Невера потрясенный Хамал увидел... пулю, замершую в дюйме от тела Мориса. Глаза Невера вспыхнули огнём и тут же погасли. Пуля исчезла, а ружьё, будто подброшенное невидимой рукой, слетело со стола, с грохотом ударившись о стену. Насколько минут никто не мог сдвинуться с места. Наконец, Риммон, глубоко вздохнув, оторвал занемевшие ноги от пола и, наклонившись, поднял с пола то, что было ружьём. Приклад разлетелся в щепки, дуло было страшно искорёжено. Курка не было вообще.
Морис, бледный, покрытый испариной, шагнул к Эммануэлю и схватил его за плечи.
– Ты цел? – Ригель изумлённо, словно в прострации, кивнул и пошатнулся. Глаза его закатились, и он рухнул в обморок. Невер едва успел подхватить его.
Нюхательной соли у Риммона не оказалось, и он влил в рот Эммануэлю коньяк из своей охотничьей фляги. Тот медленно открыл глаза, пошевелил пальцами, ища руку Невера. Он почти ничего не успел осознать, кроме того, что жизнь Мориса чуть не оборвалась по его небрежности. Хамал, куда менее чувствительный, уже пришёл в себя. Теперь он, уставившись на отколовшийся от стены кусок штукатурки, барабанил пальцами по столу. Риммон вертел в руках и, как диковинку, разглядывал изуродованное ружьё.







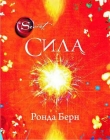
![Книга Слоеный мир [СИ] автора Тимур Лукьянов](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-sloenyy-mir-si-1610.jpg)