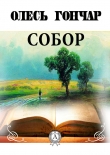Текст книги "Тронка"
Автор книги: Олесь Гончар
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц)

Лукия ушла, не дослушав Яцубу.
Дома у нее тишина, бархатистый мотылек приник к двери, в комнатах солнечно и почти пусто – попробуй здесь купить путную мебель! В самой большой комнате стол да диван и, как всегда, беспорядок, всюду журналы «Радио», книжки и Виталиковы шурупы. На кухне, правда, чистенько, а обед не очень роскошный: утром только и успела приготовить борщ (доваривать его должен был уже Виталик).
– Борщ доварен, – докладывает сын. – А на второе у нас будет… салат! – И он бежит в огород за салатом.
– Попробуем, что тут у тебя вышло, – сама себе улыбается Лукия, наливая борщ в тарелки.
Обедают на веранде. И хотя борщ у Виталика совсем разварился, да еще и пересолен, но оба охотно его хлебают, мать даже похваливает, так что Виталий, ободрившись, заявляет решительно:
– Ей-ей, пойду учиться на кока! Есть такое училище в Симферополе… Кок дальнего плавания, это же дело?
Она воспринимает его слова только как шутку. Ведь настоящая его дорога – в институт, в кораблестроительный, это она решила раньше него. Осенью Виталик будет студентом… Сын – студент, даже самой не верится. А покамест сидит перед нею за столом просто мальчонка сероглазый, лицо обветрено и губы детские, еще никем не целованные, хотя вот этого она наверняка и не знает… Следить? А может, больше доверять – это лучше?
Она любит смотреть на сына, любит слушать его шутки, в которых искрится ум; Лукия чувствует, что и сама она сейчас, несмотря на стычку с Яцубой, чем-то удивительно ободрена. И душа будто молодеет… То ли сын радует, то ли еще и… тот приезд? Хотя подумать, что ей от того, что капитан приезжает? Ведь есть такое в жизни, чего не вернешь. Это только степь даже после черной бури ярко зацветает по весне дикими тюльпанами, разливается за горизонт океаном красоты…
Приедет… Как за утренними туманами проступает в светлеющем небе утренняя заря, так проступает сейчас в воспоминаниях Лукии о далеких годах юности то, что когда-то связывало ее с капитаном. Был он тогда, правда, еще не капитаном, а молодым штурманом Черноморского флота. И в один из его приездов взошла та звезда, которая еще и до сих пор светит и, наверное, будет светить Лукии до конца жизни. Словно вчера было, так отчетливо помнит Лукия, как ее позвали:
– Приходите в рай!
А «рай» у степняка – это когда ребенок родится; тогда у людей в хате и в самом деле как в раю, и они зовут на радостях гостей. И вот Лукия пришла к трактористу Мамайчуку, у которого сын родился, и увидела там молодого Дорошенко в штурманской форме, с ласковой голубизной в глазах. Была и она тогда молодой, незадолго перед тем приехала сюда после агротехникума…
Веселье затянулось, Дорошенко провожал ее домой. Ночь была лунная, светлая. Они остановились на школьной площадке у турника, и Лукия, веселая, хмельная, все пыталась допрыгнуть, ухватиться за металлическую перекладину. Он помог ей достать до турника, и она качалась и смеялась от полноты счастья, а Дорошенко стоял сбоку, смотрел на нее и тоже смеялся.
– Ой, падаю!.. Ой, упаду! – кажется, что-то такое она крикнула тогда, и до сих пор помнит, как штурман подхватил ее на руки и нежно, деликатно поставил на землю.
Несколько вечеров провела она тогда с Иваном. Это были самые счастливые часы ее жизни. И никогда уже после того не было таких ясных, таких бесконечно лунных ночей! Допоздна бродили они по совхозным околицам, заходили далеко в степь и возвращались домой, когда все уже в совхозе спали, и темные заросли совхозного парка встречали их ночной росой. Кто мог подумать тогда, что эти вечера будут для них и прощанием, что останутся они потом друзьями на всю жизнь, но уже никогда вслух даже не вспомнят ни о том счастливом турнике, ни о ясных ночах лунных, когда бродили они в песнях да в туманах!..
К тому времени Дорошенко был уже связан браком, у нее тоже жизнь сложилась по-своему: войну Лукия встретила замужней женщиной с ребенком, хорошенькой дочуркой, которая потом, в годы лихолетья, так у нее на руках и угасла, как свечка, под открытым моросящим небом на одной из заволжских станций. Муж ее, совхозный комбайнер, в это время уже был на фронте. И увидела она его только через три года, когда возвратилась из эвакуации домой, а он приехал из госпиталя долечиваться после ранения. Было это раннею весной, в растаявшем черноземе всюду торчали немецкие танки, погрузившиеся по брюхо в грязь, из всего хозяйства в совхозе сохранилось лишь несколько шелудивых, подобранных на фронтовых дорогах лошаденок, в каждом доме гнездились нищета и неуютность, и вот в это время вернулся из госпиталя ее муж. Раньше у них жизнь как-то не клеилась, он был не в меру ревнивым – даже на расстоянии ревновал к моряку и совсем чужим мужчинам, каждая ее поездка в район вызывала у него подозрение: подчас Лукии казалось, что разрыв неминуем. А тут было какое-то возрождение – возможно, потому, что и он настрадался, и она нагоревалась одна, и когда настало время снова провожать его на фронт, то разлука была тяжелее, чем в первый раз, будто предчувствовала Лукия, что теперь он уйдет и не вернется. Последнее письмо прибыло откуда-то из Венгрии. Муж писал, что лежат они в грязи среди осенних виноградников, уже вечереет, туман и изморось вокруг, и видна ему только скирда мадьярской соломы средь поля да винодельня, которую нужно к утру взять… Мадьярские виноградники, скирда, туман – это был тот мир, который он видел последним. Больше писем не было, а она родила мальчика и назвала Виталием. И вот теперь он заканчивает десятый класс. Сыном, его будущим наполнена вся ее жизнь. Подлинным счастьем стало для Лукии видеть его веселую молодость – собственная молодость прошла как сон, промелькнула так быстро, что порою даже странно становится: в самом ли деле все это было – и девичество, и тот светлый рай-гулянка у молодого тракториста Мамайчука, который теперь мотается без ног по совхозу на скрежещущих – душу режет! – колесиках…
После войны снова стал приезжать Иван (теперь он уже был капитаном дальнего плавания). И хотя он стал к этому времени одиноким – его семья погибла в море во время эвакуации на Кавказ, – к прошлому Лукия теперь не могла вернуться. С живым развестись могла бы, но с погибшим…
– Нет, Иван, – сказала она как-то, когда речь зашла об этом. – Моя судьба на войне убита.
И больше они к этому не возвращались.
Однако с каждым приездом капитана на нее словно бы ветром молодости веет, и сын вот уже замечает зарево материнских щек… Чтобы избежать расспросов, мать первой переходит в наступление:
– Говорят, ты вчера с кем-то на мотоцикле носился по степи? Что это значит?
– Я совершил большой грех?
– Грех не грех, а во время экзаменов… Знай я, получил бы ты у меня мотоцикл!
– Что ты, мама! Мотоцикл на то и изобретен, чтобы на нем ездить, мчаться, лететь, давать самую высокую скорость… Это же просто здорово: руль да два колеса, а само едет, не едет – летит! Представляешь, если бы на таком да влететь куда-нибудь… и очутиться, скажем, среди шатров древних скифов! Появиться вдруг между их кибитками на деревянных колесах! Цари, кони-тарпаны, гепарды – все перед тобою врассыпную!
– Что такое гепарды?
– Это, мама, дикие обученные кошки… С ними на охоту ходили в степях; может, как раз здесь, где мы с тобой обедаем, гепард раздирал свою добычу. И вот на новеньком мотоцикле – да в этот палеолит… Сколько было бы удивления, переполоха! Богом бы сочли, не иначе!
– Еще был бы, пожалуй, и культ твоей личности? – невольно улыбнулась Лукия его фантазии.
– О, без этого не обошлось бы!.. Ну, я хоть кое-чему полезному их научил бы: вот это вам, товарищи скифы, наука алгебра. А это вам теория Эйнштейна. А это мудрейшая наука – не играть с огнем, жить на планете без глобального хулиганства… Ну, конечно, я им радио открыл бы…
– Хватит фантазировать, – оборвала Лукия, убирая посуду со стола. – Садись за книжки. Зубри!
– Мама, эпоха зубрежки миновала. Я не начетчик.
– Смотри ты, как заговорил! – Лукия подошла и села возле сына, рассматривая его даже удивленно. – Это что-то новое, дружок. Зубрить не хочешь. Может, и учиться не желаешь?
– Учиться хочу, но по-настоящему.
– Как это по-настоящему?
– Не по катехизисам. Не по-бурсацки. А так, чтобы своим умом до всего доходить, больше собственным котелком варить…
– Это, конечно, хорошо. Котелок твой варит, других критиковать уже умеешь, а вот сам-то как будешь жить? Чего ты хочешь от жизни?
– Не так уж много: просто жить, работать, как все. Хочу, чтобы вранья от меня не требовали, очень не люблю вранья. Не хочу голодовок, про которые ты рассказывала, войны не хочу, арестов, тюрем… Работать – это да! Труд – мой бог, его люблю.
– Так вот и работай, хлопче, а не разъезжай по степи. Отныне никаких мотоциклов! Слышишь?
– Мама, ты деспот!
– Кого ты вчера по степи катал?
– Одноклассницу, мама. Не бойся, она хорошая.
– Хорошая не села бы в такое время кататься. Порядочная, видно, ветрогонка.
– Ты не имеешь права, мама, так обзывать девушку!
– Кто же хоть она?
Хлопец многозначительно улыбнулся, поняв, что ему расставили силки.
«Придет время – узнаешь», – отбился шуткой, а мать думай теперь. Ведь он же еще совсем дитя, мальчишка доверчивый, а какая-нибудь такая подвернется, что с ума сведет, забаламутит, и где уж ему тогда думать об институте, о науке… Правда, Лукия немного догадывается, кто мог его заманить на эти степные катания, но она и в мыслях даже не допускает, чтобы сыном ее верховодила эта школьная вертушка, которая из троек не вылезает, зато уже научилась хаханьки разводить со взрослыми хлопцами возле клуба.
– Выбрось все это из головы, слышишь? Рано еще!
– Тс-с!.. – настороженно поднял Виталий палец вверх.
Мать прислушалась, но ничего особенного не услышала. Только где-то за виноградными листьями веранды кузнечик тонко, монотонно стрекотал.
– «В полуденной духоте кузнечик, ошалевший от солнца, кричит…» Знаешь, кто это сказал? Товарищ Аристофан. Более двух тысяч лет тому назад… Две тысячи лет, мама, этот его кузнечик кричит!
– Ты мне зубы не заговаривай, я без твоего Аристофана кузнечиков слышала…
– А вето на мотоцикл… Это же ты, мама, пошутила?
– Нисколько. Пока не сдашь всех экзаменов, со двора выводить не смей!
Это был для хлопца удар. Ни слова после этого не промолвил. Обиженно прикусив губу, взглядом на улицу уставился, где на столбе и при дневном свете забыто сверкала электрическая лампочка.
Впервые хлопец открыто не покорился материнской воле. Не за учебники взялся, а, словно бы наперекор матери, побрел в свой угол, уставился в какую-то схему, затем стал со звоном рыться в своем радиохламе, перебирал, соединяя, какие-то провода в металлической большой коробке.
«Вот уже и поругались», – думала Лукия, но на этот раз она ошибалась: хоть и наговорила только что Виталику резких слов, хоть и жестоко наказала, запретив ездить на мотоцикле, сын, однако, не сердился, он прощал ей эту, как всегда, бурную вспышку. Разве ж хлопец не понимает, кто он для матери, разве он не способен оценить ее самоотверженную любовь? Возможно, и замуж не вышла из-за него, убежденная, что никто, даже лучший отчим, не заменил бы сыну родного отца. В душе он гордится своей матерью, ему приятно, что ее уважают рабочие. Как любил Виталик, еще мальчонкой, ждать вечером, пока она, наездившись по степным отделениям, не возвратится, накаленная солнцем, горячая, и от нее пахнет пылью, зерном, бензином, нектарным духом подсолнухов. Он так и окунался в эти запахи. Мать еще и поныне считает его мальчишкой, не принимает всерьез, для нее он просто Виталик, она словно бы не успевает понять, что он уже перерос ее представление о нем, что у него и знаний и чувств больше, чем она думает. Иногда Виталику кажется, что он понимает мать больше, глубже, чем она его. Да, за спиной у нее нелегкая жизнь со своими утратами, горестями… Он знает, на какие жертвы мать шла ради него…
Вот она сейчас хлопочет, вытирает на окнах пыль в своей комнате, где через раскрытую настежь дверь видны этажерка с книгами да высокая кровать с горой белоснежных подушек, которую мать редко и разрушает, – летом чаще всего она спит на этом диване, а Виталик во дворе, на раскладушке. Остановилась у этажерки, перебирает какие-то книжки, Виталика так и подмывает пошутить: «Мама, ты, наверно, „Блокнот агитатора“ снова перечитываешь?» Однако он промолчал, увидев: стоит она сейчас в глубокой задумчивости и на ладони у нее… белоснежный обломок коралловой ветки!
Это подарок капитана Дорошенко. Сколько удивления было в хате, когда капитан привез однажды из своих плаваний этот обломок чего-то белоснежного!.. По форме ветвистый, как рог оленя, только белоснежный. И тяжелый, будто металлом внутри налит. Кусок настоящего кораллового рифа, вот что он ей подарил! Дар океана, дар синих тропических вод…
Преподнося матери коралловую ветку, капитан сказал тогда:
– Бывают они розовые, голубые, а эта, видишь, белая… Много на таких судов погибло… Ведь это сверху цветочки, а внизу – монолит!
– Какая красота! – тихо воскликнула мать. – И это в воде растет? Белая как снег? – И стояла, будто завороженная, а капитан добавил шутливо:
– Только у нас тут пылища, черные бури, коралл у тебя быстро потемнеет… Ну, тогда выбросишь.
– Не потемнеет, – сказала она, и это было сказано с особенной интонацией, и посмотрели они друг другу в глаза тоже как-то необычно.
И в самом деле, хотя прошли с тех пор месяцы и годы, проносятся над степями пыльные черные бури, а подарок капитана все стоит в материной комнате, белоснежный и чистый, будто только что омыт океанской волной, будто только что добыт с океанского дна.
…Белеет, цветет коралловая ветка снова на этажерке, на своем постоянном месте; матери уже нет. Поправив на затылке узел тяжелых волос, она ушла со двора, не будет ее теперь до самого вечера. Поездки, заседания, конфликты, ссоры, бесконечное мотание по отделениям, где она о ком-то заботится, кого-то отчитывает, кого-то мирит – такова ее жизнь. Изо дня в день отдает себя на растерзание обыденщине, кипит в лихорадке дел, ломает голову над чьими-то хлопотами, и нет ей передышки, нет никогда покоя…
Целый вечер она будет совещаться, вести заседание рабочкома, но и там сквозь дым, сквозь заседательский чад нет-нет да и промелькнет перед ее взором образ сына: «Конечно, для тебя я деспот, конечно, тебе это кажется диким, что вот и вечером я заседаю, и речь веду о таких вещах, как валухи, да шерсть, да нормы выработки… Но как же без этого, Виталик? Без наших будней разве были бы праздники?»
А хлопец в это время бродит возле школьного виноградника, там, где недавно они с Тоней кусты подвязывали, где будто нечаянное прикосновение девичьих рук перевернуло его жизнь; потом он прошел мимо клуба, где ничего сегодня нет, мимо домика, где сестра Тони – Клава – в этот момент ссорилась со своим муженьком, а Тони нет, Тоня у родителей, и Виталий, еще немного побродив в парке, послушав чей-то влюбленный шепот в кустах, наконец возвращается домой. Жаль, что Горпищенкова кошара далеко и на мотоцикл наложено вето, – и ничего тебе не остается, как только идти вот так в одиночестве по улице Пузатых да посвистывать возле забора товарища Яцубы, где темнеет его виноградник, который со стороны поля весь обтянут колючей проволокой и напоминает в миниатюре то, что майор строил на Севере… Днем улица перекрыта шлагбаумом, а сейчас шлагбаум кто-то оттянул, и ребята из младших классов, беззвучно как летучие мыши, носятся по темной улице на велосипедах, нарочно пугая девочек-подростков, что, взявшись за руки, вольно ходят здесь и тихо напевают, и словно бы слышат уже те таинственные, возбуждающие призывы-шепоты любви, которыми полнятся заросли садов и, кажется, напоен этот вечерний воздух. Ходят девушки, трепетные, как сама юность, и, как она, слегка окутанные грустью. Идут в обнимку, и песня плывет за ними, негромкая, задумчивая, немножко грустная. Их песня-дума, и чистая ранняя грусть, и это ожидание чего-то неизведанного, манящего так гармонируют со степным покоем вечерним, и звездным простором неба, и с настроением Виталика… Мать сердится, что он не корпит над учебниками, а как он может зубрить сейчас, в такой вечер, когда все вокруг поет и сам он полон чувства нового, ранее не изведанного. Как после черной бури, когда весенняя степь пламенеет до самых горизонтов дикими тюльпанами и будто вся планета цветет красотой, так сейчас на душе у Виталика. Все стало второстепенным, неважным в сравнении с тем, что он приобрел, что у него есть теперь в жизни – Тоня.
Экзамены? Они его не беспокоят. Медаль отличника? Луна на небе – вот его медаль. У каждого человека, наверно, есть своя белая коралловая ветка, раньше или позже, а каждый находит ее, и вот он тоже нашел… Если бы только Тоня была сейчас здесь, рядом с ним! Не попала ли она после вчерашнего катания под домашний арест? Сидит да зубрит девчонка в своей чабанской ссылке, а он еще и до сих пор будто летит на мотоцикле, чувствует на себе ее горячие руки, слышит смех ее серебристый, заливистый, до сих пор ощущает на губах огонь ее поцелуя, которым она обожгла его там, на винограднике… Остановившись, Виталик сам себе улыбается в потемках, видит руку девичью смуглую, что так нежно подвязывает широколистый куст чауша-винограда… Живая, шустрая такая – от куста к кусту, куст за кустом обнимает… Смотрел бы не насмотрелся, как она делает что-нибудь или просто улицей идет: лицо поднято, грудь вперед и руками широко размахивает, аж за спину залетают. И походка такая же размашистая, упругая.
Брезентовая раскладушка ждет своего хозяина в саду. Виталик расставил ее, опробовал, прилег. Ветерок, сорвавшись, нежно шелестит листьями вверху, и среди листьев то и дело сверкает девичья, чуть-чуть лукавая улыбка. Спать? Как можно спать в такую ночь? Звездная высота притягивает взор, как тогда, когда Тоня закричала на всю улицу: «Спутник! Вон он!» И никто в совхозе не спал, в самой природе было что-то необычайное, со всех дворов смотрели, как вдруг появился в небе светлячок, появился и движется прямо по небу, ритмично поблескивая…
О чем бы ни думал, а перед глазами Тоня… Ну пускай и учится кое-как, из троек не вылезает, а разве всем непременно нужно пятерки хватать? Зато она целый год вожатой в третьем «Б». И как малыши ее любят, гурьбой ходят за ней!.. Лучшая девушка на свете! У него и сейчас кровь жарко горит, душа тает от счастья; и он снова видит перед собой те смуглые руки, которые словно бы впервые увидел сквозь куст винограда, и глаз, живой, веселый, орехово-карий, что так светло и доверчиво улыбался ему между листьев; уже не мог бы Виталик теперь поверить ни единому злому слову о ней, о ее легковесной щедрости в чувствах, о способности влюбляться едва ли не в каждого встречного… Кого угодно за такое оборвал бы, заставил умолкнуть! Тот глаз, сверкавший сквозь виноград на него, не мог бы ни на кого другого с такой нежностью смотреть – в этом он уверен.
Ну, как же ты там, Тоня? Может, припугнутая отцом, сидишь и зубришь, а может, украдкой у приемника ловишь музыку – это больше на тебя похоже! Или, быть может, слушаешь вместо музыки сухие директорские распоряжения, которые передает на отделения в этот момент Сашко Литвиненко? Взять бы да шепнуть в микрофон Тоне что-нибудь, одно имя ее, прошелестеть, как ветерок, что по верхушке яблони пробежал. Шепнешь, а она там в чабанской своей бригаде уже слышит тебя; не может же быть, чтобы она спала в такую ночь! И если у тебя есть хоть кое-как слепленный, но честно, своими руками сделанный передатчик, работающий на частоте одному тебе известных мегагерц, то…
Соскочив с раскладушки, Виталик в три прыжка пересекает двор, вбегает на веранду. Вот он уже в комнате, включает свет, бросается в свой заваленный радиохламом уголок, и через некоторое время весь звездный степной эфир принимает взволнованные, нежностью налитые слова:
– Той, которая меня слышит!.. Той, что лучше всех на свете… Тоня! Слушай меня!
А через некоторое время в накуренное, задымленное цигарками помещение рабочкома вбегает запыхавшаяся семиклассница Нина Чумак и с порога бросается к Рясной:
– Тетка Лукия, скорее домой!.. Виталик ваш… за… за… запеленгован!!!
Не чуя под собой ног, примчалась Лукия домой. Стоит чей-то «газик», во дворе гомон, во всех окнах свет горит, в открытых настежь дверях видны фигуры военных, и между ними торчит стриженная под ежик голова Яцубы в стальной седине.
– Так вот, милейший, – слышит она баритон Яцубы, и в ответ ему откуда-то из угла звенит протестующе:
– Не называйте меня «милейший»!
– А кто же ты есть? – И, заметив Лукию или, быть может, просто ощутив на себе пламя ее гнева, Яцуба оборачивается к ней: – Вот, полюбуйся на своего… Настоящий радионарушитель, хотя и несовершеннолетний… Он со своими штучками в эфир… Ну, а мы его, голубчика, и запеленговали.
– Не так вы, как мы, – поправил Яцубу офицер с полигона и улыбнулся своим товарищам, которые окружали Виталика, но, видно, вовсе не собирались хватать да вязать этого нарушителя.
Кое-кого из военных Лукия знала в лицо, ведь не раз они появлялись в совхозе на запыленном «газике», а с их старшим она встречалась на шефских собраниях. Теперь все они были официальными, исполненными сознания своих прав, – постороннее вторжение в эфир не могли никому разрешить, – но их загорелые лица снова озарились улыбками, когда они, наклонившись, стали рассматривать передатчик Виталия, примитивное кустарное сооружение в грубой коробке, которая, однако, давала возможность хозяину посылать слова привета и музыку в степь той, недостижимой для других девушке Тоне.
– Акт составлен. А это мы конфискуем, – говорит Яцуба и обеими руками берет со стола Виталиков передатчик.
– Поставь на место, – остановила Яцубу Лукия.
– Нет, прости, милейшая, конфискуем, – с ударением повторил Яцуба, нацелив на нее черные сверкающие скважины глаз. – Если уж ты малолетку разрешаешь любовные шуры-муры, то пускай себе на мотоцикле и мчится на свидание, а эфир засорять посторонними словами… нет, шалишь, парень!.. Много ты, Лукия, своему малолетку позволяешь! Любовные шуры-муры по радио разводить, эфир засорять никому не позволим!
Лукия посмотрела на сына: «Это правда?»
«Да, он говорит правду, – открытым взглядом ответил ей сын, – я обращался к ней через эфир, я говорил ей слова любви, и этот передатчик еще полон моей нежности, моих признаний…»
Яцуба, нагруженный вещественным своим доказательством, сделал было шаг к порогу, но Лукия преградила ему путь, приблизилась почти вплотную к его худому, по-волчьи вытянутому лицу – чуть не обожгла его пылающими щеками.
– Дай сюда!
И не успел Яцуба опомниться, как Лукия выдернула передатчик у него из рук и со всего размаха трахнула об пол.
Это был конец. Разбежались понятые, поспешили попрощаться военные. Их «газик» как-то даже весело рванул от двора, сделал разворот возле конторы, поднял пыль на улице Пузатых и пропал в степи.
Все затихло. Прошло немного времени, и свет погас в окнах Лукии, но долго еще и после этого – мать из темноты веранды, а сын со своей раскладушки в саду – слышали, как ровно, неутомимо стрекочет где-то в кустах кузнечик, тот самый, которому две тысячи лет…