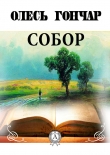Текст книги "Тронка"
Автор книги: Олесь Гончар
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 21 страниц)

Александр Терентьевич Гончар
Тронка


Ты – летай
– Ничто так не пахнет, как наша степь, – говорит молодой Горпищенко, летчик реактивной авиации, когда приезжает к отцу-чабану в отпуск.
И как-то так всякий раз получается, что отца он застает не в хате и не в кошаре, а в степи, прямо посреди пастбища. Старик обычно стоит возле отары с герлыгой, в солдатских ботинках и во всех своих чабанских доспехах: на нем пояс, а на поясе джермало, [1]1
Джермало– чабанские щипчики.
[Закрыть]доставшееся ему по наследству еще от деда-чабана, и рог бараний с нафталином – раны овцам присыпать, и бутылка смеси креолина с дегтем – тоже для заживления ран, и, конечно же, ножницы, чтобы выстригать овцам шерсть вокруг глаз, а то, бывает, так зарастут, что, бедняги, не видят колючек и нередко выкалывают себе глаза.
Чабан Горпищенко собою неказист, но в степи заметен издалека. Низкорослый, коренастый, он весь прокален ветрами; закопченное солнцем морщинистое лицо его как лоскут старой кожи, а глаза, сизые от старости, словно выгорели на солнце и стали цвета линялого степного неба.

Во всеоружии предстает перед сыном старый Горпищенко. Про таких, как он, недаром говорят, что это прирожденные чабаны. Природа не очень щедро одарила его ростом, зато он тем чувствительнее ко всему, что касается его отцовской чести. С суровым достоинством и даже настороженностью ждет он, пока сын, выйдя из «газика», подойдет к нему, и зорко следит, не сделает ли тот какого-нибудь промаха, не обидит ли отца невзначай, не нарушит ли установившегося издавна обычая. И хоть сыном его все в совхозе гордятся, знают, что он летчик не просто какой-нибудь, – сегодня он реактивный сокол, а завтра может полететь на такие планеты, где ни отар, ни степей не будет, – однако даже это не выводит отца из состояния сурового спокойствия, он стоит и с достоинством ждет должной почтительности от сына, опираясь на свою герлыгу с медным, украшенным резьбой набалдашником – брейцарой.
И только после того, как сын поздоровался, не допустив никакого промаха в этикете, выцветшая текучая голубизна отцовских глаз сразу наливается нежностью.
– Не забыл? – ставит он перед сыном свою герлыгу, наконечник которой хранит изображение с детства знакомой сыну кудлатой чабанской овчарки. – Из каких частей состоит герлыга, а ну?
– Брак, барнак, брейцара и держак! – четко отвечает сын, и этим ему уже обеспечена симпатия старика на все время отпуска.
Если бы посторонний поглядел на них со стороны, то не поверил бы, что этот невзрачный, до черноты опаленный солнцем человечек дал жизнь такому светловолосому статному юноше, который сейчас вытянулся перед ним во фронт. Сын улыбается, разглядывая отцовские доспехи.
– Здорово, а? – обращается он к сержанту-водителю, с улыбкой выглядывающему из кабины «газика».
Кто-кто, а сын знает, что добрая половина этих доспехов в обычное время осталась бы лежать дома, чабан ничего лишнего не будет в такую жару таскать с собой по степи, и если уж он сегодня так снарядился и даже начистил до блеска медную полустертую брейцару, то это только ради сына, чтобы в столь торжественный миг встречи отцу было чем потешить свое чабанское, не притупившееся и с годами честолюбие.
И вот стоят они вдвоем возле отары в степи: один всю жизнь ходит по земле пешком, а другой полжизни проводит в небе; один с герлыгой, этим жезлом пастуха, свидетельствующим о принадлежности к древнейшей человеческой профессии, а другой с крылатой эмблемой на фуражке, хотя даже и самым быстрым крыльям теперь недоступны скорости его полетов. Стоят они, а вокруг сбилась жарким кольцом отара, сбилась густо, вплотную. Грязновато-белые остриженные мериносы надсадно дышат, прячут головы от зноя в собственную тень, а за ними степь да степь, а вдали то ли марево мерцает, то ли синева неба спустилась до земли и рассеялась мглою среди бескрайних просторов.

Даже человека, чья жизнь проходит в небе, эта степь поражает своею беспредельностью и ослепительным блеском, само солнце здесь такое горячее и яркое, как будто ты очутился на другой, более близкой к светилу планете.
И все тут пахнет. И хоть пахнет не столько какими-то особенными ароматами степного разнотравья – трава здесь почти целиком вытоптана, – однако сын говорит истинную правду, что нет запахов роднее и милее ему, чем в этой степи, даже когда она пахнет просто горячим жиром отары и отцовым чабанским духом или же открытою настежь сухой кошарой, которую вот сейчас усиленно дезинфицирует солнце.
Одна из овец вдруг тревожно заблеяла в сторону кошары, и летчик, посмотрев туда, заметил, как между кустами чертополоха прыгает что-то похожее на зайчонка. Прыгает неумело, натужно, вскочит – и опять упадет, как будто подстреленное, затем поднимается снова.
– Вот говорят, что бог есть, – заговорил отец. – А где ж он есть? Пусть мы грешим, ну, а ягненок? Его он за что искалечил?
Живо, почти бегом, кинулся старый чабан к ягненку, взял его на руки, принес, положил к овце, и та сразу успокоилась.
– Вишь, как ножонки ему скрутило. Другие бегают, выбрыкивают, а этого всякий раз приходится подносить к матери, сам он не успевает по следу…
– А почему ж он такой?
– Такой уж уродился, да еще и не один: трое вот таких калек нынешний год в окоте… – Старик вдруг насупился, помрачнел. – А в Японии, я слышал, детей тридцать тысяч калеками народилось, это правда?
Сын промолчал. Заметив, что водитель ждет распоряжения, летчик отпустил его, сказав на прощание:
– До завтра.
Чабан насторожился: до завтра? Почему до завтра? Это такой отпуск? Старик насупился еще больше, но допытываться не стал – тот же чабанский гонор не позволял ему быть назойливым, лезть не в свое дело. Сын тем временем стал расспрашивать о жизни, и отец, поощряемый его вопросами, вскоре уже с жаром рассказывал о том, что больше всего волновало, – про настриг шерсти в этом году, про выпасы, которые все время сокращают, попутно выругал начальство, что не прислушивается к чабанам.
– Скота с каждым годом все больше становится, развели его столько, что фермы трещат, а придет зима – корми чем хочешь. Разве ж не было, что коров шлангами подвязывали к перекладинам? Подвяжут, да еще пробуют доить! Вот как хозяйствуем, – распалялся старик. – Весной, когда совсем прикрутило, приезжает советчик из области. «Камкой, [2]2
Камка– морская трава.
[Закрыть]говорит, кормите! Рубите ее помельче, сдабривайте – пусть едят! А то спите тут, не ищете! Столько морской травы пропадает попусту на берегу, а у них скотина дохнет!»
– Так скотина ведь камку не ест! – удивился сын. – Огонь и тот ее не берет. Бензином, бывало, обольем, бензин обгорит, а камка вся цела.
– Такой «новатор»… Ну, я посмешищем быть не захотел, не стал дурную ихнюю камку собирать. Совсем задумал было бросить отару и перебраться жить на Центральную, даже герлыгу отнес директору в кабинет. «Кому, спрашиваю, передать?» Да только некому и передать, потому что не густо теперь вас, охотников за герлыгу браться. Молодые? Они начабанят! Им бы верхом на велосипеде отару заворачивать! У иного на каждой руке часы – одни спешат, другие отстают, – так он больше поглядывает на те, что спешат, по ним и пасет… А мы ж не вечны. Нас не станет, кому эту, – отец в сердцах стукнул о землю герлыгой, – кому ее передать?
– Так, может, мне? – усмехается сын на отцовские речи.
Старик пристально смотрит на сына, на его фуражку.
– Нет, ты – летай.
И после молчания снова:
– Тебе летать.
Не спеша направляются они к чабанскому жилью, прямо, плечом к плечу, ступают по этой твердой солончаковой почве, по которой летчик, кажется, еще совсем недавно бегал подпаском. Родная седая земля чабанская… Испокон веков по ней носились дикие кони… Тяжело груженные, двигались здесь чумацкие мажары с крымской белой солью… Полевица, тонконог-типчак струятся под ногами. Нет здесь ни болот, ни вечной мерзлоты с замороженными в ней мамонтами, одна твердь целинная, спрессованная веками. Твердь такая, что могли бы отсюда и межпланетные корабли стартовать.
Поодаль от кошары, на пригорке, высится островок тополей, белеют чабанские домики; там уже беготня, суетятся женщины-чабанки, пух и перья летят по степи, и слышится звонкий, неистово радостный крик:
– Ура! Петрусь приехал!
И навстречу мчится сестра Тоня, летит, сверкая коленями, впереди всех, а за нею, как хвост за кометой, – гурьба малышей. Раскрасневшаяся, ошалевшая от радости, Тоня с разгона налетает на брата и виснет у него на шее. Наконец брат, весь жарко обцелованный, вырывается из объятий, как из пламени, и отмечает про себя, что сестренка здорово подросла за время его отсутствия, стала почти взрослой девушкой. Налитая, тугая, как вишня, глаза горят, стреляют искрами, а волосы уже накрутила на голове по-модному. Окинула быстрым взглядом степь.
– Где же такси?
– А я в этот раз не на такси.
– На «газике»? С полигона дали? Ну, а когда ты уже прилетишь к нам, Петрик, на своем? На том, что быстрее звука?
– Когда-нибудь прилечу…
– Разве негде сесть, погляди!
И она обвела рукою степь, по которой разлился светлый океан марева.
Вся трепетно-возбужденная, Тоня выхватывает у брата из рук его саквояжик и мчится с ним к дому, то и дело оглядываясь весело на брата, русые, с золотистым отливом волосы ее рассыпались и треплются по плечам.
– Хлопот с нею не оберешься, – говорит отец больше с напускным недовольством. – Ишь как накудляла… То конским хвостом поднимет, то распустит, как утопленница. Разве у нее экзамены в голове?..
На дворе много детворы, чабанчуков и чабанят бесштанных, полно утят, цыплят, кроликов, ластятся чабанские собаки, всюду белеют перья, а над всем этим – над утятами-цыплятами, над перьями и над открытой летней кухней-плитой, которая вся шипит и пышет, – сияет добрая, всепокоряющая улыбка матери.
Мама!.. Она улыбается, а солнце искрится в капельках слез на ее щеках, она торопливо вытирает о фартук полные, раскрасневшиеся от жара плиты руки, губы ее дрожат от волнения и шепчут что-то самое ласковое, самое нежное, и, погрузившись в тепло ее груди, летчик на мгновение перестает быть летчиком, как будто нет за ним вдоль и поперек изборожденного неба, нет бешеных сверхзвуковых скоростей, нет ни команд, ни тревог, ни опасностей, а есть только покой, уют и радость вновь обретенного счастливого детства. Но это только на мгновение, а потом снова все становится на свое место, и вот он опять приезжий летчик, почти гость, и мать, подавив кипение своей радости, терпеливо ждет, пока сын не поздоровается с чабанами и чабанками. Он разговаривает, шутит с Демидом и Демидихой, у которых куча детей, – иные приезжие думают, что это внуки Демида, а оказывается, все они его сыновья. Потом летчик снова возле матери, и она получает возможность поводить его по двору, показать копнушку сена, которую отец недавно накосил и приберег специально для него, – оба хорошо знают, как любит их сын поспать на сене. Потом всей семьей осматривают топольки, зеленеющие такой густой, сочной зеленью, какой и не увидишь нигде в этой голой, рано выгорающей степи.
– Как там их с неба… видно? – спрашивает отец.
– Видно, – отвечает сын, разглядывая тополиные ветви. – Славные топольки, хорошо подросли.
И на следующее лето он будет любоваться ими, мерить глазом, только к тому времени их кроны разовьются еще больше.
В тот год, как пошел сын в авиационное, были посажены эти топольки. Только степняк знает, как нелегко их выходить тут, в степи, на ветрах. Но вырастил чабан Горпищенко, поливал, поил колодезной водой. Для того и посажены они, чтоб росли, чтоб сын видел их с неба!
Разрослись тополя, зазеленели. Поднялись выше хаты, на всю степь стали видны, и летчики сельскохозяйственной авиации хорошо знают этот чабанский тополиный островок, используют его как свой ориентир.
А к вечеру между тополями, где тень держится в течение дня и степная трава волнистым руном стелется по земле, накрыты столы в честь летчика, а за столами сидят чабаны.
Уже выпили первую чарку, и молодой, сваренный по-чабански барашек дымится в мисках, в тех самых мисках, с которыми старый Горпищенко никак не может примириться, потому что издавна у чабанов принято есть тузлук только из деревянного корытца. Старик и сегодня долго пререкался с женщинами, грозил смести прочь со стола их тарелки и вилки и только после того, как убедился, что дедовское деревянное корытце уже рассохлось, вынужден был пойти на уступки цивилизации. Он и сам теперь, наравне с другими, ест из тарелочки, которую ему, словно в шутку, подставила Тоня.
А мать не перестает угощать сына.
– Вот тебе хрящик… Ты же любишь, – подкладывает она горячую нежнейшую баранину, подливает юшку, в которой плавает разваренный лук, нарезанный кольцами. Летчик, лакомясь тузлуком, смакуя солоноватое густое варево, почтительно слушает отцовские рассказы.
– Я человек давнишний, – говорит старый чабан. – Я оттуда, где пешком ходили. Где на волах ездили. На конях скакали. Ветер! Птица! – вот что было самым быстрым. А ты вот теперь в сталь завернешься – и в небо, как снаряд. Сверкнешь, как та ракета, – и нет тебя.
– А разве вы, тату, видели ракету? – лукавит Тоня.
Чабан покосился на дочь сурово, выждал тишины.
– Видел.
И хотя присутствующие здесь впервые это от него слышат, но нет у них недоверия: кто знает, может, и видел.
– Какая же она, тату, ракета?
– А такая, как и его самолет, – кивает старик на сына. – Толстая, блестящая… Вылитый самолет, только крылья обрублены.
Корней, чабан правой руки, сутулый, сморщенный, как стручок, хотя годами и не старый, считает, видно, что сейчас самое время пожаловаться летчику на соседа – полигон (у Корнея это уже стало привычкой – на все подряд жаловаться).
– Скажи ты им, Петро, у тебя ж там полно дружков на полигоне, пусть не запрещают нашим отарам подальше на их землю заходить, – говорит он, с трудом разжевывая пищу. – Потому что раньше все-таки было немного повольготнее, а теперь вот уже с месяц бомбят или не бомбят, а межу переступать не смей. Уралову, начальнику полигона, скажи, он же тебе друг.
– Что ж я ему скажу? – усмехается летчик. – Чтоб позволил вам с овцами под бомбы лезть?
– А ты слушай Корнея, он тебе наплачется, – весело вставляет отец. – Ему отовсюду притеснения да обиды, а как чарку выпьет, так сам первый в драку лезет.
– Даром что голова инеем покрывается, – добавила Корнеиха, – а на Центральной недавно так разбушевался, что дружинники даже седого хотели остричь, мне уже пришлось отбивать.
– Через то, Корней, и на полигон тебя не пускают, что ты забияка, а там люди мирные, – заключает чабан Горпищенко, и все смеются.
Тоня между тем, наклонившись к матери, шепчет в восхищении:
– Гляньте, мама, ей-же-ей, у нашего Петруся гагаринская улыбка! Это у них теперь, видно, такая мода…
– Тебе уже сразу и мода… Он всегда так улыбался, – тихо отвечает мать, а сама не может отвести глаз от сына.
А тот, сняв китель, сидит в своей зеленой летной рубашке и с таким же зеленым галстуком, который он разрешил себе чуть ослабить только за столом.
Улыбка улыбкой, а вон те ранние залысинки, появившиеся на лбу, сильно тревожат мать. Говорят, что летчики и подводники рано лысеют – верно, не от легкой жизни. Как он живет? Какая у него работа? Куда он летает, что его радует и что печалит – ничего об этом матери не известно. Как отголосок беспокойной жизни своего сына, слышит она только ежедневный грохот в вышине, грозный, могучий, будто кто-то рвет, разламывает небо. До сих пор мать никак не может привыкнуть к тому, что небо, ясное, приморское, все время над нею грохочет. Летом и зимой. Днем и ночью. И людям всего совхоза, всех отделений (которые она по старой памяти называет хуторами) приходится вечно жить под этот тревожащий гул. И хотя другие, может, к этому успели привыкнуть, считают естественным – ведь рядом полигон, к которому издалека летят чьи-то сыны на свою грозную работу, – но она, сама мать летчика, никак не может привыкнуть к громыханью, взрывам, сотрясениям. Она ведь помнит и иное небо, то небо, которое человек знал лишь по громовым раскатам, а все лето в нем только орлы да коршуны парили тихо, беззвучно. И если, бывало, забеспокоится вдруг наседка, а цыплята комочками покатятся по двору, так и знай – в небе повис орел или коршун.
– Спутники… Ракеты… А у меня еще в памяти, как мы увидели первый ероплан, – говорит мать Демида, старая костлявая женщина, к которой с обеих сторон жмутся внуки. – На панском току как раз молотили, а он летит… И молотилку остановили, крестимся да все глядим, как он медленно, потихонечку по небу пролетает.
– А теперь: сверкнул, загрохотал – и уже он там, где мороз сизый, хоть на земле в это время жарища в сорок градусов, – как будто немного хвастаясь сыном, произносит Горпищенко-чабан. – У меня, чабана, и то дух перехватывает, когда он вверх карабкается. Стоишь, смотришь, а он полез и полез куда-то прямо на седьмое небо… Растет сила, растут скорости, да только чем оно все это кончится, сынок?
– А тем, – сдерживает улыбку сын, – что летать будем еще быстрее. И дальше. И выше. Может, даже совсем без крыльев. А крылья нам останутся лишь на память, как вам брейцара. Или как морякам остались паруса на память о былых временах.
Чабан левой руки Демид, контуженный в войну и с тех пор глуховатый, хлопает глазами, что-то хочет спросить.
– А это правда, Петро, что кровь из кожи выступает, так тебя прижимает на тех скоростях? – наконец спрашивает он. – И что, бывает, и сознание теряет ваш брат?
– Со мною не случалось. Если бы случилось, то с вами бы тут чарку не пил, – сказал гость шутливо, но после этого какая-то тень промелькнула на его лице, как будто вспомнил нечто совсем не шуточное и для других непонятное. – Бывают, конечно, перегрузки, так тебя тяжестью наливает, даже в глазах темнеет, но потом… Если летчик уже влетался и хорошо чувствует самолет, ничто ему не страшно. Был, правда, у нас один курсант, намучились мы с ним: земли боялся. Ему приземляться, а он схватится за ручку и прямо сок из нее выжимает.
– Ну, и что же с ним? – спросила встревоженно Корнеева жена.
– Отчислили.
– Может, и тебя, сынок, отчислят? – невольно вырвалось у матери.
– Не те ветры дуют, чтоб отчислять, – возразил отец. – Да и чего ради? Молодой, здоровый, смекалистый… Я вот на что уже, и то порой душа взыграет: хоть бы раз! Разок бы подняться туда, где и птица никакая не бывала. А ты, старая, гордилась бы лучше сыном. Подумай: каждый день в небе!
– И каждый день… на волоске.
– Кто не рискует, тот шампанского не пьет, – вставил Корней, а молодица его, в сторонке кормившая грудью младенца, так покосилась при этом на мужа, что он даже съежился, потому – все знали – рука у Корнеихи тяжелая и не раз она вытаскивала мужа из чайной на Центральной.
Тоня пересела поближе к брату.
– Серобаба рассказывал, что когда впервые без инструктора вылетаешь, то в воздухе петь хочется. Каждый курсант, говорит, в первом полете поет, это правда?
– Кто поет, сестричка, а кто и плачет, – усмехнулся брат.
И, погасив усмешку, он опять стал серьезным, сосредоточенным. Сидит и молча смотрит сквозь тополя на чабанские герлыги; подобно алебардам, они висят рядком под крышей на белой, освещенной заходящим солнцем стене и слегка покачиваются от дуновения ветерка.
Отец над чем-то размышляет, потом говорит сокрушенно:
– Деды и прадеды пешком ходили, хоть, наверное, не один в душе сокола носил… А раз уж ты, Петро, на крыльях…
Мог бы еще добавить, как эта сыновняя крылатость скрашивает и его будничную чабанскую жизнь, мог бы порассказать, как ночами, когда звезды в полете рассекают темноту над степью (даже не сразу разберешь, звезда это или самолет), он, ведя отару, ищет в звездном пространстве и летучую звезду своего сына; как по утрам, когда серебристые реактивные, вырвавшись откуда-то с приморского аэродрома, стремительно идут ввысь и тянут за собой ослепительно белые ленты, он думает, не сын ли то, случаем, пролетел и расписался в небе над родной утренней степью. Мог бы рассказать, как ждет он своего сокола в отпуск и как ликует наконец душа его, когда сын вот так, как сейчас, сидит под тополями в кругу чабанов, самим своим появлением нарушив однообразие их жизни.
– Кроме тебя, Петро, все мы тут собрались такие, что никогда в жизни не летали, – окинул взглядом своих побратимов Демид. – Тот глухой, тот кривой, тот ребер недосчитывается, куда нам до полетов!.. Люди, которые не летали, – это, наверно, диво для тебя, Петро, а?
– Среди тех, кто пешком ходит, тоже разные люди есть: и бескрылые и крылатые.
– Это правда. Все мы, пехота, войны хлебнули, – подтвердил Демид не совсем в лад и опять за свое: – А расскажи хоть, какие мы есть оттуда, с высоты? Видно хоть нас? Или как букашки? Как кузьки какие-нибудь ползаем по земле?
«Не кузьки вы и не букашки, – хотел бы ответить им летчик. – И с самой большой высоты вижу я ваши руки загрубевшие и ваши лица, опаленные ветрами, вижу вас в пыли черных бурь и в холодной измороси осенью… Сызмала знаю ваш труд. Знаю, что работа чабанская совсем не такая, как кое-кто ее себе представляет. Быть чабаном – это не просто прогуливаться с герлыгой в степи да кашу чабанскую есть. Чабан – это тот, кто всю жизнь на ногах, кого зной продубливает, осенние ненастья пронизывают до костей. И когда другие еще спят, вы уже с отарами выходите из кошар в мокрую степь, на свои целодневные вахты…»
– Чабаны тоже рабочий класс, – говорит он им.
– Слышите? – живо подхватывает отец. – Мы тоже рабочий класс! А разве ж нет? И не только потому, что платим взносы профсоюзные, а потому, что рабочий день наш кончается в полночь, а встаешь, когда еще и черти на кулачках не дерутся.
– Каждый ягненочек через твои руки пройдет. – Демид оживился, куда и глухота девалась. – Отару ведешь – не присядешь, всегда впереди! Все следишь, чтобы она у тебя из-под пяты траву брала.
– А когда стрижка наступает! – воскликнул Корней. – Пота не меньше прольешь, чем иной возле домны!.. А спецодеждой нас обидели, – пожаловался он Петру. – Выдали чеботы на два сезона, а в кошарах навоз ты же знаешь какой – огонь!.. Там чеботы, будь они хоть железные, за месяц сгорят!
– Так-то вы своего добиваетесь! – выкрикнула Демидиха, люто краснея. – Директор вон трос для колодца никак не выпишет! Весь посекся, порвался. На днях как зацепило моего тетерю, чуть самого с ведром в колодец не утянуло!
– Да и про пенсии пора бы подумать, – буркнул Демид.
– Кому? Нам? – ястребом накинулся хозяин. – Нам до пенсий еще, как до Москвы на карачках!

Женщины хохочут, заливаются и чабанята, и Тоня смеется, зорко поглядывая на брата, как он ко всему этому относится.
– Ну, а в высоту… далеко вы летаете? – спрашивает немного погодя Корней, с покрасневшим уже носом.
Летчик щурится в веселой загадочности.
– Возьмите расстояние, которое вы пройдете с отарой за сутки, да поставьте его стоймя – вот это и будет наша высота.
Представив себе такую высоту, мать даже охает:
– Ой, боже!..
– Что ты божкаешь? – косится на нее муж. – Не бог теперь, а Гагарин!
Он снова наливает стопки. Всем обществом выпивают за здоровье летчика: «Лебединого тебе века!»
А за летней кухней-очагом, за крольчатником солнце садится на краю степи. Растет, разбухает, превращаясь в багрово-красный туманный шар. Взгляды чабанов какое-то мгновение прикованы к нему. Бывает вечерняя заря золотая, бывает алая, а эта багрянисто-туманная, пурпурная, густая.
– Задует, видно, завтра, – говорит Корней.
– А вот для нас эти приметы уже устарели, – замечает летчик с легким налетом грусти.
– Почему же устарели? – удивляется отец. – Разве уже не веришь?
– Не в том дело. Такие приметы имеют силу только до этого видимого глазу горизонта. А у нас иные радиусы. Нам что синоптик скажет.
На некоторое время за столом воцаряется тишина. Слышно, как самый маленький Корнеев посапывает на руках у матери.
Прямо от отары подошел с герлыгой еще один чабан – Микола Карнаух, высокий, худой, без левого глаза, вытекшего на фронте. Слегка пригубив и закусив, Карнаух подсаживается к старшему чабану, и слышно, как он приглушенным голосом рассказывает ему про какую-то «вон ту», что «опять не пасется», что «заскучала чего-то», – речь, очевидно, идет о больной овцематке. Карнаух вскоре ушел к своей отаре, а у Горпищенко после этого переменилось настроение, он все потягивал цигарку и больше молчал.
Тоня придвинулась к брату, нагнулась к нему и с таинственным видом зашептала на ухо, хотя про ее тайны тут знали все, вплоть до чабанят.
– Как хорошо, что ты приехал, – слышит брат ее горячий шепот. – Поможешь мне разгадать одну загадку… Вместе с твоей телеграммой я письмо получила. – Тоня при этом показала ему из-под выреза платья кончик измятого конверта и снова спрятала его глубже на груди. – Чудо, а не письмо: одни точки да тире!
– Азбукой Морзе? – догадался брат. – Любопытно!
– То из космоса письма нашей Тоне идут, – шутит Демидиха, развеселившись. – Кто же он?
– Это, видно, тот, что по радио Тоню вызывал, – укачивая ребенка, сказала Корнеева молодица летчику. – У нас же тут целая история была, Петро… Сидим вот так вечерком, слушаем радио, как вдруг оттуда, из приемника, голос мальчишеский: «Тоня! Тоня! Ты слышишь меня? Какую тебе пластинку поставить?» Кашлянул, засмеялся и поставил «Верховину»…
– Знает, разбойник, чем Тоне угодить, – вставил Корней.
– Баловство это все, – сказал отец строго. – Лучше бы про науку думала.
А мать тоже укоризненно кивнула на Тоню:
– Такие теперь ученицы пошли. Экзамены подходят, а ей хоть бы что!.. Гулянки уже на уме.
– Разве ж я просила мне писать? – воскликнула Тоня обиженно.
– Такие письма, да еще зашифрованные, это тоже наука, – вступился за сестру брат. – Хочется прочитать?
– Ой, хочется! – вспыхнула Тоня.
– Давай сюда, попробуем разгадать твою шифровку…
– Нет, нет, нет! – вскочила Тоня и, прижимая письмо к груди, бросилась наутек.
Вскоре она, раскрасневшаяся, стояла за тополем и смотрелась в зеркальце. Мать и там сквозь листву увидела ее.
– Вишь, опять прихорашивается. Гей, девка!
– Что ты все гейкаешь на нее, – рассердился отец.
– А чего она только и знает перед зеркалом вертеться. Все выщипывается – брови ей не такие!
– Птицы полжизни только то и делают, что выщипываются, – примирительно сказал Демид. – Сидит себе где-нибудь на кургане и выщипывается, чистит перо… Это и для красоты им нужно, и для здоровья.
– Недолго теперь выщипываться, раз уже пишет какой-то, – сказала жена Корнея, а старая молчаливая чабанка, мать Демида, добавила:
– Не браните девчонку. Может, то ее судьба ей пишет.
– Не успеете опомниться, как после Клавы и у этой свадьбу сыграем, – сказал Корней смачно, как бы наперед предвкушая будущее угощение.
При упоминании о старшей дочери, замужество которой сложилось не совсем удачно, Горпищенко помрачнел.
– Рано болтать о свадьбе. Еще от той похмелье не прошло!
– Довольно, – поднялась мать. – Наговорились. Отдыхать Петрусю пора…
И вот убирают столы, пустеет двор, одна за другой исчезают со стены чабанские алебарды…
А степь синеет, сиреневой становится, гаснет. Вечерняя звезда, далекая, неведомая красавица, алмазно светит с неба, заглядывает на чабанский двор, где в задумчивости похаживает летчик.
Мать готовит постель сыну не в хате, стелет ему там, где он любит: на дворе, на сухом душистом сене – копенку эту отец недаром приберег. Раздевшись в хате, сын выходит во двор в одних трусах и майке. Без мундира он такой близкий, такой свой! Тоня опять вертится около него.
– Ну, давай теперь расшифруем, – говорит брат.
Еще достаточно светло, чтобы можно было прочесть эту азбуку из точек-тире, и Петро читает ее свободно, как обыкновенный шрифт:
«Пишет тебе тот, кто в просторы эфира шепчет твое имя, чтоб долетело оно и до других планет. Но ты не задавайся. Будь догадливее. Твой навеки!»
– Что ж, поздравляю, – весело говорит брат, возвращая письмо. – Только ты теперь сама овладевай морзянкой. Впрочем, следующее письмо он тебе наверняка напишет уже знаками древних инков…
– Но кто ж это, кто? – Девушка даже кулачки сжала в радостном смятении.
– Ты опять за свое, – прикрикнул на Тоню отец, подходя к ним со своей герлыгой. – Марш отсюда! Матери помоги вон посуду убрать…
А сына ведет к копнушке, ждет, пока он уляжется. Подходит мать, спрашивает:
– Не жестко? Не колется?
– Нет.
– Тогда спокойной ночи.
И оба тихо оставляют Петра с глазу на глаз со степью, со звездным небом.
Южные ночи почти без вечеров, чуть только закат отпылал, и уже темнеет, сразу, внезапно. Небо – сплошной космический мрак с разбросанными крупинками звезд. Любит он такие безвечерние ночи, и эту тишину, и какую-то таинственность, гармонию во всей природе. Такие ночи, верно, любили созерцать древние мудрецы – и халдеи и эллины…
Отдыхает степь, набирается прохлады после дневного слепящего зноя. Взошла луна, прадавнее казацкое солнце, на котором теперь лежит наш вымпел… Лежит и ждет кого-то, зарывшись в космической, не тронутой ветрами пылище… Кто найдет его? Кто первым туда долетит? Тишина, тишина, как на дне океана. Океан лунной ночи разливается вокруг. И глубину тишины не уменьшает ни стрекотанье кузнечика где-то в траве, ни шелест тополиных ветвей… Как он любит эту ночную звездную степь! Где-то песня тает, далекая, еле слышная, будто сквозь сон. Воздух чистый, душистый… А над тобой бесконечный простор, усеянный звездами; светлой порошей тянется Чумацкий Шлях, шлях твоих пращуров – чумаков, проходивших тут в черных дегтярных рубахах… Проходили и не знали, что над ними скрутились в спираль галактики, а теперь и до них, этих непостижимо далеких галактик, достигает твой разум. Но действительно ли достигает? В самом ли деле наш разум так всесилен и всемогущ? Да, да!.. В самые сокровеннейшие космические глубины луч твоей мысли проникнет…
Повеял ветерок, и задрожали сухие стебельки, зазвучал тонко ковыль; даже скошенный, даже ставший уже сеном, он продолжает петь по-степному.
– Петрусь, ты еще не спишь?
Это Тоня. Не была бы она Тоней, если бы и здесь, перед сном, не проведала брата. Подкралась лисицей, присела на край постели.
– Ты только не подумай плохо про это письмо, Петрик, ничего такого не подумай… Я порвала его. Это кто-то просто пошутил.
– Ну, а кто же все-таки автор?
– Не знаю, ей-ей. Чуточку, правда, догадываюсь. Да только я ноль внимания в ту сторону… Вот ты мне лучше про себя расскажи… Про какие-нибудь случаи необыкновенные, приключения…

Услышав песню, доносившуюся откуда-то издалека, брат спросил:
– Где это поют?
– Наверно, на Пятом участке… Девчата с фермы идут.
– Хорошо поют. Ты спрашивала: правда ли, что мы поем в полете. Был у нас случай, Тоня… Сейчас мне эта песня о нем напомнила. Один наш летчик забыл кислород перед полетом включить. Щелкал в домино до последнего, а тут вдруг команда, вскочил, побежал – знаешь, как это бывает… Набрал высоту, а кислорода нет, стал терять сознание. С земли посылают ему команды, не отвечает, ничего не слышит и… поет! Это бывает в таком состоянии. А при снижении снова пришел в себя, посадил самолет, даже не повредил. Ну, конечно, за кислород кому следует нагорело, летчику – само собой, а мы после всего спрашиваем: «Что это ты там напевал, откуда ты песню такую выцарапал, совсем какая-то незнакомая…» – «А это, говорит, мама когда-то мне в детстве пела… Я и сам уже этой песни не помню, а как стал сознание терять, она сама по себе выплыла, родилась откуда-то из самых недр памяти…» Так что, Тоня, летчики не только от восторга поют.