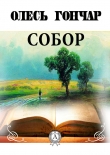Текст книги "Тронка"
Автор книги: Олесь Гончар
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 21 страниц)
Посмеявшись над этой выдумкой, они отправлялись дальше, приостанавливаясь около высокой, нацеленной в небо ракеты. И им казалось, что их ясочка не сводит глазенок со сверкающей махины, с этой огромной игрушки, и какие-то первые знаки уже запечатлеваются на пленке ее сознания, чистой и непорочной, как утренняя зорька. От ракеты не спеша шли они туда, где седеют древние могилы. Уралов считал, что дочка лучше всего себя чувствует на степном кургане, где был установлен локатор. Здесь свежий ветерок обдувал Аленку, она оживлялась и будто с любопытством наблюдала, как локатор, медленно вращаясь своим обручем, бросает подвижную тень на травянистую глобальную выпуклость кургана. Это была пока что и вся Аленкина планета, на ней не было ничего, кроме серебристой полыни да локатора, который должен был служить ребенку развлечением.

Все было бы хорошо, если бы не ночи. По ночам Аленка спала плохо. Случалось, что ни Гале, ни Уралову не удавалось прилечь и на минутку, ребенок криком кричал всю ночь напролет. Детский плач слышали и полигонные часовые, но никто ничем не мог помочь. Галя в отчаянии обливалась слезами, а Уралов, стиснув зубы, метался из угла в угол, не находя себе места, – душу ему разрывал Аленкин мучительный крик. Воин, солдат, он не признавал раньше нежных, ласковых слов, нередко посмеивался над Галей, а тут и сам научился.
– Ну, что болит у тебя, доченька, что? – припадал он к ребенку. – Животик? Головка? Скажи! Ну покажи, где болит?
А дочурка только смотрит на него глазенками, затуманившимися от боли, ранит его своим криком: помоги! Ты же сильный, а я беспомощна! Вас много, взрослых, а я одна…
Только под утро, когда всходит солнце, Аленка перестает плакать, успокаивается, а немного поспав – расцветает улыбкой. И так день за днем, ночь за ночью: днем успокоится, а только наступит ночь – ребенок в плач, даже синеет, заходится от крика.
Стал привозить Уралов из города врачей, лучших специалистов. Все осматривают, а ничего особенного не находят, поставить диагноз не могут. Это, говорят, что-то такое случайное, временное, а так ребенок здоров. Чтобы как-нибудь развлечь дочку, Уралов купил в военторге аккордеон, дорогой, роскошный, хотя играть на нем совсем не умел. Учился теперь, упорно упражнялся ночами, старательно растягивал эту чертову кожу. А когда уставал, в полном изнеможении швырял инструмент в угол, отстранял от девочки опухшую от слез жену, сам наклонялся над крохотным тельцем, боровшимся за жизнь, и молча принимал на себя ее боль, ее крик, хватающий за душу дочкин плач. В одну из таких ночей, доведенный беспрестанным криком ребенка до беспамятства, Уралов бросился к машине, завел и помчался в совхоз к Чабанихе – незадолго до того он слышал, что есть там такая бабка Чабаниха, мать капитана, которая травами лечит, – народная медицина, и все такое… Где она живет, точно он не знал, только приблизительно представлял приметы, поэтому жадно разглядывал иероглифы телевизионных антенн над домами, искал металлическую вышку – по этим иероглифам да по вышке и разыскал он Чабанихину хату. Забарабанил в окно. Старуха появилась на пороге, как призрак, как видение прошлого: растрепанная, скуластая, губы сжаты, под нахмуренными бровями – ямы глаз… Колдовское непроницаемое лицо Пифии, Сивиллы, но оно как раз чем-то внушало доверие: эта поможет, эта спасет! Как горячо он ее умолял – та поначалу упрямилась, говорила, что давно уже перестала этим заниматься.
– На колени упаду, землю буду есть, только поедемте, помогите! Век буду благодарить!
В конце концов уговорил, подхватил в «газик» и помчал ее в свою ракетную степь. Когда проезжали мимо ракет, уже рассветало, ракеты сияли своими оболочками, но бабка как будто и не видела их, даже не оглянулась ни разу в ту сторону. Осмотрела ребенка, только что заснувшего, измученного после бессонной ночи, буркнула, что это не «сглаз» и не «младенческое» и что у нее нет против этого средства. Просто, по ее мнению, не подходит ребенку это место, не для него такие игрушки и грохот…

Аленке становилось все хуже. Однажды ночью, когда Уралов был на КП, из дому позвонила жена. Он слышал, как она всхлипывала в трубку, и жизнь в нем остановилась, холод смертельной тоски вступил в грудь.
– Коля, быстрее! Аленке совсем плохо… Посинела, глазки закатываются…
А когда он прибежал домой, уже не закатывались глазоньки, уже не кричала его доченька: вечная чистая улыбка застыла на ее устах.
Она еще лежала в белой своей постельке, а возле нее на полу валялся аккордеон, хищно сверкая зубами клавишей. Жена билась на кровати в рыданиях. Охотничье ружье висело на стене. Стоял на столе полевой телефон. Все было как раньше, не было только ее, Аленкиного, дыхания, была лишь бесконечная всесветная пустыня вокруг. Каждая вещь ранила его. Подавленный, ослепленный горем, выскочил он во двор, но рыдания Гали снова вернули его в дом.

Утром весь полигон был в трауре. Ветер развевал над казармой красные флаги с черными лентами. Потрясенные трагическим концом, офицеры, солдаты о чем-то шепотом переговаривались между собой, советовались. Оказалось, что никто не мог сделать гроб. Люди, которые разбирались в электронике, имели дело с точнейшими приборами, картами, расчетами, не умели смастерить простой маленький гробик для ребенка! Потому что в этом никогда не было нужды. До сих пор здесь никто еще не умирал. Казалось, что тут все собрались для вечной жизни. И кладбища на полигоне не было – это была у них первая смерть. Все она начинала, Аленка. Только оркестр был свой да флаги черно-красные склонялись скорбно.
Траурная музыка зазвучала над степью, и бомбы в тот день не рвались.
Похоронить Аленку решили на том самом кургане, где стоял прежде радиолокатор. Теперь его там уже не было, солдаты выкопали на кургане для своей любимицы маленький окопчик. Туда шла по степи вся процессия. Офицеры молча несли Аленку над головами, несли ее по своей ракетной степи, между боевыми мишенями, сквозь их настороженный, грозный блеск, а девочка, проплывая, улыбалась и сейчас. Она уходила от Уралова в вечность со своею улыбкой, с ее непередаваемым очарованием и как бы говорила ему: «Папочка! Я не видела ничего, кроме этих твоих ракет. Не видела весен. Цветения вишенного не знала. Ни синих рек, ни городов далеких, сказочно-прекрасных. Я успела увидеть только эти грозные блистающие ракеты, среди которых и прожила свою маленькую жизнь. Короткою жизнью зарницы жила я. Появилась, осветила улыбкой ваш полигон, сверкнула разливом счастья тебе, папочка, и маме, и вот теперь я иду от вас, ухожу от вас навсегда!..»
Как хотелось ему в этот миг уничтожить, изувечить здесь все, как жгло желание поделиться с нею своей собственной жизнью – да что поделиться! Он, ни секунды не колеблясь, отдал бы ей всю свою жизнь без остатка, только жила бы она, его ясочка, его звездочка, которую ему так и не удалось спасти…
Идут. Ветер рвет красно-черные флаги, развевает над степью, льются рыдающие звуки траурного марша; с трубами идут те, кто еще вчера дежурил на КП, – радисты, вычислители, планшетисты, а теперь делят с Ураловым бремя его тяжелого горя. Слепящий день похож на ночь. Блестят слезы на загорелых солдатских щеках. Голосит Галя. Стиснув зубы, шагает рядом с ней Уралов – грудь его переполнена болью. Трещит под ногами сухая трава, улыбается в затуманенное небо Аленка. Трубы, как удавы, обвили оркестрантов, а они, бросая в ветреную степь звуки печальных маршей, музыкой бунтуют против горя, тяжело шагают, скованные удавами-трубами, как Лаокооны.
Так и расстался он со своею Аленкой. Пустой и бесцельной после этого стала его жизнь. Проснется ночью – все Аленка перед глазами со своими ручонками, с шелком волос, с улыбкой – детская ее улыбка застилает собою все небо, весь мир! Нет и не будет во всех галактиках ничего лучше и милее этого – улыбки детской, ласковых ручонок, первого лепета… Было что-то бессмысленно жестокое в этом ударе судьбы, и жизнь его, столь устойчивая прежде, сразу как бы пошатнулась. Уралов чувствовал, что утешения не найдет, примирения с несчастьем не будет и что новое, обретенное в горе прозрение не перестанет терзать его. Зачем это солнце в небе, когда ее нет? Зачем все чудеса мира, все науки, к чему все радости земные, если все это ей, его ясочке, уже не нужно? Зачем, наконец, он сам, Уралов, и его тяжелый труд, и его неистовая преданность делу?
Стал упорно добиваться перевода куда-нибудь в другое место. Хоть на Курилы, только не здесь!
Сегодняшняя его поездка в город тоже была связана с этим. И, возвращаясь к вечеру домой, он свернул к кургану, где лежала Аленка, зная, что это уже прощание. Здесь, на могиле, и ночь его застала. Все вокруг налилось темнотой, и небо над степью нависло, изрешеченное звездными пробоинами, как гигантская мишень.
Уралов, съежившись, сидел на кургане, какая-то ночная птица пролетела над ним, просвистела крыльями; вспомнилось детство в кустанайских степях, и какая там была на озерах охота, и как он, еще мальчонкой, бегал за охотниками, чтобы разными услугами взрослым заработать себе право пострелять. Сколько помнит себя, он всегда бредил охотой, далекий выстрел настораживал и бросал его в дрожь. Его охотничий пыл удивлял даже взрослых, им было смешно, что мальчишка, услышав отдаленный выстрел, бледнел от волнения, а он только и мечтал о той поре, когда вырастет и приобретет собственное ружье. Потом выяснилось, что у его деда-кузнеца сохранилось старинное ружье – катериновка, четвертый калибр, весом не менее пуда. Пушка, да и только! Говорили, что когда-то еще дедов дед, пугачевец, сделал его. Сам дед так и не выстрелил из него ни разу – боялся. А вот этот малец, Уралов, взял зарядил, вместо дроби шариков из подшипника набил, пошел на площадь, приладил к плугу, к курку привязал шнурочек, чтобы испытать издали. Вот это был выстрел!
Однако ружье не разорвало. После этого зарядил снова, пристроил свою катериновку к велосипеду и покатил на озера в степь. Встречные парни-казахи смеялись: «Всех гусей твоя пушка перебьет!..» В поле гусей тьма, на просянище пасутся, летают, гогочут, валом валят. Он зарылся в копенку проса, выставил наружу только ствол своей гаубицы, под плечо картуз подложил, чтобы плечо отдачей не раздробило. Сидит не дышит, а гогот все ближе и ближе, гуси уже чуть ли не из-под него просо дергают, и вот он, затаив дыхание, прицелился и пальнул. Удар, искры из глаз – и он ничего больше не помнит. Очнулся. «Где это я? Что со мною?» Ружье отлетело далеко, картуз тоже, плечо горит, и… ни одного гуся. Однако это не отбило в нем страсти к охоте. Он снова и снова ходил со своей пудовой катериновкой на гусей и всякий раз после выстрела падал, оглушенный, пока в какой-то инструкции не вычитал, что надо было давать заряд вдвое меньший, чем давал он…
Трудно сказать, почему именно сейчас вспомнилась ему эта ранняя мальчишеская страсть, блуждающим воспоминанием пришла она к нему среди ночной степи на могиле, где вечным сном спит его дочка. Не раз приходилось ему слышать жалобы на быстротечность человеческой жизни. Промелькнула как сон, пролетела мгновенно, не успел и оглянуться… Это так. Но сейчас его мысли о другом – о том, как много может вобрать в себя человеческая душа, мозг человеческий: целые галактики жизни может вместить в себе человек! Когда были те озера, гуси, просянище? Когда он впервые увидел трамвай? Первый самостоятельный вылет… Как все это далеко, далеко! Словно за далью веков. Почти в античности. И ничего этого Аленка не знала – ни гусей, ни просянищ, ни озер, и никогда уже не увидит. И в этом есть какая-то чудовищная несправедливость. Свежая житейская рана, она заслонила от него все, что было и что есть, болью своей терзает его и терзает. Фатальность? Если это фатальность, то он и ее ненавидит! Забрать у него Аленку, в самом расцвете загубить этот свежий росистый бутон, который уже умел всем дарить радость, – нет в этом смысла, нет, и никогда никто не убедит Уралова в том, что так бывает, и что ничего не поделаешь, и что «такова уж судьба». Не должно быть такой судьбы! За что она наказана, за что она погибла, его Аленка? Не было в ней ни злобы, ни ненависти, ни хитростей, ни коварства, не было ошибок и злых намерений. Была только ясность чистейшей улыбки, было только то, с чем человек рождается для жизни…
Сверлит Уралова мысль, тревога, что, возможно, есть частица и его вины в происшедшем. Когда привозил Чабаниху, она предостерегала, что место, мол, не подходит для ребенка и не такие ему надобны игрушки. Только под тихими звездами, а не среди грохота и взрывов здоровым и счастливым будет зачатие человеческое… Он не придал тогда значения словам старухи, а теперь чем дальше, тем больше гложет его неотвязчивая мысль: «Может, и в самом деле все здесь пугало ребенка, грохот тревожил и эти взрывы, которые то и дело сотрясают землю, может, они и в самом деле не для детской психики?» Причину смерти девочки так и не удалось установить. Командиры и товарищи считали Уралова человеком упорным, волевым, настойчивым, человеком, для которого чувство долга превыше всего. А вот тут он не уверен, все ли он сделал, чтобы спасти Аленку, выполнил ли он свой долг перед нею до конца. Одно только знает, что эта тяжелая драма не прошла для него бесследно, что угасшие улыбки Аленки для него никогда не угаснут и никогда он уже не будет таким, каким был прежде. Глубокое внутреннее потрясение как бы шире открыло ему глаза на мир, на самую сущность жизни, и то, что ранее его могло ничуть не тронуть, сейчас уже не оставляло равнодушным. Так ли ты жил? Так ли живешь? Так ли все вы, люди, живете? Множество таких вопросов задала ему Аленка, спросила и ушла навсегда, а ему оставила вечность на размышления!
Откуда-то из глубокой темноты слышится звон колокольчика. Приближается отара. Ведет ее не иначе как чабан Горпищенко, потому что только он отваживается углубляться с отарой так далеко в полигонные земли, да и полигонное начальство к нему не очень придирчиво – ведь у старика сын летчик и сам он человек заслуженный. Во время последних важных учений приехавший маршал быстро с Горпищенко сдружился, и для них обоих – для чабана и для маршала, – видно, было о чем потолковать у костра в степи около чабанской каши «в кожухе». В те дни все, что делалось на полигоне, было окутано особой секретностью, право доступа сюда имели только люди самые необходимые, остальных всех выселили. И чабан Горпищенко тоже только издали мог видеть, как незнакомые автомобили мчались в направлении полигона, как за один день появились там новые палатки и как потом на далекой косе, выходившей в море, выросло высокое ступенчатое сооружение, а в нем, словно в зыбке, в свивальнике, лежало что-то блестящее. Когда-то там орлы и другие дикие птицы гнездились, а теперь вон для каких птенцов люди гнезда вьют…
– Хотите увидеть? – спросил его маршал при встрече. – Смотрите завтра в двенадцать.
И чабан смотрел. Слышал удар, видел взрыв и как отделилась ракета. Видимая, настоящая, она вначале медленно, будто нехотя выходила из огненного вихря, а потом вдруг понеслась молнией и исчезла неуловимо, чтобы опуститься где-то, может, на далеких водах океана, тоже ровных и открытых, как степь.
И сразу же после этого все разъехались, уехал и маршал, исчезли палатки, а берег на косе снова стал пустынным.
– Это кто тут ночует? – спрашивает чабан, подходя к Уралову, и, узнав его, добавляет как-то смущенно: – А, это ты, сынок…

И, шурша травой, усаживается рядом с ним.
Сидят оба молча, вслушиваясь в шорохи отары, пасущейся на чистой, не загрязненной ничьими овечками траве полигона. Из темноты время от времени доносится звон колокольчика, нежный, мелодичный.
– Для чего эта музыка? – спрашивает Уралов.
– А чтоб не растерялись… Да и любят овечки музыку. Сопилку, песенку или тронку вот такую…
– Как, как она называется?
– Тронка.
– Никогда не слыхал такого слова, – с грустью говорит Уралов. – Как много я еще не знаю!.. Красивый звук. Это медь?
Чабан встает, ловит овечку, подошедшую совсем близко, снимает у нее с шеи звоночек, чтобы показать Уралову. Тот берет в руки что-то тяжелое, металлическое, покореженное. Похоже на снарядную гильзу, согнутую вдвое. Позвонил, задумчиво послушал. Как антипод тишины – таков здесь звук этой тронки. Среди тьмы и молчания степи она как голос жизни.
– Кусок обыкновенной гильзы, – говорит он, возвращая тронку чабану, – а какой нежный издает звук.
Что-то просвистело в ночном воздухе: летучая мышь пролетела или какая птица, невзначай поднятая отарой из травы.
– Перепелка, или что? – промолвил, глядя вверх, Горпищенко. – Уже и перепелок теперь меньше стало. А лебедей? Когда-то у вас там, на косе, лебедей мужики возами набивали. Поедет и полон воз, как снегу, накладет. А теперь и птицы переводятся. Орел разве изредка покружит.
– Сколько он живет, орел?
– Да больше нас. Стоишь смотришь порой на него и думаешь: чего только эта птица не видела на своем веку! От чумаков до ракет – все он оком своим охватил…
– Хищник…
– Хищник-то хищник, а ты присмотрись к нему. У птиц свои законы. Даже коршун не бьет чужих птенчиков, когда они еще в гнезде…
Уралов спросил недоверчиво, нервно:
– Кто это видел?
– В народе давно подмечено… Пока пташка сидит на гнезде, никогда ее не тронет… – вздохнул чабан и, помолчав, обернулся к Уралову: – Правда, что тебя куда-то переводят?
– Не только меня. Весь полигон сворачиваем.
– Канал таки подпирает?
– Да и канал.
– Один полигон сворачиваем, а другой уже на его место спешит. Слышал – в Черниговке? Тоже полигон. Только иной. Полигон железобетонных изделий – так он называется. Железобетонные кольца изготовляют, облицовочные плиты для каналов, потребность там большая в разных бетонных изделиях. Моя Тонька как вспыхнет из-за чего-нибудь, так сразу и грозится: «Брошу, к бесам, вашу отару, в Черниговку на полигон пойду! Мотористкой бетономешалки стану!»
По ласковости голоса слышно, что старик улыбается в темноте.
– Но и мы свой полигон ликвидировать не собираемся, – ревниво говорит Уралов. – Только перекочуем на другое место.
– Пока бандиты вокруг хаты ходят, разве ж можно ликвидировать? Никак нельзя, – оживился чабан. – Того вон даже над Свердловском сбили, чего его туда занесло?.. А Петро тебе привет передает, позавчера письмо было…
– Спасибо.
– «Уралову, пишет, передайте привет и жене его…»
Чабан умалчивает о том, что, передавая Уралову и Гале привет, сын еще интересовался и тем, как маленькая Уралова растет. Чувствует старый, что нельзя сейчас об этом говорить – тяжело раненный возле него человек. Хоть и молчит чабан, но душа его полна сочувствия к Уралову, проникнута сейчас его горем, потому что в этой драме на полигоне было нечто такое, что касалось не только Ураловых, а глубоко тронуло души многих людей. Пройдет время, изменится степь, не будет уже тут и следов полигона, а чабан и тогда не одному еще расскажет, как родилось на полигоне дитя, как росла в этой ракетной степи на радость гарнизону славная девочка, и как стала потом кричать по ночам неизвестно отчего, и как угасла. Расскажет, как хоронили ее на этом кургане под музыку двух духовых оркестров – военного и совхозного – и как все бомбардировщики в тот день отменили свои полеты.
После паузы он снова заводит речь о канале:
– Как придет большая вода, изменит она весь край. Вволю напьется степь днепровской воды и зазеленеет. А то еще лето в разгаре, а тут уже все сгорело, горячая вьюга свистит, тучи пыли гонит. С водой будет веселее! Еще и рис будем сеять, как в Тарасовке. У них там, говорят, очень хорошо уродился, корейцы постарались… Семей сорок их в Тарасовку приехало, чтобы и наших научить. Потому хоть возле овец, хоть возле ракет, хоть возле рису – все уметь надо. Когда я в Средней Азии был, кое-что видел. Он теплой воды, скажем, не любит, ему только свежую, проточную, прохладную давай. А у соседей механизаторы уже и кукурузу на поливных посеяли: лес! Будет вода – все будет. И сады какие зашумят!.. Приезжай когда-нибудь в гости, увидишь. Запомнилось мне слово вашего маршала, умное слово, в самую душу запало. Сидим вот так, как с тобой, толкуем, и говорит он: «Даже если у меня есть самые наилучшие ракеты, даже если есть сила весь мир завоевать, не хочу я этого. Не нужны мне континенты-пепелища. Я хочу их видеть в зелени и в цвету, хочу под всеми звездами слышать шепот влюбленных…» Вот так, сынок.
Старик встает и, не прощаясь, уходит, исчезает где-то внизу за курганом; вместе с ним отдаляется в темноте и мелодичный звук тронки.
А Уралов и зарю утреннюю встретит здесь. Уже заблещет рассвет на голых ракетных оболочках, когда появится в степи женская фигура, торопливой, стремительной походкой приближаясь к «газику», к кургану. «Галя идет», – подумает Уралов и не ошибется. Это она спешит сюда, и в руках у нее полыхает охапка живых цветов, целый сноп густо окропленных росой бархоток и петуний, гвоздик и царских бородок. Поднявшись на курган, она молча кладет их там, где следует положить, лицо ее бледнит рассвет, а губы измученно подергиваются, но при взгляде на Уралова складываются в нечто похожее на улыбку.
– Бедненький, как ты измучился!.. И роса на тебе… Я так и думала, что ты здесь. Пойдем, милый… Пойдем…
Они сходят вниз, где застыл под курганом накренившийся «газик», садятся, и Уралов, включив скорость, трогает с места. Отъехав, еще раз останавливается, и оба молча оглядываются на курган, увенчанный маленьким, покрашенным охрой обелиском, который в это мгновение для них бесконечно выше всех этих холодных ракетных обелисков, сверкающих в утренней степи. Хмурясь, Уралов сообщает жене, что все уже решено: они переезжают, и полигон сворачивается, и эти ракеты сегодня же будут повалены его солдатами.
Светает, степь ширится, как бы раздвигаясь после ночной мглы, а на востоке за блестящими столбами ракет, между седыми казацкими могилами неожиданно появляется вишнево-красная верхушка еще одного кургана: и тот курган, свежий, яркий, молодой, все растет и растет, все выше поднимается над полосой горизонта, пока не становится наконец совсем круглым, становится уже не курганом, а солнцем.