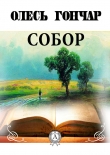Текст книги "Тронка"
Автор книги: Олесь Гончар
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 21 страниц)
– Да эта гусыня раскормленная, фельдшерица. «Чего же вы, говорю, сразу его не положили?» – «Коек не хватает». – «Сердца у тебя не хватает, а не коек! Другая бы под кустом, вон там больного положила, а не отсылала бы домой…» Да еще и Лукии нет, уехала, некому и пожаловаться на них, паразитов. Холодные, бездушные у нас люди, Иван. Как с такими новую жизнь строить, скажи?
Дорошенко поднялся на крыльцо медпункта, постучал в дверь. Дверь открылась. На пороге появилась фельдшерица в белом халате, раскормленная, полнолицая. Кажется, Яцубина подруга жизни.
– Что вам?
– Больного примите.
– Больной это… вы?
– Нет, я здоров. Больной там. – Дорошенко взглядом указал на бестарку.
– А кто вы такой, что приказываете? Вы что – новый директор совхоза? – В ее тоне угадывалась издёвка.
– Я не директор совхоза. – Дорошенко почувствовал, что теряет власть над собой, слепнет от бешенства, от хлынувшей в голову крови. Но усилием воли сдержал себя. – Больной в бестарке, извольте принять его!
Была в его голосе такая твердость, требовательность, что фельдшерица струхнула; пятясь, она залепетала что-то снова о койках, о том, что без врача она не имеет права… На шум, однако, выскочила откуда-то из внутреннего двора и врач – молодая и довольно хорошенькая особа с крашеными ресницами и модно начесанной на лоб челкой. Даже не верилось, что такая молодая и, казалось бы, вполне современная девушка успела стать столь бездушной. А в институте сама же, наверно, возмущалась бюрократами. Впрочем, как выяснилось, больного и в самом деле здесь негде было положить, к тому же для таких больных необходим будто бы особый режим – темная комната, и должны лежать они на голых досках. Одним словом, надо везти в районную больницу.
Дорошенко вежливо взял девушку-врача под руку, подвел к бестарке.
– Садитесь. И отвезите его. И сделайте все, что необходимо. Вы такая юная – бездушие вам просто не к лицу.
Докторша залилась нежным румянцем, даже маленькие уши с клипсами порозовели. Дорошенко помог ей забраться в бестарку, и она молча устроилась там рядом с Варькой, и уже ее стройные девичьи ноги красуются рядом с Варькиными бугровато-тяжелыми, в темных узлах набухших вен.
Варька, выпрямившись, трогает вожжами лошадей, и бестарка с тарахтением удаляется по улочке в степь.
А капитан Дорошенко после этого придет домой, выпьет еще стакан материнского травяного настоя, успокоится, отдохнет под защитой исцеляющей материнской заботы.
Когда он приляжет на диван, мать, присев у окна с какой-нибудь работой, будет посматривать на него темными пронзительными, словно бы заглядывающими в душу глазами. Лоб ее время от времени хмурится в задумчивости, а губы что-то невольно шепчут. Сыну иной раз чудится, что она и вправду владеет гипнозом, какой-то врожденной силой внушения. И сегодня еще рассказывают в совхозе, как она сразу после войны, когда тьма-тьмущая крыс развелось на фермах, будто бы сумела каким-то способом выманить, вывести эту нечисть из помещений. Вывела и повела степью, и они шли за нею, послушные, как барашки, повела их до самого моря и там утопила. Тогда же, после войны, когда тут еще не было врачей, отовсюду несли к ней детвору лечить от «младенческого». Позднее даже медики признавали, что «бабкины купания дают известный эффект»… Какое это сложное создание – человек! Как много еще в нем неразгаданного, таинственного, сил неисследованных!..
– Чем вы, мамо, лечите людей?
– Кого как… Кого зельем… Кого наговором… А то еще можно лечить болью… Или добрым словом…

Все эти дни, что он гостит дома, мать только им и живет, ласка ее неистощима, но иногда ему кажется, что и родной матери он был дороже тот – морской, обветренный, знавший бури, ураганы, опасность, вызывавший тревогу за себя, а не этот бескрылый, тихий, домашний… почти пенсионер. Конечно, не случай в океане причина столь длительного отпуска. Как показало исследование, он не облучен, разгулялась гипертония, и только. И зрение ухудшилось, – это, конечно, тоже временно. Сейчас уже вроде бы лучше… Хотя бы еще один-единственный раз ощутить себя среди просторов океанских!.. И хотя после того случая, что едва не закончился для научного судна трагически, Тихий океан перестал быть для Дорошенко вольным и чистым океаном его юности, – ведь там теперь совершалось нечто преступное, его отравляли, над его извечной чистотой глумились! – однако Дорошенко чувствует и сейчас непреоборимое желание быть там. Он готов на все. Ему порой даже кажется, что и тогда, в океане, не только встречный тайфун загнал их в ту опасную зону (официальная версия была – обходили тайфун!), но еще и какое-то затаенное в глубине души чувство, мятежное чувство протеста подсказало ему рискованный курс, желание своим присутствием защитить океан, его жизнь, его чистоту. В рейс! Хотя бы в последний, хотя бы в самый трудный!.. Только б не забыли, только б не чувствовать себя за бортом, как бывает, когда ночью шквалом смоет человека с палубы за борт, и судно ушло, и крика никто не услышит…
Мать, как никто другой, понимает его теперешнее состояние, понимает тоску, что его гложет, и то глубокое смятение, что все время живет в нем, от нее не скроешь за внешней выдержкой душевного тоскливо-жгучего ожидания, ожидания того, что может никогда и не сбыться…
Придет ли радиограмма? Вызовут ли его в пароходство, пусть на портовую службу, на роль капитана-наставника, что ли, если уж считают, что судовождение не для него?
После обеда он снова выходит из дому. Хотелось бы матери задержать его, не пустить – куда ему в такую жару, зачем в этом белом отутюженном кителе бродить где-то по пыльным гумнам полевым или, как люди передают, взбираться даже на комбайн и, став рядом с водителем, пускаться словно в безвестность на том тарахтящем «степном корабле»?
Нет, не удерживает его мать… Хоть сама никогда и не бывала в морских странствиях, но душой понимает, почему так нужно иногда человеку просто выйти на курган степной, чтобы оттуда окинуть взором далекую морскую синеву и ощутить лицом, как ласковый предвечерний бриз-ветерок тихо тебя овевает…
В открытую слепящую степь идет капитан Дорошенко, на ежедневное свое хождение по Дуге Большого Круга, идет, неся в себе все то же щемящее беспокойство, что нигде не покидает его.
Скоро вступит в силу август, затянет степные горизонты пыльной сухой мутью – в конце лета, как и весной, снова приходят в этот край и ветры, и вихри, и пыльные бури. Погаснет степь, побуреет, вылиняет, осень обнажит посадки, вьюга засвистит поземкой по схваченному гололедицей степному океану. Тесным станет свет, сузятся горизонты, все утонет в туманах, в мелких моросящих дождях…
А покамест небосклоны ясные.
И среди этих чабанских небосклонов, то сочно-красных утром, то сухо пылающих, оранжевых или раскаленно-багровых при заходе, отныне будет день за днем тянуться твоя безбурная жизнь.
Гомон языков, калейдоскоп лиц, влажное дыхание тропиков и гул Атлантики – все он принес с собой сюда, на родной степной берег.
Вот о Хиросиме сегодня ему бригадир каменщиков напомнил, часто его спрашивают о Хиросиме: «Что такое Хиросима? Расскажите…» При этом слове ему почему-то слышится сразу тупое монотонное постукивание пачинко – игральных автоматов – на каждом углу новоотстроенных кварталов погибшего города. За два дня своего пребывания там Дорошенко видел лишь людей без улыбок, душевно угнетенных, по крайней мере, ему так казалось, видел атомный лазарет, переполненный несчастными, обреченными людьми, которых губит белокровие, глаза которых разъедает катаракта… И всюду его преследовал все тот же отупляющий, будто наркотик, звук пачинко. Но Хиросима ведь не только это. Хиросима – сотни тысяч обуглившихся людей… Хиросима – это когда балки стальные плавились, и черепица скипалась в груды шлака, и вышивка отпечаталась, как трафарет, на живых женских плечах… Это те девушки-школьницы, что, опираясь на бамбуковые палки, ковыляют куда-то в обгорелых лохмотьях и зовут матерей, просят глоток воды среди слепящего радиоактивного зноя.
Все это осталось далеко позади. Отныне он здесь, где чабаны водят отары без лоций в своем необозримом сухом океане, где над полями морские чайки, эти крылатые «души погибших моряков», лишь изредка промелькнут, пронесутся белокрыло, собирая кузьку. С детских лет привык он к просторам, к привольной жизни, среди многочисленных друзей его есть простые чабаны и ученые-океанологи, степные комбайнеры и моряки всего света – богат он дружбой, опытом, стремлениями, богат своей любовью к людям и ответной их любовью к нему. И вот со всем этим богатством оказаться в стороне, в лимане, в вечном штиле? Быть может, отныне твоей палубой будет эта твердь степная, по которой ты идешь напрямик, а навстречу тебе горячим воздухом плещет простор знакомый, океанский. Нет только волн, нет бурунов. Сизоватая, вытоптанная овцами степь кое-где побрызгана капельками синего цвета – это упрямо цветут упругие петровы батоги. Молодыми глазами смотрел ты когда-то на эту степь, была в глазах орлиная зоркость, а сейчас слезой расплываются разбросанные по полю капельки синего цвета…
Вот могила казацкая. Это место когда-то называлось Скарбным. Не раз в детстве у тебя дух захватывало от рассказов про клады, зарытые здесь запорожцами. А как найти? Выезжай верхом на курган, когда всходит солнце, и там, где ляжет тень от головы коня, копай, там и будет клад. Все меняется, только этот курган на месте, да солнце на месте, да тень от коня!
Хотя уже и не весна, но марево еще и сейчас по-весеннему щедро затопляет степные просторы, течет, струится повсюду, словно светлая весенняя разлей-вода. Сверкает на открытых равнинах, во впадинах-лощинках, обтекает далекие скирды и посадки, делает их среди этого половодья нереальными, иллюзорными. Словно в плесах чистых стоят, в лагунах, и отражаются в воде. А подойти ближе – там сушь, колючие заросли маслин да гледичий и колючая сухая трава внизу. Кое-где она, правда, еще не совсем сухая, зеленоватыми волнистыми прядями-руном стелется по земле, привлекает путника.
Вот такое выбрав место в тени, Дорошенко садится на траву, взгляд его отдыхает на пшенице, смуглой, полноколосой, солнечно застывшей у самых посадок; подсолнух-падалица лежит неподалеку, – видно, кто-то переехал его, но он еще цветет, цветет и в пылище, и пахнет твоим детством, и пчела озабоченно лазает по его тугим, раздавленным колесом сотам, впивается в каждую чашечку, берет нектар… Подсолнухи, эти братья солнца на земле, были его любовью и в далеких странствиях…
Почувствовав усталость, Дорошенко прилег на спину, вытянулся среди волнистой травы.
«Все, в сущности, так просто, – думалось ему, – стоит только понять, что живешь один раз, что жизнь – это тот рейс, который не повторяется, и что его нужно совершить достойно…»
Голое небо над ним.
Светлое, дневное, оно и сейчас таит в своей глубине все звезды и созвездия, которые открываются только по ночам.
Такими невероятно далекими кажутся сейчас Ивану Дорошенко прошедшая юность, семья, жена, дети… Были бы уже взрослыми сыновья. Ничего определенного не знает он о их последнем смертном часе, о том, как тонуло разбомбленное фашистскими пиратами транспортное судно, на борту которого они находились… Точно знает лишь, что случилось это в тихую звездную ночь. Из всего услышанного потом память крепче всего почему-то сохранила это…
Вспомнился еще родной порт, каким видел его в последний раз перед отъездом, – в причудливости ночных огней, в стрелах работающих кранов, что и ночью трудились, откуда-то доносился грохот лебедок… Суда, малые и большие, словно бы только и ждали просторов, рейсов, ветров.
Очнулся Дорошенко от удара якорной цепи, лязгнувшей где-то вблизи. Вскочил, сел и в этот же миг понял, где он, понял, что невзначай задремал у дороги в посадке, а разбудил его не грохот якорной цепи, а тот вон комбайновый агрегат, что, приближаясь, выплывает из-за горизонта, косит, снимает широкой полосой червонно-смуглую дозревшую пшеницу.
Капитан, будто сбросив усталость, поднялся взбодренный и, как перед выходом из каюты, машинально провел рукой по пуговицам кителя – все ли застегнуты. Настроение его сразу улучшилось. «Услышать здесь грохот якорной цепи – это добрая примета», – улыбнувшись, подумал Дорошенко и неторопливо пошел навстречу комбайну.

Железный остров
Синеет безбрежное море.
Детским щебетом начинается утро на одном из живописных полуостровов, что по-здешнему называется просто кут. [6]6
Кут– угол – в данном случае мыс.
[Закрыть]На полуострове большой старинный парк, один из тех парков, какие некогда создавались в степных имениях батраками и тем рабочим степным людом, чьи внуки и правнуки сейчас все лето резвятся в тени этого парка и загорают у моря до смуглости мулатов. «Парижком» называется этот кут и парк. И это нужно понимать как «Парижская коммуна» – такое название носила основанная здесь еще в двадцатых годах коммуна демобилизованных краснофлотцев. Коммуны давно нет, а имя осталось. Осенью и весной, пока дети в школе, в «Парижкоме» проводятся совещания районного масштаба, форумы чабанов или кукурузоводов, сюда же едут отмечать и Первомай, а потом на все лето – обильное солнцем, степное! – власть здесь переходит в руки пионерии, мальчишек и девчонок, которых привозят сюда и жилищем для которых становятся вылинявшие профсоюзные палатки, а единственным начальством – воспитательницы и вожатые.
И хотя здесь все больше люди веселые, жизнерадостные, но и среди них своими выдумками, весельем да голосом-звоночком выделяется Тоня Горпищенко. Когда ни посмотришь, она в окружении детворы. Но, вспоминая отцовскую науку, Тоня потачек им не дает, всякого умеет приструнить; и все же малыши льнут к ней, им с нею весело. Тоню они по-настоящему любят. Ее энергии хватает и на танцы, и на песни, и на разные игры, а детям, прибывшим сюда из областного центра, никто так интересно, как Тоня, не расскажет о разных травах и насекомых, о муравьях и степных птицах; она тебе, изловчась, и цикаду поймает, и ящерицу схватить не побоится, чтобы вблизи рассмотреть ее с детьми. Но если ты разиня-растеряха и, выкупавшись, забудешь у моря что-нибудь из своей одежды, то не надейся, что Тоня-вожатая тебе это так простит. С ее легкой руки на лагерном дворе появилась «Доска юных разинь», где висят на гвоздиках чьи-то забытые трусы, чьи-то тапочки, чей-то картузишко.
Любят дети ходить с нею в походы, а поскольку смотреть здесь особенно нечего – все степь да степь, где только и увидишь древний, может, еще сарматский курган или следы укрытий-капониров, в которых во время войны прятали самолеты, – то чаще всего Тоня идет с детьми по дуге залива вплоть до того места, где у самого моря на кромке рыжей суши сочно зеленеют кустики камыша.
– А угадайте, откуда этот камыш? Почему нигде больше нет, а здесь зеленеет?
Пока горожанин думает, кто-нибудь из степняков уже и отгадал:
– Видно, тут есть пресная вода.
И вправду, в камышах натыкаются они на такое богатство, какому и цены нет в степи: криница чистой ключевой воды! Не очень и глубокая она, солнце просвечивает ее до самого дна, а дно, как в каменоломне, золотится обломками камня-ракушечника. Детям раздолье: ложатся вокруг криницы, набирают воду в пригоршни и пьют, смакуя, а утолив жажду, резвятся, брызгают друг другу в лицо, визжат, покамест снова не приутихнут, глядя, как вода в кринице отстаивается и солнечные лучи, преломившись в ней, будто застывают. Вот тогда и узнают они от Тони-вожатой, что криница эта не простая, что о ней ходит легенда, будто в ней дно двойное, и если долго смотреть вот так, не отрываясь, то можно разглядеть, как на дне между этими громоздящимися камнями сверкнет обломок сабли казацкой. Легенду эту знает вся степная округа, и, конечно, в воскресенье ни одна пьяная компания не минует криницы, чтобы не уставить в нее свои пьяные рожи, – им мерещатся там и сабля, и кинжал, и что угодно… Бывает, что пытаются достать этот клад, ведь совсем близко видят саблю и рукоятку в инкрустации, но стоит сунуть руку в воду, как исчезают и дно и клад…
Лежат малыши и смотрят в глубину так пристально, что кое-кому и в самом деле мерещится нож, острый, как луч, да и самой вожатой, распластавшейся между ними над криницей, тоже чудится уже что-то сверкающее между камнями, или, может, это просто солнечный луч играет? Но видит она здесь, в этой чистой кринице, и то, чего малыши при самой буйной фантазии увидеть не способны – не способны они разглядеть, как откуда-то с самого дна сквозь дрожащий хаос сломанных лучей улыбается их вожатой какой-то парнишка, тот, чье изображение вот так же глядело на нее в степи из воды, налитой в резиновое колесо для чаек…
Бывает, что набредет здесь на них лагерный баянист, у которого на голове такая копна густой шерсти, что даже странно, почему его не остригут в эту жару; баянист начинает приставать к вожатой с разными шуточками, называет ее смугляночкой, а она прямо в глаза говорит ему: как не стыдно бить тут баклуши, когда мог бы в это время зерно грузить на току.
– Надо ж кому-то для детишек на баяне играть, – хохочет затейник.
А Тоня ему снова:
– У меня вот пятиклассник Петько Шамрай на баяне играет не хуже вас. А то привыкли разбазаривать общественные деньги… В некоторых пионерлагерях, говорят, до того дошло, что даже горнистов нанимают играть побудку пионерам по утрам…
Однажды, когда возвращались в лагерь, баянист, крикнув детям: «Идите, идите!» – на минутку еще задержал Тоню-вожатую в камышах, и тогда малыши, насторожившись, как зайчата, снова услышали:
– Эх ты, смугляночка!
И вслед за этим звонкая пощечина раздалась и взволнованные слова их вожатой:
– Сперва пойди трижды умойся!
Трижды умойся – значит, перед тем, как лезть с поцелуем…
И даже малышам эта формула их вожатой пришлась по душе.
А чем ближе конец недели, тем больше Тоню охватывает волнение. В субботу с самого утра она уже сама не своя, возбужденно-радостная, безудержно бросается обнимать подружек-вожатых. И они знают, в чем дело, они дружно просят начальника лагеря, чтобы отпустил Тоню домой на выходной день.
Под вечер ее провожают подруги и детвора, и даже те, чьи трусы да картузы она вывешивала на «Доску разинь», становятся немного грустными: ведь Тони завтра с ними не будет.
До совхоза отсюда далеко, лежит туда окружная пыльная степная дорога, но Тоня, чтобы сократить путь, решает брести через лиман напрямик – так она срежет угол, доберется на тот берег много быстрее, а там уже рукой подать до одного из совхозных отделений. Залив здесь не похож на тот, что у совхозных земель, этот еще мельче, его можно перейти вброд. Помахав на прощание рукой детям и подругам, что вышли на берег ее провожать, Тоня подбирает платьице выше колен, и ее тугие смуглые ноги смело забредают в это тропическое море, где нагретая за день вода тепла, как молоко, и горячо-йодисто пахнут водоросли. Густо сбитые когда-то волной, они неподвижно киснут в воде, и по ним так мягко ступать. А дальше от берега море становится прозрачным, чистым, на дне различаешь каждую песчинку, а еще дальше видно, как и водоросли по дну растут какие-то узорчатые, ветвистые – фантастическая, неземная растительность. В том заливе, что у совхоза, водорослей вовсе нет, а здесь их целый лес под водой, солнце отчетливо высвечивает их, виден каждый стебелечек, будто в аквариуме, а там, где Тоня бредет, они сами раздвигаются перед нею, будто уступают дорогу, будто знают, куда Тоня спешит. А она и впрямь торопится, и все у нее в груди смеется, и сердце горит жаждой свидания. Не то что лиман, который и курица перебредет, а, кажется, и само море она бы перемахнула, лишь бы скорее быть там, где хлопец веснушчатый ее ждет! Сколько раз то утром, то вечером, когда лагерь уже спит после отбоя, она приникала ухом к приемнику, прислушиваясь, не обратится ли случайно к ней Виталик, не скажет ли хоть одно слово, может, просто назовет ее имя. Ведь пока не был он радистом в совхозе, то позволял себе такие штучки, мог через эфир разыскать ее в степи, позвать «ту, которая меня слышит…», а теперь, когда ему доверили весь радиоузел, Виталик будто преобразился, сам себе запретил откалывать подобные номера. Да она и не сердится на него за это. Не сердится, что вынуждена сама сейчас бежать к нему на свидание, ведь он сегодня на дежурстве и не может отлучиться, – не то что она. Во всем она ставила его выше себя: в знаниях, умении работать, в способностях; и если только в чем и могла она не уступить, а даже превзойти его, так это, может, в своей любви, убеждена была в этом. Брела, все выше подбирая платье, то напевала, то вслух смеялась, радуясь, что свободна, что впереди вечер свидания и будет целовать ее тот, кто ей люб.
Залив оказался шире, чем представлялось с берега, уже и вишнево-красное солнце скрылось за обрывистым берегом, а Тоне, обжигаемой медузами, еще далеко было до суши. Залив не пугал ее своей глубиной – ведь она знала, что местные женщины, работающие по ту сторону на птицеферме, каждое утро, подобрав юбки, переходят его вброд, но женщинам тут все броды, видно, лучше известны, чем ей. В одном месте Тоня запуталась в таких водорослях, что немало времени потеряла, пока выбралась, и пришлось потом далеко обходить это Саргассово море. А в другом месте неожиданно попала на глубину, оказалась в воде по грудь. Однако и это не погасило радостного ее настроения, тем более что дальше море снова становилось мельче, и Тоня побрела быстрее. Пугалась она, только когда медузы касались в воде ее голого тела, обжигали ноги: тело от этого остро щемило, как от крапивы; но не столько самого ожога боялась Тоня, сколько просто не переносила прикосновений этих скользких морских чудовищ.
Молодой месяц – такой острый, что обрезаться можно, – сверкал в чистом небе, и вечерняя заря уже покачивалась на воде перед Тоней, и какой-то чабан с далекого берега, склонившись на герлыгу, смотрел, как чья-то сумасбродная дивчина напрямик море перебредает.
…Совхоз уже спал крепким трудовым сном, когда, проскользнув вдоль парка мимо сторожей, перебежав улицу, какая-то девичья фигурка неслышно метнулась в сад к Лукии, метнулась и, затаив дыхание, остановилась над Виталиковой раскладушкой в мокрой, к телу прилипшей одежде. Казалось, девушка вовсе не дышала какой-то миг. А потом чуть-чуть тронула пальчиком ухо парня. И от этого прикосновения он тотчас же проснулся, вскочил, будто и сна не было.
– Это ты?
– Я.
– Вся мокрая, – он бережно привлек ее к себе. – Под каким это дождем была?
– Через лиманы, через все Черное море к тебе брела! – счастливо смеялась Тоня. – Акулы на меня бросались, спруты, осьминоги…
И Лукия, спавшая на веранде, проснулась – ей почудился какой-то шорох в садике, чье-то постороннее присутствие, ей даже послышалось, будто кто-то целуется вблизи.
– Кто там?
Никто ей не ответил. И хотя утром сын на все ее расспросы отделывался шутками, говорил, что такое может присниться, она была уверена, что ночью кто-то все же был в саду и после ее окрика легонько выпорхнул оттуда.
В этот день передовые рабочие отделений на двух пятитонках, со знаменами отправились в соседний совхоз проверять договор соцсоревнования. Лукия Назаровна возглавляла эту поездку.
Лукия на грузовике – в одну сторону, а сын на мотоцикле – в другую.
На мотоцикле у него Тоня, она сидит за спиной у хлопца, развеваются волосы на ветру. В руке авоська с бутербродами. Тоня и Виталий съедят их, вдоволь накупавшись в море, выберут себе пустынный берег, где будут вдвоем целый день, а под вечер мотоцикл Виталика доставит Тоню прямехонько в лагерь, к самой ее палатке.

Мотоцикл летит вприпрыжку. Степь, куда ни глянь, равнина и равнина – твердь вековая. С такой тверди, оттолкнувшись от нее огненными ракетными бурями, могли бы взять разгон межпланетные корабли, а пока что типчак дикий здесь свистит да полынь серебрится – так и ложится от ветра там, где проносится Виталькин мотоцикл по своей степной орбите. Все неизменно, неподвижен горизонт, один он летит-мчится средь этих устоявшихся просторов, только он своим громким тарахтеньем нарушает бесконечную, остекленевшую от солнца степную тишину. Коршун следит за ним из-под неба удивленным хищным глазом: кто ты, что не заяц и не сайгак, а быстрее их мчишься? На бешеной скорости мотоцикл перескакивает солончаки да ложбинки, пока, оказавшись среди заросших молочаем и чертополохом песчаных кучегур, не начинает чихать, кашлять, буксовать. Выбравшись на твердую почву, он снова рвется вперед, мчится так, будто хочет взлететь в воздух, оторваться от вязких песчаных дюн да коронованного чертополоха. Хлопец уверенно виражирует по бездорожью между кучегурами, ищет, где меньше песка, где он не такой вязкий, а песок чем дальше, тем сыпучей, и мотоцикл с лету раз за разом проваливается в него, зарывается, трясется на месте, и тогда хлопец оборачивается к своей спутнице немного виновато и восторженно:
– О, дает! Как на вибростенде!
Она смеется:
– Я не бывала на вибростенде.
– Я тоже не бывал. А теперь представляю!
Вот это жизнь! Летят – им весело, буксуют – им весело тоже. И пока мотоцикл натужно разгребает песок, пока моторчик упрямо фыркает, Тоня наклоняется к хлопцу, заглядывает ему в лицо. Глаза ее горят, тают влажно, они словно пьяные, осоловелые от зноя и прилива девичьей нежности… Вот уже и мотоцикл лежит на боку, судорожно бьется в песке, а они стоят над ним, замерев в объятиях среди этих залитых солнцем просторов.

Море где-то уже близко, но его не видно из-за песчаных кучегур. Из степи было видно, а теперь синева морская исчезла за сыпучими барханами, за молочаем да чертополохом, какие только и растут в этих пустынных местах. Сверкающей россыпью искрится песок, желтеет молочай, огромный чертополох ветвисто раскинулся на холме, словно колючий кактус где-то на меже мексиканской пустыни. В таких местах мотоцикл приходится перетаскивать. Виталий ведет. Тоня подталкивает. И как только хлопец снова заводит мотор, Тоня уже взбирается на свое место, распущенные волосы опять развеваются на ветру, и Тоне смешно от полета, от лихости, оттого, что ветер щекочет, обнажая колени, смешно, что видит она все время перед собой тонкую, еще совсем мальчишечью шею Виталика с глубокой ямкой, какие бывают только у лгунишек. Он не такой, а ямка на затылке вроде гнездышка, хоть перепелиное яйцо клади. Зато такого мотоциклиста поискать! Впервые ощущает Тоня такую скорость, такую бурную езду с препятствиями, но ей нисколечко не страшно – никакого несчастья не может быть, когда такой водитель сидит за рулем!
Будто чувствуя ее одобрение, Виталик берет еще один песчаный барьер, дает скорость, чтоб вираж получился на славу, и – уже есть такой вираж – и тогда еще крепче обнимают его ласковые девичьи руки, и он совсем хмелеет от счастья.
Рывок – прыжок – вираж через последний песчаный холм, и вот вам море, вот вам его синева, тихая, беспредельная…
Один-одинешенек среди морской равнины высится истуканом вдали крейсер, и, кроме него, нигде ни паруса, ни катерка. Побережье тоже пустынно, безлюдно. Тоня впервые здесь, среди этих холмов. Бывала на море не раз, но там, где оно ближе подходит к совхозу, а не в этих барханах, куда и отары отца нечасто, видать, забредают.
Ленивый плеск волн… Сухая морская трава чернеет, шелестит под ногами; кое-где рыба в ней смердит, разбухнув. Даже Виталика немного оторопь взяла: ни живой души вокруг. Слепящие остекленевшие просторы. Дрёма во всем. Вдали на берегу белеет одинокая рыбацкая хатенка, где ночует рыболовецкая бригада в сезон лова, но сейчас и там никого не видно. Даже дядько Сухомлин, что неделями бездельничает здесь, стережет рыбацкое жилье, сейчас не вышел навстречу в своей измятой шляпе и брюках с одной подвернутой штаниной, не вышел, не остановился, всматриваясь, кто прибыл, кто нарушил эту благодатную тишину и покой… Да разве же не удивительна их Земля – планета, на которой есть где-то и города многомиллионные с университетами, с небоскребами, с подземными дворцами метро и спортивными аренами, на которых неистовствуют десятки тысяч болельщиков, и в то же время есть такой тихий берег, где дремлет под черепичным козырьком одинокая рыбацкая хатенка, первозданно синеют просторы моря, и чайка сидя спит у воды, белая, неподвижная, будто из алебастра.
А впрочем, есть здесь еще одно живое существо: корова, принадлежащая дядьке Сухомлину, красавица красностепной породы, забредя далеко от берега, неподвижно стоит средь чистой морской синевы. Жара, видно, загнала ее туда, и она стоит себе, прохлаждается в воде по брюхо, стоит, как индийское божество, только хвостом время от времени обмахивается, обмахивается совсем по-нашему!
Корова с любопытством поглядывает с моря на прибывших.
– Она словно хочет нам что-то сказать, Виталик!
– Вполне возможно. Что хочешь ты нам сказать, о добрая корова? Ага! Она говорит, что море здесь – чудо! Прямо как в тропиках. Только нет в нем коралловых рифов!
– И еще что?
– И что дядько Сухомлин отправился на воскресенье в Рыбальское. И что мы здесь с тобой одни! Можем делать что пожелаем! Свистеть, петь!
И хлопец запевает во всю глотку: «Степь и степь одна без краю, аж до моря берегов!..»
Тоня от души хохочет: ей очень нравится, когда он начинает вот так дурачиться.
– Эта корова так смотрит, будто и вправду узнала тебя!
– Еще бы! Индийская священная тварь, она сразу догадалась, кто перед нею! Перед нею йог! Тот, что умеет стоять на руках и на голове! Глубокоуважаемая корова, прошу вашего внимания!
И уже хлопец стоит на голове, уже на руках идет вдоль берега – пятками в небо, лицом вниз, – а Тоня, заливаясь смехом, медленно ступает следом по мягкой морской траве, ведет мотоцикл.
– Хватит, хватит! – наконец, смилостивившись, говорит она; и только после этого юный йог, упруго перевернувшись, становится на ноги, с лицом, густо налившимся кровью.
– Купаемся! – говорит Тоня и первой начинает раздеваться.
– Я сейчас! – вскочив на мотоцикл, Виталик понесся вдоль берега к рыбацкой хате.
И вскоре Тоня видит уже, как он по-хозяйски ходит по двору, обследует Сухомлиново кочевье. Потом принимается сталкивать на воду один из баркасиков, что чернели, вытянутые на берег.
К ней Виталик подплыл уже на том баркасике. Подплыв, посмотрел на Тоню – и оторопел. Никогда он еще не видел ее раздетой. В одном купальнике стояла, красуясь на весь берег открытым девичьим телом, стройным, загорелым. Даже боязно парню стало, что она такая красивая. Неужели это он, шкет, целовал ее? Перед ним стояла, улыбаясь, будто незнакомая, совсем взрослая девушка, а он перед нею ежился на лодке в своих трусишках, как мальчонка, растерянный, пораженный блеском ее обнаженных плеч, обнаженных ног, стройного девичьего стана. Застеснявшись, он беспорядочно налегал на весла, вертел лодку на месте, а Тоня, наоборот, чувствовала себя совсем свободно, стояла и закручивала перед купанием волосы узлом, радостно осматривая это синее раздолье.