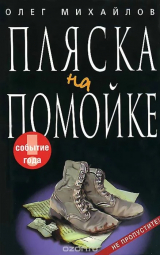
Текст книги "Пляска на помойке"
Автор книги: Олег Михайлов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 11 страниц)
Розовощекий сержант, едва ли не ровесник влюбленных, от ее слов стал малиновым и стыдливо ретировался, исчез между колоннами. Он и сам, верю, переодевшись после службы, так же вот встречает свою подругу.
– Нет, напишу, напишу, куда следуеть, про все эти безобразия! – ораторствовала бабушка, уносимая людским потоком в подошедший поезд. И уже через стекло вагона грозила сухоньким кулачком, часто разевая в неслышном гневе беззубый рот, словно в горле у нее застрял ком сухой каши.
А поезд уже набрал ход, и уже моя Таня устроилась на диванчике, согнав здоровенного парня с лиловыми наколками на загорелых руках. Подошла к нему, посмотрела внимательно, а потом сказала непреклонно:
– Пожалуйста, уступите мне место!
Он поднялся, да так суетливо, чуть ли не заискивающе. И она, с торжеством вернувшей себе трон королевы, уселась.
Остановка. И двое вошедших работяг кидаются к пострадавшему от моей дочки, хохочут, громко бьются ладонями, вспоминают о чем-то своем на весь вагон:
– А братья Карамазовы?
– Эвон, спохватились! Да уж пятый год, как вкалывают на овощной базе!..
Нет, Москва полна чудес!
4
А на площади, перед «Икарусом» – ликованье. Ликуют дети, ликуют родители. И воспитательницы стараются ликовать, им положено. Таша уже тут и с ходу пытается дать Тане последние наставления. Но где там! Та уже устремилась к детям. Еще бы! Все время со взрослыми. Ни братика, ни сестренки, ни соседских ребят. Ни даже собачки – настоящего, веселого щеночка. Притворная веселость взрослых ненадолго обманет – она пресна. И сколько раз, когда гуляли мы с ней улочками замоскворецкими, где квартал за кварталом – все главки, НИИ, ящики, управления, Таня молила:
– Папа! Покажи мне детей!..
Она уже в салоне, носится между креслами, что-то говорит другим детям, смеется во весь рот. Я машу ей авоськой с мамиными покупками.
– Тоже внучку отправляете! – улыбается мне, желая, видимо, пуститься в подробный разговор, какой-то старец.
Никак не привыкну к своему возрасту, к тому, что отец я – очень поздний. Чтобы сэкономить энергию молча киваю, но Таня тут как тут – вмиг разрушает мою стратегию, высунувшись из автобуса с криком:
– Папочка! Тут Юля и Маша! И даже есть Таня! Другая! Не я!..
Старец, словно уличив меня в чем-то гадком, укоризненно качает плешью. Тем временем все расселись, старшая воспитательница пересчитывает поголовье свое – все сходится. Впереди уже милицейские «Жигули» с крутящейся мигалкой на крыше. И вот «Икарус» тронулся, пошел, в нем – Таня. В последний раз мелькнул ее бант, белая кофточка с кружевами.
– Ты не забыл? Мы обещались навестить твою маму, – говорит Таша. – Сейчас заедем на Ленинградский рынок, купим молодой картошки. Хотя бы килограмм…
Она молода, хороша собой, заботлива. Разница в летах? Конечно, великовата. И это проявляется по разным поводам. Когда я называю какое-нибудь старое имя: писателя, художника, ученого, Таша сразу спрашивает: «А сколько лет он прожил?» Что ж, примерка. И обижаться тут не следует.
Характер украинский и, как подобает украинке, вспыльчива, словно порох, и так же отходчива. Но, конечно, как бы это выразиться помягче, во всем упорна, неуступчива. Скажем, с вечера овседомляется:
– Какой завтра суп хочешь? Грибной, гороховый, борщ или рассольник?
– Да лучше всего, пожалуй, гороховый, – мечтательно отвечаю. – С окороком и гренками.
И слышу непреклонное:
– А я уже замочила для борща фасоль.
– Так чего ж ты тогда спрашиваешь? – наивно возмущаюсь.
Зато – кулинарка. Что борщ украинский с крупной фасолью, что голубцы из квашеной, в кочанах капусты или пельмени с ливером – все шедевры не хуже Ренуара. И еще – превеликий ученый. То есть, кроме десятилетки да года ПТУ, за плечами ничего. Но тонны прочитанных книг. И все это легло на свежие мозги.
Литературой сам я занимался много, а вот не заметил же, что в «Войне и мире» Андрей Болконский получает от сестры медальон на серебряной цепочке, а на поле Аустерлицком цепочка становится золотой. Или у Мармеладовых, в «Преступлении и наказании», двое маленьких: сперва это мальчик и девочка – Лидочка и Коля, а затем, на поминках, уже два мальчика – Леня и Коля. Все ведь запомнила!
И, признаюсь, если мне нужно, предположим, сообразить, как звали шестерых дочек императора Павла Петровича и когда какая умерла, то обращаюсь не к Шильдеру, а к Таше: тотчас расскажет…
Мы с ней всюду успеваем: ведь без Тани легче. И на рынок едем (покупки делает, конечно, она, я только смотрю), и у мамы моей сидим. Таша уезжает пораньше – будет генеральная уборка в квартире, а я возвращаюсь только вечером.
В дороге – не оттого ли, что летишь мимо быта, – думается легче, легче вспоминается всякое. Сосед читает газету – статья в духе начавшейся перестройки, гневная, о приписках. И я тотчас вспоминаю: тоже о приписках. Впрочем, если бы мне это не рассказал некогда давний приятель, студент-однокурсник, подумал бы – какой скверный анекдот. Но тема такая, что не просто грешно, а преступно ее в анекдот вставлять. Так, повод к размышлению. И, конечно, горестный.
У однокашника моего скончалась мать. И вот отправился он, как водится, в бюро гражданских актов. Милая девушка, согласно предъявленному паспорту, записала фамилию покойной, имя, отчество, возраст. «Девушка, – сказал он, – вы ошиблись. Маме было не семьдесят пять, а пятьдесят семь лет». – «Ах, – отвечала та,– вам ведь теперь все равно. А у нас план средней продолжительности жизни».
От мыслей этих, гражданственных, возвращаюсь моей Тане. Как она там? И невольно приходит на ум прошлогодняя история. Я уезжал в Коктебель, на два месяца, работать, и Таня с Ташей провожали меня на перроне. Таня была возбуждена, радостно прощалась, махала ручкой. А назавтра утром как ни в чем не бывало побежала к моему кабинету, стала стучаться в дверь: «А где же папа?» – «Он же вчера уехал»,– напомнила Таша. И тогда Таня грустно сказала: «Почему папочка уехал и забыл нас на станции?»
Тут первая печаль тронула меня: а ведь она завтра проснется в убеждении, что по-прежнему дома, с нами! Поиграла в автобусе с детьми и снова у себя. Не рано ли мы отправили ее в дальнее путешествие?
Я вышел на «Третьяковской», когда было уже темно и безлюдно. Только маялся у станции, словно одинокий влюбленный, милиционер, в трепетном ожидании сильно загулявшего хмельного кандидата для немедленного спецмедобслуживания…
5
Жизнь хрупка, как «Жигули».
Живешь, думаешь, что все прочно, ан, вдруг оказалось, что годами гулял по тонкому льду. И в один прекрасный день лед этот лопнул. И надо начинать сначала.
Ну, по крайней мере, мне-то не на что сетовать: моя вторая жизнь – во втором браке – счастлива. И главное счастье – Таня. Без нее дом пуст, вынуто нечто главное – теплый стерженек.
Все как-то не так, и даже телеящик пугает и раздражает, чего раньше не замечалось. Вот знаменитый бас с мокрым клоком на лбу и чудовищной грудобрюшной преградой, поднятой, кажется, к самым сосцам, отчего коробом задирается накрахмаленная грудь, уронив на нее подбородок и наклонив набок голову, наслаждается собственной артикуляцией: «О, если б мог вымолвить в звуке всю силу страданий моих…» Но теперь вижу, что все его страдания устремлены в этот миг только к собственной гортани, и не могу, выключаю певца, хотя раньше им упивался.
И гости, разговоры либо скучны, либо неправдоподобны. Приходит супермен столичный, в роскошной бороде, весь в штатском (то есть из Штатов), в одном лице: боксер, драматург, теннисист, врач, музыкант. И завлекает новомодной сиреной:
– Ни-ког-да ни-че-го подобного ты не испытывал! Это сон, кайф, небожительство! Час, нет – полтора часа игры в теннис на божественном корте с ковровым покрытием! Потом – час плавания в бассейне. И уж затем потрясающий мастер делает тебе массаж. Я! Я сам подготовил его! Заслуженный мастер спорта, который ощупает тебе каж-ду-ю жил-ку, каж-ду-ю кос-точ-ку! Это не какая-то телка, обращающаяся с твоим телом, как бабка с тестом. Все, все ощупает кончиками пальцев и все выправит: остеохондрозы, спондилезы, миозиты. Но и это еще не все!..
Тут супермен в крайнем волнении катапультирует из кресел, хватается за лохматую голову, закатывает крошечные глазки за притемненными стеклами цейссовских очков и разевает страшный беззубый рот:
– В своем кабинете мастер потом угощает тебя чаем из шестидесяти трав, сам в это время играет на флейте сонаты Моцарта. А его ог-ром-ный, рос-кош-ный ирландский сеттер – их поет! Аб-со-лют-ный слух! Не-ве-ро-ят-но!..
А у тебя во рту от услышанного почему-то привкус мышьяка…
Но что же наша Таня? Исправно приходят листочки, написанные воспитательницей. И всегда с одним и тем же текстом: «Дорогие мама и папа! Я здорова, чувствую себя хорошо, играю, мне весело. Целую – ваша Таня». И цветочек сбоку приляпан.
Не раз и не два просили мы разрешения приехать в детский лагерь и хоть издали поглядеть на нее. Нам отказывали: «Она у вас домашний ребенок, только привыкает к коллективу. И если увидит вас, это нанесет ей непоправимую психическую травму. Вот будет родительский день – тогда…» А родительский день – через месяц после отъезда детей в лагерь…
Но правду говорят: день тянется, словно месяц, а месяц пролетает, как день. И всему приходит свой срок. Пришел и долгожданный день родительский. Мы с Ташей накупили всякой всячины – фруктов, сластей, любимой жвачки клубничной и помчались, полетели – на свидание с дочкой.
У калитки, за столиком сидела строгая дежурная и глядела в список. Родители переминались нетерпеливо в очереди. Вот и наш черед. Называем себя и слышим:
– Ваша Таня болеет.
– Что с ней? Где она?
– Узнаете все от лечащего врача. В изоляторе. От главной аллеи налево, по дорожке. Там увидите…
А из глубины сада, из зеленого массива – всплеск смеха, аплодисменты, и вот грянула веселая песня: дети играют в честь своих родителей праздничный концерт.
6
Она стояла перед маленьким фанерным домиком, крепко ухватившись левой рукой за ногу молодой докторши, и молча, даже безразлично глядела, как мы подходим. Исхудала и побледнела, осунулась личиком так, что я сначала решил: нет, не она, просто очень похожа. Но вот ближе и ближе – Таня. И все то же молчание и те же неподвижные глаза. А во взрослом взгляде ее уже можно кое-что и прочесть: глубокую укоризну – за что?
Таша подняла ее на руки – Таня отрешенно молчала, только прижалась. Таша затормошила, принялась целовать, ласкать – в ответ ни слова. И тогда я не выдержал, бросил на траву пакеты с подарками, выхватил у нее Таню. И, унося, услышал, как врач убеждала Ташу:
– Уговорите вашего мужа забрать ее. Она у нас все время болеет. ОРЗ – температура, кашель, горло, хрипы… И почти весь месяц – одна, в изоляторе…
Отошла она, немножко оттаяла только под вечер, перед сном. Стала узнавать кукол, собачку, мишку своего плюшевого. Но куда подевалось лепетанье, пулеметное стрекотанье ее – только короткое «да», «нет», «не хочу», «буду»…
На другое утро Таша натерла ей морковки, и она съела. Пришла ко мне в кабинет, пугливо потрогала знакомую машинку на столе. И началась у нее натужная рвота. А потом Таня принялась рыдать – безутешно, истерично, с затяжным лающим кашлем. Долго не могли ее успокоить. А когда отплакалась, накашлялась, то сказала нам тихо:
– Только не отдавайте меня в изолятор…
Тут уж и Таша прослезилась. Но с этого случая Таня стала понемножку выздоравливать. Кашляла и хрипела по-прежнему, а вот душой пошла на поправку. Все-таки что-то в ней сдвинулось, нам не видимое. Раз проснулась посреди ночи и спросила:
– Мама! А я еще буду жить или скоро умру?..
Надо было вести ее в поликлинику. Я взял больничные листы, которые дала докторша. И за каждой радостной весточкой с приляпанным листочком из лагеря возникла другая, подлинная. И так день за днем:
Имя, фамилия, год рождения… «Рост – 105 см., вес – 17,800.
18 июня, t вечером – 38°С.
Девочка контактная. Беспокоит головная боль. Обнаружено: зев ярко гипертрофирован. Рs 80 ударов. Тоны сердца приглушены. В легких дыхание везикулярное. Диагноз: ОРЗ».
«5 июля, t утром – 38,9°, вечером – 37,4°. Капризничает. Плохо кушает и плачет. Зев и слизистые гипертрофированы. В легких дыхание везикулярное.
Диагноз: ОРЗ».
И в родительский день: «15 июля, t – 39°С.
У девочки насморк, головная боль. Девочка вялая, капризная. Обнаружено выраженное явление ринита. Зев и видимые слизистые гипертрофированы. В легких дыхание везикулярное.
Диагноз: острый назофарингит».
Вот тебе: «Я здорова, чувствую себя хорошо, мне весело»! В поликлинике врач сказала:
– У нее, по-видимому, начался бронхит. Надо не допустить, чтобы перерос в хронический…
Хронический бронхит? Я хорошо знал, что это такое. В военном моем детстве, в суворовском, осенью и весной – постоянно с мокрыми ногами, зимой – в спальне с дровяным отоплением, приходилось накрываться поверх одеял физкультурными матами, по одному на несколько сдвинутых коек. И я наконец нажил его, и ночами заходился в кашле, таком трескучем, словно от забора отдирали доски. И теперь почасту встречаю межсезонье отзвуками тех далеких лет. Но ведь сейчас не война…
7
Теперь мы вместе. Всю осень Таня кашляла, а с приходом зимы и кашель прошел. И мы гуляем, играем, занимаемся.
Обучаю Таню писать, я сделал маленькое открытие. Она у нас левша, и левша неисправимая. Упорно чертит строй букв не слева направо, а справа налево. И до сих пор нет-нет, да и своротит на свое, встречное движение пером. Я в юности моей в университете зазубрил «зебане фарси» – персидский, слушал Бориса Всеволодовича Миллера (последнего из ученой династии Миллеров), выводил в ниточку разные «Алефы», «Кафы» и «Гафы», «Син», «Шин», «Сад», «Дад». Но только теперь догадался, что древний изобретатель арабской письменности, верно, как и моя Таня, тоже был левша…
После занятий – гулянье. Правда и то, что двор наш к этому мало приспособлен. Посреди – полая трансформаторная будка, оставленная, очевидно, как архитектурный памятник, характеризующий идеалы отгремевшей героико-трудовой поры. Четыре жестяных вазона с крышками – для нечистот, – вечно облепленные жирными сизяками, этими летающими крысами города. Два десятка «Жигулей». Что еще? Да, главная наша достопримечательность – двухэтажная усадьба конца семнадцатого века, которую захватила одна из бесчисленных загадочного назначения экспортных организаций.
И вблизи ни единого зеленого островка: асфальт, громады зданий, бесконечные ремонтные долгострои. Ну, что ж, социализм – это вечный ремонт. Я и Таша ездим попеременно с дочкой на бывшее Болото – в Репинский сквер или еще дальше – в Измайловский парк или Парк Культуры и Отдыха имени Горького.
– Поедем в горький парк! – упрашивает Таня.
Ну, что ж, в горький так в горький.
Во дворе сегодня, впрочем, тоже есть на что посмотреть: выпал снег декабрьский, покрыл крутой скат крыши боярской усадьбы с экспортной начинкой. Вороны – умная птица, не ровня голубям, – рады снегу. Тяжело махая крыльями, одна садится на конек, растопыривает лапы и вдруг – точь-в-точь заправский лыжник – съезжает до загнутого края. За ней другая, третья. Мы с Таней смеемся: вороний слалом. Хорошо!
В метро думаю все о том же: о своей второй и уже настоящей жизни. И не удивляюсь тому, что все мне было предсказано еще в дурашливых отроческих играх, в суворовском. Один из воспитанников, бедовый тринадцатилетний москвич, вдруг заявил, что знает, кто из нас сколько раз женится. Мы все и не понимали тогда как следует, что это такое: женится. А вот подставили наши стриженные под ноль головы. И он мне убежденно сказал:
– У тебя две макушки. Значит, будет и две жены…
Тем временем мы уже на станции «Парк культуры», поднялись с Таней по эскалатору и идем медленно через мост, над Москвой-рекой. A навстречу женщина, роскошная, как довоенная Кулинарная книга.
– Папочка! Папуля! Что ты так долго смотрел на тетю? – слышу требовательный лепет.
Ну, как, скажите, объяснишь этому четырехлетнему пытливому философу, что прошествовавшую (не повернув головы) пышную тетю я помню девушкой – тоненькой, изящной, с бесподобным овалом лица и губами, как бы протянутыми для поцелуя, с уходом которой из моей жизни ушла вся молодость, беспечность и столько несосостоявшихся надежд.
Все это было у нас, не было только вот такой Тани, которая сейчас семенит рядом, ухватившись за мой указательный палец. И, глядя вслед безостановочной Гераклитовой реке жизни, равнодушно несущей в общий океан все наши отдельные загадки и тайны, понимаешь, что не можешь объяснить чего-то главного не только маленькой дочери, но и прожившему большую часть жизни подстарку – себе самому.
Ах, Москва, Москва! Сколько же в ней вской удивительной всячины, даже в малом!
И pазве не удивительно, например, что вся моя скромная жизнь в Москве – от рождения и до сего дня – уместилась в гнездах, расположенных строго по одной осевой линии: с северо-запада на юго-восток. А если еще точнее, то по радиальному направлению метрополитена «Сокол» – «Варшавская».
На Тишинке, у «Белорусской», я провел детство и юность; отсюда ездил в спецшколу Военно-Воздушных Сил, в Чапаевский переулок у «Сокола»; затем – в университет, что на Моховой, у «Свердлова»; когда женился (первым, несчастливым браком), ютился сперва в подвале, на Зацепе, у «Павелецкой», а затем – в коммуналке, рядом с Рыбокомбинатом, в последнем тогда жилом доме на Варшавском шоссе; потом, с натугой собрав сумасшедшую тогда для меня паевую сумму, перебрался в кооператив на Красноармейской, у «Аэропорта». И вот теперь – многоэтажка в Лаврушках, Третьяковская галерея, белый стебель колоколенки Николы, что в Кадашах – У «Новокузнецкой». А ведь впереди еще непредугадываемо маячила на том же радиусе сталинская башня – небоскреб на Котельниках…
И у жизни, видимо, есть своя – и безупречная – геометрия.
Так что же такое счастье? Много это или мало?
Счастье – сидеть за простым столом и глядеть в лицо другу. Счастье – услышать внезапно обрывок какой-то дорогой и позабытой мелодии, которая на мгновение перенесет тебя туда, в твою молодость. Счастье – чувствовать слабое пожатие маленькой беспомощной ладошки в твоей руке…
Возвращаемся мы с Таней после горького парка к ужину, усталые и довольные. После чтения вечернего требуется песенка, особая, только наша.
Я хотел научить Таню алфавиту и придумал незатейливую стихотворную лесенку, по буквам: «Аю-аю-аюш-ки, где были? У Анюшки; баю-баю-баюшки, где были? У Борюшки; ваю-ваю-ваюшки, где были? У Ванюшки…» Но вот добираюсь до Ленушки, Маюшки, Надюшки…
Она закрывает глаза, уже переставая бороться со сном, но, засыпая, не может удержать улыбки в ожидании своей строчки:
– Таю-таю-таюшки, где были? У Та-ню-шки…
Когда все это было? Десять? Двадцать лет назад? Да и было ли? А если и было, то куда подевалось?
И вновь, как страшный сон, видение: мгновенное обнищание, визит японцев, потеря квартиры, а с нею развал, гибель.
Глава седьмая
ЖИЗНЬ ПОНАРОШКЕ
1
Они появились точно – минута в минуту – супружеская пара, настолько похожие друг на друга два лилипута, что, казалось, никто бы не заметил, если они поменялись бы одеждой. Деловито передвигаясь по огромной квартире, обмениваясь компьютерными репликами и непрерывно улыбаясь, они были неправдоподобно муляжны, словно сбежали из магазина электронных игрушек.
Алексей Николаевич вспомнил рассказ деда-партизана, воевавшего с японцами в двадцатом, на Дальнем Востоке: «Как-то мы захватили офицера с денщиком. Это был самурай, очень чистоплотный – возил с собой походную каучуковую ванну. Случалось, допрашивал в этой ванне пленных красных, поливая их кипятком, а после мылся сам…»
«Верно, они-то и будут людьми двадцать первого века, когда сварят всех нас», – подумал Алексей Николаевич, наблюдая, как японец-муж переходит из одной комнаты в другую, указывая игрушечным пальчиком:
– Это оставить… Это нет… Это оставить…
Он подошел к пианино, потрогал клавиши детской ручкой:
– Кто играет?
– Муж играет, – с готовностью ответила Таша, как школьница за классным руководителем, следовавшая за японцем.
– Пусть мужа сыграет…
И когда Алексей Николаевич, еще не понимая, для чего, сыграл первую, доступную для любителя, часть «Лунной сонаты», японец сказал:
– Хорошая пианина… Оставить!
В течение получаса все было решено, бумаги подписаны, пути к отступлению отрезаны. Танечка уехала ночевать к брату Алексея Николаевича, у которого жила и их мать. Ну, а Таша взяла на себя тяготы перевозки вещей в Домодедово, как всегда, освободив от бытовых забот Алексея Николаевича. И вот на своем «Иже» он прибыл в крошечную квартирку, приноравливаясь, примериваясь к совершенно новому существованию: две десятиметровых комнатенки, кухонька, где и одному не повернуться, совмещенный с душем туалет. И холл с телефоном, куда выходили двери еще двух соседей. Можно сказать, общежитие.
Ночью Алексей Николаевич внезапно вспомнил, какие странные сны, повторяясь, приходили к нему незадолго до сдачи Ташей квартиры в высотке. Алексей Николаевич чаще всего оказывался на Тишинке, где теперь жила его сестра и где, в тесноте и неуютстве, он провел молодые годы. Встречал там отца, давно уже умершего, и маму, к этому времени, после второго инсульта, потерявшую рассудок, и горячо упрекал их: «Куда вы подевали мою огромную квартиру?» И в двойном сне эта квартира затем являлась – всякий раз иная, не похожая на ту, где так бездумно и счастливо Алексей Николаевич жил последние годы, – то в громадном квадратном доме, то в каком-то бетонном муравейнике с множеством лифтов, которые бесконечно путались, то в помещении на …надцатом этаже, откуда, однако, можно было спуститься прямо из окна по пологому травянистому скату к площади, то вдруг в цоколе прежнего кооператива у метро «Аэропорт».
И Алексей Николаевич горестно повторял:
– Куда девалась моя квартира? И где мне теперь жить?
Сны забегали вперед и предупреждали его...
На другой день маленький грузовичок в три тонны перетащил все их нажитые потроха: оставшуюся мебель, хозяйственные запасы и, конечно, книги в сотне картонных коробок. В квартирке разместить это не было никакой возможности, и Алексей Николаевич договорился с директором поселка – молодым ушлым татарином, что они какое-то время полежат у него на складе.
– Если заплатишь в валюте, я тебе весь поселок могу сдать, – рассмеялся тот, щуря и без того узкие, матово-черные глаза.
А вечером приехала, нет, прилетела, примчалась Таша, облучая все и вся радостью.
– Смотри! Смотри! – кричала она, сжимая пачку новеньких серо-зеленых бумажек с портретом скучного толстолицего, лысеющего со лба господина. – Видишь, сколько! Теперь я куплю «Жигули». Девяносто девятую модель. Сережин брат Паша поедет завтра же со мной в Автоваз. А потом купим такую же машину тебе…
Алексей Николаевич постарался изобразить улыбку, но она вышла у него кислой.
– Ты что, не понимаешь, что это наше спасение? – накинулась на него Таша.– Теперь и Таня спасена! И я наконец-то не буду ломать голову над тем, как растянуть твои жалкие гонорары…
Алексей Николаевич внутренне сжался: неясные предчувствия чего-то печального сумеречной тенью вошли в него, заставив прошептать:
– Да не востребует Всевышний более, чем мы на то способны…
2
Каждое утро, страшась, что они опоздают на тренировку, он будил Ташу. Просыпался часов в пять, лежал на своем диванчике, поглядывал на японские часики с подсветкой, с тоской слушал, как комариным звоном наполняется и немолчно поет голова, и ждал, пока подкатит нужное время. Потом, зайдя в другую комнатенку, долго звал Ташу, иногда тормошил, выводя из транса, из глубокого простонародно-безмятежного сна.
Она нехотя оживала, постепенно освобождаясь от липкого гипноза ночи, и первые движения совершала, почти не разлипая глаз – как лунатик или сомнамбула. Потом, вспоминая о заботах, медленно включалась в эту жизнь: курила натощак сигарету под кофе, делала завтрак, поднимала Танечку, готовила ей теннисную форму. Постепенно предстоящие соблазны возвращали ей бодрость и веселую легкость. Бордовая девяносто девятка бесшумно уходила за поворот. Погрузившись, как в теплую ванну, в салон, она включала магнитофон, ждала, когда начнет действовать наркоз музыки. Тонкий вибрирующий голос – третий пол – под шумные придыхания, почти стоны (скорей! еще! еще!) пел о блаженстве молодой бесстыдной любви. Гормоны отзывались на призыв и обещание новым мощным всплеском. И она уже ничего не помнила, что осталось за поворотом.
А он? К одиннадцати сволакивался с диванчика и мыл гору грязной посуды (она ни разу не прикоснулась даже к набитой обгоревшими трупами «салема» пепельнице), лез под душ, а потом шел раскладывать бесконечные пасьянсы, гадая, что с ней…
– Сегодня мы вернемся позже,– как-то мимоходом сказала она.
– Когда?
– В половине десятого… Может быть, в десять…
Алексей Николаевич кое-как дождался вечера и побрел к станции встретить их.
Он постепенно начинал постигать, что же стряслось с ним, с ними. Да, о дворце на Яузе надо забыть. Пять лет аренды! Он-то был убежден, что это его последняя квартира. Что на этом овальном столе, где столько раз сменяли друг друга явства земные, положат в нужный срок его. Житейски все очень просто: «Легкой жизни я просил у Бога, легкой смерти надо бы просить…» Только бы успеть поставить на ноги дочку! Только бы успеть!
Но вот все сместилось. И даже последний час, верно! придется встретить в этой клетушке, за городом.
Но прочь, прочь мрачные мысли! Небо чисто, звезды! расставлены в строгой иерархии, которая понуждает вспомнить школьный учебник астрономии Воронцова-Вельяминова. Душа невольно настраивается на высокий лад. Над соснами, в сгущающейся сырой мартовской тьме немигающе смотрит на него Полярная звезда.
«Все будет хорошо, все это – лишь недоразумение и все само собой развеется», – бормотал он, меряя шагами узкую дорогу.
И как бы в ответ на его мысли вспыхнули два электрических глаза: бордовые «Жигули» последней модели медленно наплывали на него во мгле. Они! Слава Богу!
Он медленно поднял руку, заулыбался, ослепленный дымным снопом света, и шагнул с обочины. И впритирку проезжая мимо, на него полупрезрительно-полунасмешливо взглянул седой господин. Верно, принял его за пьяного.
Не они!..
Дошагав до обязательного для всех вокзальных площадей металлического Ильича, требовательно указующего карательной шуйцей на бедное сельпо напротив станции, он потоптался, повздыхал и повернул назад.
Небо стало еще просторнее, еще ярче и строже – звезды. Что-то высокое и торжественное вошло в него, поднимало к верхушкам сосен, заставило наконец замолчать пение капилляров в голове.
– Господи! Дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день. Дай мне всецело предаться воле Твоей святой…
Он молился, видя звезды уже где-то совсем недалеко, перед собой, и плюхаясь в чернильную тьму, в липкие лужи, волоча себя от одного жидкого фонаря к другому. И обратный путь пролетел незаметно.
Было десять. В их маленьком поселке горело только три окна. Хотелось тепла, покоя, уюта. Но идти в постылый дом он не мог. «Надо повторить еще раз», – сказал он себе.
Вечер уже перетекал в ночь, когда Алексей Николаевич снова увидел Ильича на вокзальчике. Было пустынно и тихо, только где-то вдалеке изредка тревожно вскрикивал электровоз, очевидно, стаскивающий в один состав товарняк. Он уже понимал, что они не приедут, что прогулка бессмысленна, и повернул назад.
Недалеко от станции Алексей Николаевич приостановился, пропуская подростков, шедших со стороны аэропорта, очевидно, с какой-нибудь дискотеки. Они проходили так близко, что он ощутил запах табака и еще какой-то неприятный сладковатый привкус: вином от них не пахло.
Алексей Николаевич уже собирался свернуть на дорогу, которая вела к их поселку, когда двое, поравнявшись с ним, остановились, как бы выжидая. И вдруг один, что постарше, сказал:
– Дай закурить…
– Увы, ребята! Я не курю, а только выпиваю,– попытался отшутиться он, чувствуя затылком, что второй уже встал сзади.
– Врешь, небось… – Парень, видно, был еще не очень опытен в ночных делах и, кажется, не знал толком, как подступиться.
Позиция у Алексея Николаевича была крайне неудобная: справа глухое поле, слева шоссе, по которому уходили другие ребята, возможно, готовые в случае чего помочь своим корешам. Со стороны должно хорошо было видно, что происходит. Однако редкие машины, спешившие к железнодорожному переезду или в аэропорт, проносились мимо.
– А ну, покажь карманы! Может, ты сигареты прячешь… – жестче сказал парень.
«Вот и все. Как просто», – думал Алексей Николаевич, решив прежде всего снять очки, так мешавшие ему ему всю жизнь. Он полуобернулся к шоссе в тот самый момент, когда рядом затормозила «Волга» с шашечками. Таксист, пожилой, но крепкий мужик, быстро откинул дверцу и выскочил с монтировкой.
Алексей Николаевич огляделся и вдруг понял, что ребят нет. Они растворились, словно бы их и не быля словно они приснились.
– Может, подвезти? – просто сказл таксист.
– Да нет! Спасибо, брат, – так же просто ответил Алексей Николаевич и зашагал обратно. На часах была половина двенадцатого.
– Спасибо Тебе, Господи! – бормотал он, чувствуя, как полегчало, что есть что-то, что дороже мира, согласия, верности.
Но ночью ему – ни сон, ни явь, – привиделась Таша: пьяная, на кровати, в какой-то чужой комнате. Она была не одна. Сергей, видно, еще боялся, еще мальчишески стеснялся ее. И тогда она позвала ставшим, как обычно после шампанского, плоским, деформировавшимся писклявым голоском:
– Иди ко мне…
И слыша это, и явственно видя их колеблющиеся, склонившиеся друг к другу тени сквозь толщу московской ночи на слабо светящемся от полной луны потолке своей комнатенки, он тихо и бессильно выл:
– А-а-а…
– Как тебе не стыдно ревновать! Он же мальчик! Ведь ты бы все равно не отпустил меня на его день рождения. И мне пришлось солгать, что я вернусь вечером. И прекрати свои фантазии, – появившись с Таней на другой день, сказала Таша. – У меня же была своя постель…
«Что она говорит? За кого меня принимает? Зачем все это!» – думал он и, как давеча ночью, неслышно для нее выл:
– А-а-а…
3
Только потом, только после ее простодушно-бесстыдных признаний, поражавших его первобытной откровенностью, стало понятно, отчего Таша вела себя так уже в первые два месяца злого девяносто второго года. Она хлебнула свободы, и первый глоток вскружил ей голову. Алексей Николаевич ни о чем не подозревал, когда вез их январским днем в теннисный клуб, откуда Таша с Таней должны были отправиться автобусом на соревнования в подмосковный Жуковский. Его даже не толкнуло к ревности и то, что Таша оказалась единственной из родителей, кто уезжал туда.






