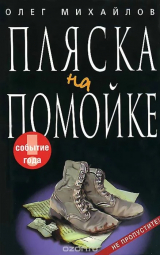
Текст книги "Пляска на помойке"
Автор книги: Олег Михайлов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 11 страниц)

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
«Вся жизнь есть сон, и жизнь на сон похожа,
И наша жизнь вся сном окружена...»
В. Шекспир. «Буря»
Глава первая
Я – ОБЕЗЬЯНА
1
В чужой квартире, среди чужих вещей, в доме, выходящем на площадь, где страшно торчала черная металлическая голова, сразу понуждавшая вспомнить иллюстрации к детским изданиям «Руслана и Людмилы», медленно умирал одинокий старик пьяница.
Прижавшись правым боком к подушке, чтобы не выскочила циррозно ноющая печень, унимая неровную колотьбу сердца, его мерцательную аритмию, он думал о том, что винный магазинчик – вот он, за углом, в переулке. Но не в силах одолеть муку – встать, обуться, одеться, спуститься с пятого этажа, пройти дворик и обрести вожделенный пузырь, старик, нашарив под подушкой маленькое Евангелие, молил Господа продлить ему сон, не выползать из него в этот ставший ненужным мир.
Случалось, мольба бывала услышана, и тогда он переживал подлинное счастье: проваливался в глубокий обморок сна, долгого и красочного, длившегося в том измерении целую вечность, а, пробуждаясь и хватаясь за часики, в потрясении постигал, что прошло только десять, пятнадцать, двадцать минут. И, тяжко потея, снова молил о возможности заснуть, забыться, вернуться туда. Но нет, ноги коченели, подушка, которую он клал на голову, уже не приносила тепла и уюта, простынка сбивалась в жестяной комок, и веки сами собой расцеплялись. Гнусные сплетения на кирпичного колера чужих обоях тотчас принимали вид зверей, чудовищ, уродов, кривлялись, скалились и неслышно вступали в монотонно безумный танец. Он понимал, что конец совсем близко, рядом и, плывя в коллоидном растворе, меж сгустков уже этой, бессмысленной реальности, чувствуя, что в груди, как в испорченной фисгармонии, пищат альвеолы, сипло шептал:
– Таша, Таша… Ты обошлась со мной, как тургеневская барыня с Муму…
В чужой кухне, за очередной рюмкой, слушая ангельские голоса детей во дворе, больно режущие его, обманутого, осиротевшего отца, он снова, сквозь пьяные слезы на лице, вспоминал себя вчерашнего, всего-то двухлетней давности. И это тоже казалось вожделенным сном..
2
Алексей Николаевич легко сходился с людьми, владел даром общения, умел нравиться, обаять и оттого был преувеличенно жизнерадостен, чересчур охотно откликался на каждую шутку – особенным, утробным хохотом и так темпераментно предавался бытовым утехам, словно желал в чем-то обмануть себя. В частых застольях, уже в полупьяном кураже, глядя на молодую жену и поднимая рюмку с коньяком, пел: «Кто может сравниться с Матильдой моей…» Да, сидевшие за его столом, преимущественно сверстники или подстарки, приходили с женами-однолетками, уже увядшими, имевшими дочерей – ровесниц его жены.
А он? Был совершенно уверен в своей Наташе, или сокращенно – Таше, матери его единственной дочки Танечки, которой он тоже гордился даже не по-отцовски или уже по-дедовски, а по-матерински нежно любил. Воспринимал как собственность все: жену, дочку, огромную квартиру в сталинской «высотке», с гостиной в сорок метров, выходящей окнами на Кремль, роскошное пианино «Фёрстер», на котором дилетантски наигрывал несколько классических пиесок, кабинет с необъятным, отгороженным решеточкой, с фигурной башенкой столом девятнадцатого века – копией того самого, за которым художник Ге запечатлел Льва Толстого, богатую библиотеку и даже Ташину бабушку, которая, продав свой дом, приехала к ним из-под Полтавы.
Он не ощущал своего возраста и всякий раз поражался, когда в прогулках с Танюшей кто-то принимал ее за внучку. Играл круглый год в теннис (к которому приохотил и Ташу) – часами, не чувствуя усталости, а после поглощал в изобилии пиво и не знал болезней. Только шумы в голове, знаки начинающегося склероза, да бессонницы напоминали, что молодость давно прошла.
Была у него еше одна черта, доставшаяся в наследство от обезьяны, в родстве с которой он состоял согласно восточному гороскопу. У Алексея Николаевича существовало второе, внутреннее лило, которое охотно застывало, принимая вид любой встречной хари. Так что возвращаясь после фильма или спектакля, он долго еше не мог выскочить из героя – негодяя или херувима. Не этим ли и питалась его страсть к игре, притворству, лукавству, в сочетании с полной беззаботностью и непрактичностью? Очевидно, его бесхарактерность или слабоволие нуждались в защитной обезьяньей каске.
В быту, в сердечных делах, в семье – всюду он шел на поводу, отдаваясь стечению обстоятельств. Когда же приятели упрекали его в слабости, он отвечал:
– Мне за нее хорошо платят.
Для него, по крайней мере, было очевидно, что эти его столь уязвимые свойства играли какую-то таинственную и благотворную роль в способности писать, выдумывать притворяться кем-то другим – уже на листе бумаги. Он часто не знал, что скажет в ответ на серьезную фразу и говорил часто первое пришедшее на ум, и вдруг получалось само собой нечто, удивившее других, но более всего его самого; легко и бысгро сочинял спои кижки, легко добывал деньги и так же легко с ними расставался. К своей писанине относился тоже легко («дело коммерческое»), но даже когда что-то подучалось, выпевалось из души, стеснялся показывать, читать, не надеясь на взаимность и даже видя в этом нечто постыдное, точно в детском грехе, и чувствовал в такой момент себя человеком, который никогда не был любим.
Он жил только дарами рынка: коровье масло, свежий творог, морковный сок по утрам, молодая парная свинина, зеленая среднеазиатская редька зимой; сладкого не ел, предпочитая соленья кавказцев – маринованный чеснок, черемшу, перченые огурчики – под хорошую выпивку.
И был убежден в прочности этой жизни, полагая, что она устоялась – раз и навсегда.
Второго января 1992 года, как и десятки миллионов жителей России, Алексей Николаевич проснулся нищим.
3
«СПЕШИТЕ!!!
НЕ УПУСТИТЕ СВОЙ ШАНС!
ПОСРЕДНИЧЕСКАЯ ФИРМА «МАРИАННА» ГОТОВА НАЙТИ ДЛЯ ВАС СОСТОЯТЕЛЬНОГО ИНОСТРАНЦА, КОТОРЫЙ СНИМЕТ ВАШУ КВАРТИРУ ЗА КРУПНУЮ СУММУ В СВОБОДНОКОНВЕРТИРУЕМОЙ ВАЛЮТЕ НА ЛЮБОЙ УДОБНЫЙ ДЛЯ ВАС СРОК! ПОЛНАЯ ГАРАНТИЯ СОХРАННОСТИ ВАШЕГО ИМУЩЕСТВА! ОСОБЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ ДОГОВОРА!
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ…»
Подобные «прелестные письма» они стали получать еженедельно. Алексей Николаевич воспринимал их насмешливо и тут же переадресовывал в мусопровод. Но Таша все чаще задумывалась и напоминала, что у них в Домодедово есть маленькая казенная дачка, точнее, кукольных размеров квартирка в общем коттедже.
– Да как же мы там уместимся? Вчетвером? На долгий срок! – уже сердился он, и разговор затухал.
Тем временем были проедены все сбережения с его и Ташиной книжек и даже срочный вклад, заведенный на Танечку. Гонорары оставались прежними, меж тем как цены росли шизоидно, с бешеной скоростью. Все, что он заработал раньше и на что они купили две машины, румынскую мебель и финскую кухню, дубленки, книги, в один день обратилось в пыль, туфту, фикцию.
Добро бы только нужно было кормиться: десятилетняя дочь стала уже маленькой звездой большого тенниса. Полагалось приплачивать тренеру, а главное, экипировать Танечку, которая росла не по дням, а по часам. Кроссовки горели на ней, шорты и маечки становились тесны. Пришлось продавать книги и вещи. Таша ходила к Детскому миру на площади Дзержинского, где образовалась одна из первых в Москве толкучек.
Мартовским промозглым днем она понесла на продажу дешевый радиоприемник от «Москвича», появившегося в дополнение к стареньким «Жигулям», и вернулась ни с чем, озябшая, продрогшая, с покрасневшим носиком. В роскошном холле, где красовалось купленное им в стародавние времена венецианское зеркало с мраморной подставкой, она прижалась, не выпуская приемника, к Алексею Николаевичу и, в паузах между учащавшимися, переходящими в рыдания всхлипами, только повторяла:
– Я не могу, слышишь, не могу так больше жить!..
И, не выдержав ее слез, той милой покорности, с какой она прижалась к нему – как к защитнику и спасителю, – он тихо ответил:
– Давай сдадим квартиру… Я согласен…
Алексей Николаевич не знал, не в силах был даже представить при всей своей натренированной фантазии, что с потерей дома он потеряет все: семью, жену, дочь, быт и уют и даже самую способность работать.
Теперь, перебирая ночами подробности своего крахо, он уходил дальше, за четырнадцать лет назад, вспоминал и мелкого беса Чудакова, который, неотступно стоя за левым плечом, преследовал его всю жизнь. Еще в благополучной высотке Танечка, по детской наивности, в отсутствие Таши, впустила однажды Чудакова.
Он ворвался – как всегда, пьяный и полубезумный – потребовал папку своих стихов, хранившихся у Алексея Николаевича много лет, денег, книг с дарственной надписью и при этом непрерывно гримасничал и верещал. А Танечка с громким плачем повторяла:
– Дядя! Уйди!~
Но дядя не собирался уходить и кричал:
– Ты как эсесовец! Выставляешь впереди себя детей!
Он бушевал, пока Ташина бабушка не догадалась вызвать милицейский наряд. Больше всего было жаль стихов, которые Чудаков, понятно, тут же потерял и только часть которых застряла у Алексея Николаевича в его профессиональной памяти:
Этот бред, именуемый миром,
рукотворный делирий и сон,
энтомологом Вилли Шекспиром
на аршин от земли вознесен.
Я люблю театральную складку
ваших масок, хитиновых лиц,
потирание лапки о лапку,
суету перед кладкой яиц.
Шелестящим, неслышимым хором
в мраке ночи средь белого дня
лабиринтом своих коридоров
волоки, муравейник, меня.
Сложим атомы и микрокристаллы,
передвинем комочки земли.
Ты в меня посылаешь сигналы
на усах Сальвадора Дали.
Браконьер и бродяга, не мешкай,
сделай праздник для пленной души —
раскаленной лесной головешкой
сумасшедшую кучу вспаши.
…Когда Таша оставили его, а Танечка навещала лишь по воскресеньям, Алексей Николаевич, в легком кружении головы от бутылки «мукузани» сказал ей:
– Доченька! Тут один дядя – Чудаков – все хочет привести мне невесту…
– Как, папа? ~ испугались она.– Тот саммЙ дядя, который приходил к нам? Он очень плохой. Ты не соглашайся.
– Я и не соглашаюсь, доченька. Я ему ответил: хватит мне уже одной твоей невесты...
– А кто она, папа?
– Твоя мама, доченька.
4
Сквозь электрошумы пишущей машинки прорвался звонок во входную дверь. Алексей продолжал печатать, но звонок, повторяясь, шел по коду: три коротких – один длинный.
Алексей на ходу, тренированным движением сбросил тапки и дернул по коридору босиком. Увидев, что глазок снаружи прикрыт ладонью и уже понимая, кто пришел, он отворил дверь, пропуская веселого сорокалетнего малого – пузатого, с подбитым глазом, в женской шерстяной зеленой кофте.
– Один! Не вооружен! – хрипловато произнес гость и поднял руки.
Алексей громко втянул воздух:
– Опять!.. И, конечно, портвейн…
Гость скосоротил мальчишеское морщинистое лицо:
– Представь себе, милочка, нет. Утром я, как обычно, в буфете Киевского вокзала. Подходит моя очередь. Заказываю двести портвейна. А в чайнике только сто. Буфетчица оглядела мое осветительное устройство по глазом и говорит: «Я тебе коньяком добавлю». И ничего сверх не взяла!
– Благородство! – проходя в гостиную, отозвался Алексей. – От портвейна у тебя печень торчит, как второй нос.
– Ах, милочка! – сказал гость, положив на курчавый малиновый диван кучу грязных книг и брошюр, исписанных телефонами девушек и украденных из Ленинской и прочих столичных библиотек. – Будешь благодарить меня после моей кончины. Я наконец нашел!
– Ты о чем, Дер? – притворно удивился Алексей.
Но гость уже переместился в кухню, громыхнул дверкой холодильника и с набитым ртом (руками, конечно, хватал, мерзавец) кричал:
– Попадание в десятку! Фантастический вариант!
Опять о том же.
– Ты все время забываешь, что наши вкусы фатально не сходятся, – войдя в кухню, проговорил Алексей, содрогаясь от учиненного там разгрома.
Вареная говядина объедена – и с того бока, где была припудрена перцем, в банке с солеными грибами плавает творожная масса, на полу просыпан цейлонский чай, полпачки которого гость ухнул в заварной чайничек. Сам же Дер, дорвавшись до дефицитной кеты семужного посола – а ведь была засунута в дальний угол холодильника, – с урчанием грызет ее, исходя янтарным, текущим по кофте жиром.
– Не стыдно так варварски вести себя? – простонал Алексей.
Дер налил прямо в сахарницу дымящуюся дегтеподобную заварку.
– Шатенка…– медленно растягивая слова, начал перечислять он.– Юная… Умеренно курносая… Глазки скорее всего зеленые… Фигурка спортивная… Занималась в школе волейболом… – Тут он промычал. – И в то же время скромна, честна, романтична…
– Благородство! Существо без недостатков. Мой идеал, – усмехнулся Алексей.
– Нет, почему же, – возразил Дер, в длинном кадансе переходя от фальцета к басу. – У нее есть ноги. А ты этого не любишь.
– Ага! Значит, толстые и короткие!
– Погляди, милочка. За погляд денег не платят. Приехала завоевывать Москву из какой-то хохляцкой дыры. Числится в ПТУ по малярному делу. В общем, прелестная спрынцовка, брошенная каким-то афганским прынцем. Студентом из Лумумбы. Которого Тараки отозвал в Кабул. Конечно, чтобы расстрелять. Сейчас бездомна и несчастна.
– Хороша же она, если поедет к незнакомому мужику, который годится ей в отцы, – еще сопротивлялся Алексей.
– Я могу сочинить такую легенду, что выжму согласие из тургеневской барышни, – мгновенно парировал Дер. – У тебя выпить есть?
– Только сухое, – так же быстро солгал Алексей, утаивая прекрасный коньяк.– Зато марочное. «Берд», ереванского завода шампанских вин…
– Давай.
– Я тебе поставлю в кухне, а сам закончу реляцию. На одного провинциального классика. Надо отвезти в издательство.
– А во сколько ты вернешься?
– Думаю, к семи.
– Тогда я еду за трофеем…
Дер – альбомный поэт и профессиональный сутенер Чудаков – осушил бутылку и исчез, словно испарился.
А Алексей вернулся к своей машинке сочинять очередную небылицу о классике соцреализма. Он не подозревал, что на него наехала новая и очень опасная жизнь.
5
В буднях семьи, став поздним отцом, в частых размолвках и ссорах с юной женой, Алексей Николаевич не раз вспоминал свое холостяцкое существование, и оно представлялось ему оттуда самой счастливой порой: хорошие заработки, уютная квартира, любимые книги, машина и, конечно, девочки – свобода. Сам он был, однако, слишком вял и нерешителен, чтобы на ком-то остановиться. Да и выбор диктовался случайными приливами, выносившими на берег очередную жертву бытового кораблекрушения.
– Ты, как крокодил в луже. Лежишь, разинув пасть, и ждешь, кого бы заглотать, – говорил Дер.
Обычно на холостяцкий огонек приезжали знакомые, образовывалась веселая компания. Много выпивали, еще больше рассуждали о всякой всячине. Из карточной колоды оставалась какая-нибудь червонная или бубновая дама. Случалось, в этом пасьянсе Алексей встречал и милых, душевных существ. Хотя бы внучку маршала – остренькую брюнетку с мордовской кровью, уставшую от полусветского существования и уже жаждущую оков Гименея. Но она пугала его непомерной разницей в их материальном положении – роскошная квартира на улице Чайковского, дача в Архангельском, собственные «Жигули» и в качестве приданого – белый гогенцоллерновский рояль с медальонами то ли Ватто, то ли Буше (вдова знаменитого военачальника почитала себя знатоком искусства и тихо приторговывала мужниными трофеями – второстепенными полотнами Дрезденской галереи) – и отсюда невозможной для Алексея зависимостью, если бы он решился… Или ее антипода – Тотошу, московскую пролетарку, молодого специалиста по эксплуатации лифтов. Правду сказать, ее доброта и податливость (в сочетании с внешностью классического альбиноса, с обесцвеченным завитком вокруг левого соска) придавали ей и безотказность, и бесцельность сексуального ланцетника. И Алексей воспринимал ее и ей подобных как некую временную сделку, вынужденный компромисс, ожидая чего-то иного и повторяя, как заклинание: «Что могу, то не хочу, что хочу, то не могу».
Быть может, единственным существом, которое он по-своему, эгоистически любил, была порожденная Новым Арбатом маленькая дрянь.
Это была, конечно. Зойка.
Глава вторая
РУССКАЯ НИМФЕТКА
1
Он встретил ее в приемной Наварина, замдиректора одного из многочисленных и бесполезных гуманитарных институтов Академии наук.
Они сидели с теткой, секретарем Наварина, как две большие куклы, треща заученными фразами и вращая фарфоровыми глазами. Их можно было принять за сестер, но Зойка была не просто вдвое моложе: что-то невыразимо прелестное таилось в ней, что проще всего было бы определить как неотразимо развратную детскость, но и этим, ей-ей, мало что сказать. И Алексею Николаевичу сразу стало жарко. Он вспомнил, как любил в молодости, в шестидесятые годы «Лолиту» Набокова, и стихи Чудакова, посвященные этому сочинению:
Люди, которым я должен, умирают,
женщины, которых я любил, стареют,
а подо мной осенние листья сгорают
и суровые ветры осенние холодом веют.
Мне тридцать лет, я полон весь пустотою,
я разминулся с одной, единственной, тою…
Предположим, сейчас она школьница пятого класса,
золотиста, как ангел с разбитого иконостаса.
Ты – здоровый подросток, ты нимфа не нашего быта,
я прочел о тебе в фантастической книге «Лолита».
Засушите меня, как цветок, в этой книге на сотой странице,
застрелите меня на контрольных следах у советской границы.
Я за десять копеек билет в кинохронику взял без скандала,
я остался один на один с тишиной кинозала.
Я увидел тебя – и в гортани немые сольфеджио,
да, ты в классе четвертом, но только не школы – колледжа.
Вот, одетая в джинсы, ты сжала в ногах мотороллер,
в иностранную осень вписался оранжевый колер.
Слава Богу, что ленту цветную снимал оператор бедовый,
кожуру апельсина срезал спиралью, как образ готовый…
Люди, которым я должен, не умирайте,
женщины, которых я любил, не старейте…
Алексей Николаевич поперхнулся на предпоследней строке; начало и конец стихотворения были явно слабее середины, и потому строка удрала из памяти.
Но тут из кабинета выглянул Наварин, жизнерадостный и крайне женолюбивый, в дымчатых очках, над которыми нависали бутафорски огромные брови.
– Заходи, братец, – играя обертонами, начальническим басом проревел он и, затворив дверь, тут же извлек из несгораемого шкафа бутыль чачи – очередной презент одного из аспирантов, спустившегося в поисках кандидатской диссертации с гор кавказских.
– Какая девочка! – только и пробормотал Алексей Николаевич, давясь вонючей жидкостью крепостью под восемьдесят градусов.
– А? Нравится? – растянул в лягушачьей улыбке Наварин большой чувственный рот и от удовольствия накрылся бровями.
– До нее даже страшно дотронуться, – отвечал Алексей Николаевич. – Я, конечно, имею в виду не Уголовный кодекс. Девочка – облако какое-то…
– Неужели? – гулким эхом отозвался Наварин. – Да вот, на днях везу это облако к себе в гарсоньерку. На такси. А водитель, мужик моих лет, всю дорогу рассказывает о своем попугае. Чем кормит, как и чему научил говорить. А потом оборачивается к Зойке: «Ты папке скажи. Он тебе такого же попугая купит…»
И Наварин захохотал так, что брови начали страшно прыгать по его лицу.
«Воистину – Казанова!» – подумал Алексей Николаевич, чувствуя, как теплая волна от чачи поднимается и заливает его.
В институте о Наварине ходили легенды. Рассказывали, как к нему пришла скромная сотрудница с бумагой на подпись. Наварин молча завалил ее на письменный стол, ловкой судорогой ноги захлопнув дверь. «Григорий Евсеевич! У вас такая красивая жена!» – лепетала жертва, на что Наварин сквозь уже накатывающиеся блаженные стоны рычал: «Я люблю контрасты!..»
– Никогда не скажешь, – смущенно пробормотал Алексей Николаевич. – Они с теткой такие чистенькие, почти стерильные…
– А тетка потихоньку спивается, – тут же вставил Наварин.– Недавно налакалась до того, что заперлась в мужском туалете. А у нас половина сотрудников – старцы с аденомой. Ложные позывы и все прочее. Вот она ко мне потом и приходит: «Ну что, подавать заявление по собственному желанию?» Нет, говорю, подождем следующего раза. Да мы их сейчас вызовем… – И он нажал на кнопку звонка.
Алексей Николаевич смутно помнил бессвязный разговор, который тут же завертелся, едва лишь Лина Федоровна с Зойкой появились в кабинете. Но когда Наварин вышел на минутку, Зойка сказала, глядя куда-то в сторону непрозрачными кукольными глазами:
– Я к вам приеду… Позвоню и приеду…
Ждать пришлось три месяца.
Как легкомысленно и беззаботно жил Алексей Николаевич, и поэтому должен был непременно расплатиться за это…
2
Он вдруг проснулся двадцатилетним.
Солнце густым золотом заливало спальню: золотые ручьи стекали по шаляпинским обоям, золотой пудрой висела в воздухе пыль.
Все пело в нем и вокруг него. Пели воробьи на ветках тополя, поднявшегося вровень с его пятым этажом, пел грузовик, надрывавшийся вонючим дымом на улице, пела лифтерша, ругавшаяся с уборщицей перед подъездом.
Она придет к нему! Это казалось невозможным счастьем, нет, этого просто не могло быть!
Конечно, неловко перед Тотошей, с которой накануне Алексей Николаевич договорился. После неожиданного Зойкиного звонка он пытался отменить свидание. Сказал Тотоше, что прихворнул, но только вызвал удвоенный энтузиазм – явиться, помочь, подлечить. Все, что он сумел, – оттянуть на два часа ее приезд. Ах, да теперь не до нее!
Алексей Николаевич вошел в ванную, и отворачиваемый душевой кран мгновенно отозвался чистым трубным звуком – мощным и долгим.
– Молодой Вагнер… Начало увертюры к «Риенци», – мгновенно определил Алексей Николаевич, чувствуя, как радость вновь подкатывает к горлу.
Он бросился – как бы – из-под душа в гостиную, оставляя за собой следы, такие глубокие, словно это был не паркет, а сырой песок, нашел альбом Николая Голованова, поставил диск.
Стоя в обрушившейся на него музыке, бессильно рассуждал:
«Что придумать? Что сделать, чтобы ей было хорошо, удобно, приятно? Поехать в Елисеевский? Купить коньяка, шампанского, ветчины, рыбы, швейцарского сыра? Слетать на рынок за фруктами? Бедная Тотоша! Она ничего не подозревает – вычерчивает на ватмане свои лифты и, небось, жалеет его, думает о его мнимои болезни, о том, что должна принести ему картошки. А он? Негодяй! Здоров как боров. Прыгает чуть не до потолка, потому что к нему должна явиться эта маленькая дрянь. Да что же это такое? Отчего влечение так охотно принимает черты одной и той же геометрической фигуры – разомкнутого треугольника, о котором сказал популярный бард:
Что касается меня,
то я гляжу на вас,
а вы глядите на него,
а он глядит в пространство…
Алексей Николаевич вспомнил, что уже две недели не делал зарядку, кинулся в спальню и принялся приседать, кланяться, качаться, скакать под музыкальные громы, толчками выкатывающиеся из коридора. Потом схватил гантели, завертел ими, отмахав, начал терзать плечи и живот массажером, а там снова вбежал под душ. Но и под теплым дождиком дергался, вертелся, приплясывал и пел, уже не слыша Вагнера, уже слушая только себя.
Все было закуплено: коньяк, пиво, вино, закуски, фрукты, сласти. Он как мог перетирал время. Разложил все пасьянсы, какие знал – косыночка, Мария Стюарт, гробница Наполеона и еще несколько безымянных, перечитал «Советский спорт», «Неделю», «За рубежом», сыграл сам с собой в дурачка, в очко, в пьяницу. Время словно бы загустело и не желало течь.
За полтора часа до срока начал подбегать к глазку, едва слышал движение лифта. Когда ящик с железным стуком останавливался на этаже, обмирал, чувствовал, как холодеют руки, как бежит по коже сыпь испуга. Но когда прошел час, другой, и он потерял всякую надежду, в глазке появилась она: под напускной развязностью скрывая смущение, вертела головкой, быстро кривляясь хорошеньким личиком и показывая верхние крупные зубки. Прежде чем она успела нажать пупочку звонка, он отворил дверь, сам спрятавшись, пропуская ее. И вместо Зойки в коридор медленно вплыла толстенькая девчушка с припухшим, словно покусанным пчелами лицом, не уместившаяся в глазке.
Растерявшись, он показался из-за двери, и тут ворвалась она – с наглым шпанистым хохотом. Все смущение слетело с нее; едва она переступила порог, как сразу нашла себя, обрела свой обычный, преувеличенно-независимый тон. Он замечал и потом – как робка, осторожна и настороженна была она на улице, в магазине, на пляже, в гостях, при незнакомых и чужих. И как смела, самоуверенна – в ресторанах, в такси, в обжитой квартире. Во время еды – только не в ресторане, на людях, а дома, при своих, она откровенно, по-детски отрыгивала, иногда громко издавала губами непристойный звук и тотчас звонко хохотала. И все, что у другой могло показаться неприятным или даже отталкивающим, у Зойки выглядело прелестно…
Убедившись, что опасности нет, она, как веселый щенок, стала носиться по квартире. В коридоре обратила внимание на его английские штиблеты («Где такие клевые кандалы оторвал?»), залезла в холодильник, сунулась к проигрывателю, потрогала магнитофон, потом, очень довольная всем увиденным, с гримасками от подступившей неловкости, быстро сказала:
– У вас ванек найдется? Там внизу тачка ждет…
И пока он соображал, что к чему, и доставал бумажник, добавила:
– Или лучше два… И смотрите, не трогайте кисть! Я вернусь скоро и, если замечу, что вы писались, никогда больше к вам не приду!
– А что это за девушка?
– Так. В одном классе учились. Баранина…
Она умчалась с двумя рублями, оставив переваривать весь этот неведомый ему жаргон – баранина, кисть, писаться, посмокать, пучить, флэт – каким словесным мусором была забита ее хорошенькая головка! Между тем ее подруга села в кресло и, не сгоняя с лица сонного выражения, неожиданным басом приказала:
– Пепельницу!
Он вздрогнул, поставил перед ней медную чашку с фигуркой сфинкса; она задымила и уже молча палила сигарету за сигаретой до Зойкиного прихода. Только сказала, что зовут ее Надеждой и что учится на дамского парикмахера.
Но прилетела Зойка, и вновь в квартире все пошло ходуном: в кухне была разбита музейная фарфоровая чашка, разрисованная по эскизу Чехонина; в кабинете, на листках неоконченного очерка возникли красивые крупные росписи разноцветными фломастерами: «3. Колоторкина», «3. Колоторкина», «3. Колоторкина»; на малиновом диване в гостиной выросла куча выброшенных из пакетов дисков:
– Кто у вас слушает эту ерунду?
– Хотите «бум-бум», да? – слегка осмелев, осведомился Алексей Николаевич.
– Что это – «бум-бум»? – удивилась Зойка.
– Все девушки просят поставить какой-нибудь «бум-бум».
– Бони Эм?
– Не обязательно. Но – «бум-бум».
– А Бони Эм есть? Какой диск? Вот если бы «Распутин»!
И когда застучало, заскрежетало, заухало и в чудовищной шарманке слились голоса, электрогитары, тамтам, ударник, синтезатор, она ловко и красиво задвигалась в такт этой дьвольской музыке, глядя в упор, с дебильной окостенелостью куда-то в угол комнаты. Перехватив ее взгляд, Алексей Николаевич не сразу понял значение его неотрывности: Зойка мгновенно нашла отражательную плоскость, род зеркала – в линзе выключенного телевизора, и уже не сводила взгляда с себя, наслаждаясь собственным видом и движением в танце.
– Огромная гитара повисла над миром! – сказал Алексей Николаевич и пошёл в кухню готовить стол.
Ели под непрерывный рев музыки; обе были до крайности голодны, но будущая парикмахерша – неразборчива, а Зойка – требовательна, норовиста, капризна. На кухне она спросила:
– У вас майонез есть?
– Конечно! – Алексей Николаевич выдернул банку из холодильника.
– Ветчина?
– К вашим услугам…
– А кефир?
– Пожалуйста…
Зойка просияла:
– Как в ресторане!
От коньяка обе гневно отказались («Мы не алкоголики!»), зато на пиво навалились так, что полдюжины не стало мигом. Алексей Николаевич хотел открыть консервным ножом очередную партию, но молчаливая Надя остановила его. Она брала бутылку за бутылкой и своими молодыми, сахарными зубками сдергивала металлические крышечки, сыпавшиеся на пол.
Когда ветчина была съедена, пиво выпито и музыка достигла наибольшего омерзения, Зойка выбежала в гостиную, села на пол, прильнув ухом к содрогающимся, пульсирующим динамикам стодвадцативаттной дюалевской колонки, и, пересилив рев и грохот, провозгласила:
– Сексуальный час!..
3
Она исчезла, провалилась куда-то, так что даже тетка – Лина Федоровна не могла порассказать о ней,– где она и с кем. Алексей Николаевич подбирал лишь жизненные подробности, склеивая их в мозаику, узнавая от Лины Федоровны все о Зойке.
А в тот день – день ее шумного появления, события пошли неожиданно. Едва он потянулся к Зойке, как она вскочила, состроила возмущенную гримаску и повелительно указала на Надю:
– Она сделает тебе все!..
…Когда Надя убежала принимать душ, Алексей Николаевич сообразил, что вот-вот должна прийти Тотоша. Он даже не предполагал, как, узнав об этом, всполошатся гости. В панике Надя никак, даже с Зойкиной помощью, не могла влезть в комбинашку (потом Зойка рассказала, что одолжала на этот чрезвычайный случай свою, и для плотного тела юной парикмахерши сорочка оказалась довольно тесной). Не желало повиноваться ей и ее собственное платьице.
Наконец общими усилиями – Алексей Николаевич деятельно помогал – под треск рвущейся ткани Надя была воистину с грехом пополам одета. И гости выбежали на площадку в тот самый момент, когда стукнул лифт. Алексей Николаевич захлопнул дверь и увидел в глазок, как появилась Тотоша, с удивлением разглядывая двух растрепанных школьниц. Он еще успел схватить дезодорант и пробежать по квартире, выстреливая в разные стороны вонючим дымом. Все было как во сне…
Теперь он кружил по Пресне, внутри огороженного огромного пустыря, среди еще уцелевших и обреченных бараков, казарменнокрасной школы, жалкого остова, в котором слабо угадывался храм – церковь во имя Девяти мучеников, выходил к отретушированным зданиям, которым разрешалось жить дальше, и думал, думал:
«И на этих задворках, среди этого мусора, в одном из этих бараков родилась Зойка. Прелестная девочка с кукольно-неподвижным и очень белым лицом русской гейши, чуть косящим правым глазом; маленьким подвижным носиком (который, кажется, жил отдельно от ее личика) и крошечным ртом. Когда она смеялась, зрачки покрывались перламутром, словно глаза зажигались изнутри. Сбоку скошенный очерк лица являл треугольник с верхним длинным и нижним короткими катетами – от лба линия спешит к носу и, образуя тупой, с небольшой лукавинкой у вершины угол, сбегает далее к маленькому подбородку. Но это не портило ее, а, напротив, придавало неуловимую прелесть, как и верхние зубки, очень крупные в сравнении с нижними, как и длинная фигура со слегка выставленным вперед животиком…»






