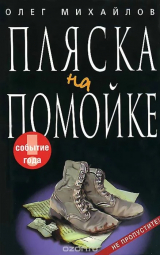
Текст книги "Пляска на помойке"
Автор книги: Олег Михайлов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 11 страниц)
Играя в дурачка, в паре с Алексеем Николаевичем, она безбожно жульничала, быстро и воровато переворачивала неправильно побитые карты и, едва Семен Иванович пытался ее уличить, принимала крайне обиженный вид и набрасывалась на него:
– Сеня! Как тебе не совестно! Это ти не так побил!
Генерал от желания выиграть скрипел зубами и страшно двигал нижней челюстью, сердясь на рассеянного и близорукого провинциального классика. Если же делал неправильный ход, то громко командовал себе:
– Отставить!
За редким исключением Елена Марковна с Алексеем Николаевичем выходили победителями, и затем все шли к столу.
Петров, как всегда, садился с присказкой:
– Закуска ваша, однако пью только свое!..
Он вынимал из внутреннего кармана пиджака плоскую бутылочку коньяка, наливал себе рюмку и прятал бутылочку обратно.
Разговоры шли о литературе.
– Я, конечно, еще не член Союза писателей, – рассуждала Елена Марковна, чокаясь минеральной водой. – Но мне так мечталось побивать на последнем съезде. И Сеня достал нам гостевые билеты. Приходим в Кремль на час раньше. Садимся в зале заседаний. И вдруг объявляется: «Сейчас начнется собрание партийной группи. Просим посторонних вийти». Я хотела покинуть зал. А потом подумала: «Ах, била не била! Я же сорок лет в партии!» И оказалась вознаграждена! Я прослушала необикновенно интересный отчетний доклад председателя ревизионной комиссии Сартакова. Я никогда еще так внутренне ни переживала! Меня это ужасно взволновало! Не могу нам передать, как это било ужасно!..
В сущности, все они, включая живого классика, даже о самом сокровенном говорили цитатами из одного затянувшегося партийного собрания. Только в языке генерала, словно трава на броне, пробивались живые ростки.
– Как показывает исторический опыт, – размышлял Петров, близоруко поднося к лицу вилку с закуской,– красивая жизнь попадает во внесоциальные формы общежития…
– А мне, – перебивал его Семен Иванович, – Коша, еще селедочки…
– Вы ее солите? – изумлялся писатель. – Соление по-соленому?
На что генерал, обильно посыпавший селедку солью, своим добродушным и мощным командирским голосом отвечал:
– Попробуйте, Федор Федорович! Очень хорошо!
– Да ведь это же белая смерть… Как минимум отложение солей…
Семен Иванович необидно смеялся:
– Эту белую смерть евреи выдумали. Вот седьмой десяток разменял и все солю. И селедку солю. И никаких отложений. Отложения – от безделья и лишнего думанья…
Елена Марковна возвращала разговор к литературе.
– Федор Федорович! – просила она. – Ви нам что-нибудь почитаете? Виступите! Почитайте!..
– Признаться, я не собирался, – отнекивался писатель, тотчас доставая кипу листов. – Да и не люблю, честно говоря, этого окаянного занятия. Но будучи учеником Федора Гладкова…
– Просим! Просим! – вступали дружным дуэтом генерал с Алексеем Николаевичем.
Петров раскладывал на столе листки и густо откашливался.
– Да я как-то не готов. Не в голосе сегодня. Утром проснулся поздно и вьшил холодного кефира… Хм-хрр!-
– Ми ждем! Виступайте! – требовала Елена Марковна.
– Ну, хорошо,– наконец соглашался Федор Федорович.– Отрывок. Закончил только что. Ранним утром…– И начинал натренированным актерским баритоном: – «Была глубокая ночь. Хоть глаз выколи. Дождь лил, как из ведра. Иннокентий возвращался из творческой командировки и размышлял…»
Незаметно для себя Петров отрывался от текста и начинал декламировать наизусть. Голос его креп: «Иннокентий напряженно думал о мимолетности жизни, потому что с младых ногтей был философом…»
– Необикновенно интересно! Дух захвативает! – откликалась Елена Марковна.
Генерал переживал услышанное по-своему:
– Коша! Помнишь Гришу-философа?
– Он бил философ, – соглашалась Елена Марковна. – Но почему-то бистро умер.
– Он пил, – напоминал Семен Иванович.
Елена Марковна радостно подхватывала:
– Да, он пил! Очень пил! И вообще вся семья била необикновенно интересная!
– Надо хорошо закусывать, – делился опытом генерал. – Вот и весь секрет. Закусил, и на здоровье! Девяносто процентов болезней происходит от недопития. И только десять– от перепития…
А Алексей Николаевич, слегка захмелев, подначивал классика.
– В вас есть нечто бунинское, – говорил он. – И, кажется, этой весной вы пережили подлинную Болдинскую осень.
Федор Федорович впал в глубокую задумчивость.
– Вы правы, – наконец ответил он. – Я пережил в этом году не одну, а целых три Болдинских осени. Но… – Тут голос его дрогнул, гдаза повлажнели. – Но если бы у меня, как у Бунина, была своя Галина Кузнецова! Я бы написал тогда массу «Грамматик любви»!..
6
Семен Иванович являл собой тип настоящего русского генерала. Согласимся, что заблудиться в нем было нельзя. Но разве это всегда плохо? Он был неглуп, крестьянски сметлив и часто задавал каверзные вопросы.
– Алексей Николаевич! Вот вы поклоняетесь Христу. А ведь он – еврей…
– Семен Иванович, Сын Божий не имеет национальности, – с чувством превосходства отвечал тот.
– А матушка его, как по-вашему, имеет национальность?
– Разумеется.
– Так вот, Богородица, безусловно, без всякого сомнения – еврейка. А в Израиле национальность определяется по крови матери…
Ну, что с ним поделаешь! Добродушно поругивая «жидов», он был влюблен в свою Елену Марковну, которая зачем-то скрывала свою подлинную фамилию – Гойхман, и души в ней не чаял. И при всей своей, командирской твердости был чувствителен и даже сентиментален.
– Когда Семен Иванович командовал дивизией в ГДР, – рассказывала Елена Марковна Алексею, пока reнерал бегал в магазин «Коктебель» за новосветским шампанским, – произошел ужасний случай. Ночью он вел БТР, непреривно сигналил и раздавил солдата. Солдат бил нестроевой, так как плохо слишал. С тех пор Сема не может сесть за руль. Я ему говорю: «Купи машину». А он: «Если я поведу ее, то заплачу…»
Как-то под вечер Семен Иванович заглянул к Алексею Николаевичу, строчившему очередную чепуху за пишущей машинке, и еще с порога сказал:
– Поздравьте, Алексей Николаевич! Меня, так, понизили в звании!
Тот не понял генеральской шутки:
– Что за чепуха, Семен Иванович?
– Это не чепуха. Я был, так, майором, а стал лейтенантом. Вот телеграмма из Минобороны. Ко дню моего рождения…
По этому случаю решено было назавтра отправиться с увеселительной прогулкой по Крыму: Судак, Алушта, Бахчисарай, Севастополь…
Разбуженный в пять утра, Алексей мало что соображал, пока Семен Иванович не поднес ему граненый стаканчик. Тогда мозги его просветлели, и он спросил:
– Товарищ генерал-лейтенант! А карты вы взяли?
– Так, Алексей Николаевич. А зачем, так, нам с собой брать карты?
– Как зачем? Ведь сколько остановок будет. Закуска, выпивка, разговоры…
– Так, Алексей Николаевич, – напряженно обдумывая услышанное, отозвался Семен Иванович.– Значит, вы какие карты имеете в виду? Игральные?
– Ну, конечно!
– А я думал, так, – топографические…
У Старого Крыма, за знаменитым туберкулезным санаторием, «Волга» свернула в лес. Генеральская чета и Алексей Николаевич направились к давно облюбованной ими беседке. Стоял май – яркой, зеленешенькой была листва смешанного леса. Еще не наступила изнуряющая крымская жара, еще дул прохладный норд-ост, и едва только троица вошла в беседку и генерал ловко разложил на салфетках снедь, откупорил бутылочку коньяку, как по заказу, грянули соловьи. Этот миг Алексей Николаевич будет, верно, вспоминать, как один из самых счастливых в его беспокойной и шелапутной жизни…
Под соловьиный гром Семен Иванович разливал коньяк, по своему обыкновению, приговаривая:
– Девяносто процентов болезней происходит от недопития и только десять – от перепития…
А Алексей Николаевич позволил себе дерзко спародировать самого Пушкина:
Наполним сосуды, расширим их разом!
Да здравствует пьянства веселый маразм!..
Впрочем, никакого такого пьянства, конечно, не было Елена Марковна чокалась минералкой, а мужчины хватили под хорошую закусь по сто пятьдесят. Генерал ударился в лирические воспоминания:
– Уже после войны в соседней части застрелился офицер. Меня отправили для расследования. Я было думал, не замешана ли тут иностранная разведка. Гляжу личное дело – отличник боевой и политической подготовки. Вызвал сослуживцев, переговорил с ними. Ничего не пойму! Последним беседую с замполитом. Он и говорит: «Товарищ полковник, – я тогда в полковниках ходил, – а с женой покойного вы уже успели побеседовать?»
Тут Семен Иванович призажмурился, глядя сквозь стаканчик куда-то в лесную чащобу, и через долгую паузу добавил:
– Признаться, эта мысль не приходила мне в голову. А ведь что оказалось? Молодой офицер, прямо из училища. Салага. Только-только женился. И у него с ней ничего не получалось. И вот он пошел в лес, сунул пистолет в рот и…
Семен Иванович был чист, беспорочен, может быть, даже и свят…
7
Белой акации гроздья душистые ворохом облузганной шелухи лежат на аллеях. Амба весне! Весна кончилась. А с нею и какие-то неясные, зыбкие надежды. И уж в который раз чувствуешь, что обманут, и понимаешь, что от роскошных южных цветов исходит аромат дешевой парфюмерной лавки.
К началу июня Алексей Николаевич кое-как закончил редактирование романа о любви металлургов; опус о Державине так и не был дописан.
Возвращались в Москву в спальном вагоне – генерал достал билеты. Алексей Николаевич, со студенческих лет не умевший спать в поезде, проворочался без сна, внимая храпу Елены Марковны за тонкой стенкой. Свистящее дыхание напоминало железнодорожную катастрофу в старой киноленте, когда столкнувшиеся паровозы беспомощно выпускают пар…
Утром он пожаловался на свои нервы и тут же услышал:
– Ми с вами одинакови! Я совсем не могу спать в поезде! Верите, глаз не сомкнула!
С Курского вокзала генералы довезли Алексея Николаевича до его квартирки у метро «Аэропорт» и поехали дальше по Волоколамке к себе в Архангельское.
Дома его ожидала мама; Георгий был в командировке.
– Аленька! – с порога сказала она. – Тебе обзвонился редактор Борис Яковлевич. Вот его телефон. Очень просил – срочно позвони, как приедешь…
Он сразу понял: это доктор Люэс!
– Алексей Николаевич, – услышал он, набрав номер, – что вы делаете! Вы ходите по острию ножа!
– Но я же… Был в диспансере… В Феодосии… Диагноз отрицательный…
– Прямой анализ слишком груб и не дает никаких гарантий, – отрезал Борис Яковлевич. – Необходим срочный косвенный анализ. Рипт. Я вас жду. Немедленно!
Алексей Николаевич почувствовал, как его физиономия вдруг сделалась металлически чужой. Перед самым отъездом из Крыма, вставая к завтраку (в юности, в Суворовском, его приучили спать без трусов), он обнаружил небольшую ранку в самом интимном месте – на пещеристом теле, – но тут же позабыл об этом по легкомыслию.
– Берите машину и приезжайте сейчас же в диспансер. У метро «Молодежная», – говорил Борис Яковлевич.
– Я еду… И, кажется, я болен… – пробормотал Алексей Николаевич.
И медицинский конвейер бесплатного лечения втянул его и потащил через невиданные ранее катакомбы, где рядом маячила грозная тень доктора Люэса.
Сдав кровь на рипт, Алексей Николаевич отправился на другой конец города, на улицу Короленко. Была суббота, июнь плавил московский асфальт, люди рвались за город или, на худой конец, к воде, а он сидел у столика дежурной под грозным плакатом:
ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРИ СЕБЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ИЛИ ХОЛОДНОЕ ОРУЖИЕ, ПРИВЛЕКАЮТСЯ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПО СТАТЬЯМ…
Сестра бесстрастно заполнила формуляр – очередной формуляр, – а затем появилась старуха с весьма злобным выражением на лице и потребовала идти за собой. Они спустились в тоннель. Старуха шла впереди, время от времени с отвращением оглядываясь на него. Наконец свернули в нишу и поднялись по лесенке.
В слабо освещенном кабинете, уставленном загадочной медицинской аппаратурой, его встретила немолодая миловидная женщина в белом халате. Узкий пучок света ложился на ее стол. Старуха передала сопроводиловку и, что-то бормоча, удалилась. Внимательно прочитав бумажку, врач привычно сказала:
– Снимите штаны и трусы.
Затем она взяла из эмалированного тазика блестящий нож-ланцет, подошла к Алексею Николаевичу и левой рукой подхватила его, бедного, съежившегося от страха воробушка. Найдя уже почти зарубцевавшуюся ранку, она вонзила в нее ланцет.
От стыда, ужаса, боли Алексей Николаевич на мгновение потерял сознание, нашарив руками стену. Но уже в ловких руках венеролога блеснула стекляшка, которую она приложила к кровоточащему месту.
– Промакните, – сухо сказала она, подав Алексею Николаевичу тампон, и отошла к своему рабочему месту.
Только теперь он увидел, что в центре стола металлически поблескивает микроскоп. Алексей Николаевич в нелепой позе, понимая, что мазок под окуляром решает его судьбу.
В тишине прозвенел резкий женский голос:
– Какого черта ко мне присылают больных с механическими повреждениями!
Вызванная звонком, явилась старуха и приняла бумагу на освобождение. Теперь она улыбалась и, ведя за собой по тоннелю Алексея Николаевича, повторяла:
– Нынче суббота. Отдыхайте, отдыхайте!..
Было еще несколько томительных поездок в диспансер на «Молодежную», проб крови, обследований. Через неделю позвонил Борис Яковлевич:
– Поздравляю! Судя по всему, вы проскочили.
И сразу новый звонок:
– Алексей Николаевич! Куда ви запропастились? Ми вас никак не поймаем! А у меня необикновенная радость. Мой роман принят к печати. Приезжайте завтра – отметим.
Конечно, Елена Марковна…
8
Стол был баснословно богатым – воистину праздничным.
Кроме Алексея Николаевича были приглашены Федор Федорович, после изнурительного писательского труда в Крыму отдыхавший в подмосковном доме творчества «Переделкино»; незнакомая супружеская пара – генерал-лейтенант с женой, и главный редактор издательства, где готовился к печати роман о любви металлургов. Отсутствовал лишь брат Елены Марковны, который проходил очередное обследование в больнице четвертого управления на Открытом шоссе.
Главный редактор – Петр Александрович Боярышников, внимательный, с острыми глазами, был достаточно знаком Алексею Николаевичу. Чувствовалось, он здесь не в первый раз.
Покинув служебную «Волгу» и войдя в большую, обитую ситчиком в цветочек столовую, где уже собрались гости, он развел руками и театрально воскликнул:
–~ Вот, говорят, в магазинах ничего нет. А придешь друзьям – стол ломится…
– Не имей сто рублей, а имей сто друзей! – подхватила Елена Марковна, любившая к месту употребить сокровища русского языка.
– Ну, я не стал бы отказываться ни от того, ни от другого, – с некоторой даже развязностью возразил, чарующе улыбаясь, Петр Александрович и снова театрально заиграл: – Вот она, матушка Россия! Истинно – скатерть-самобранка! Икра, зернистая и паюсная. Балычок, кета семужного посола. Браво! Колбаса брауншвейгская, и языковая, и телячья. Симфония! Сыр швейцарский, дырчатый и со слезой. Ба, крабы!
Была бы каждый день икра бы!
А если б к ней еще и крабы…
Помидоры, видно, астраханские, бычье сердце. А огурчики? Неужто нежинские…
И с карикатурной блудливостью пропел:
Огурчики, да помидорчики,
Да Сталин Кирова убил да в коридорчике…
Казалось, ему было позволено в этом доме все. Но тут не выдержал генерал-лейтенант, нахохленный, съежившийся, но со стальным ястребиным взглядом:
– Молодой человек, извините! И не Сталин, а Николаев. И не в коридорчике, а в приемной…
Как бы не слыша его, Боярышников продолжал, засовывая под горло накрахмаленную салфетку:
– Боже! Грузди! Соленые, сопливые, мыльные, бессмертные. Скорее водки! Выпьем за роман Елены Марковны! – И уже наработанным начальническим штампом: – Этому красному роману – зеленую улицу!..
Однако Семен Иванович, которому требовалось время, чтобы осмыслить сказанное о Сталине и Кирове, после рюмки осторожно спросил:
– Петр Александрович! Так… А вас после таких слов никуда не вызывали?
За издателя решился ответить Алексей Николаевич.
– Знаете, Семен Иванович! – с глубочайшей важностью сказал он. – Ему это говорить можно. А нам слушать – нельзя.
Генерал-лейтенант после этого еще больше съежился, нахохлился и уже общался только с женой.
Елена Марковна решила увести застолье от опасной темы.
– Кстати, ви не представляете! – воскликнула она. – Мой Сеня умеет замечательно свистеть. Необикновенно! Он много раз учил меня. Но у меня ничего не получается…
Тут взял слово Федор Федорович, третий раз вынимавший заветную плоскую бутылочку:
– Это не передается. Как всякий талант. Вот, я помню, по радио один жулик художественно свистел. Кажется, Ефим Найт. Загребал, говорят, кучу денег. И чем? Свистом!
– Сеня, свистни! – уговаривала Елена Марковна. – Ну, прошу тебя!
Семен Иванович долго отнекивался, даже младенчески покраснел, но потом заложил в рот четыре пальца. Раздался такой оглушительный свист, что Алексею Николаевичу показалось, будто звякнули хрустальные подвески на люстре. Боярышников клоунски заткнул уши, а потом искусственным голосом заверещал:
– Соловей-Разбойник в лампасах!
– Настоящий богатырский генеральский свист, – возразил Алексей Николаевич.
Итог, как всегда, подвела Елена Марковна:
– Нет, я не могу вам передать, что со мной делается, когда он свистит! Я ничего подобного никогда не переживала!
Перед чаем пошли прогуляться по огромному, хорошо ухоженному участку. Говорили об Архангельском, поселке, в котором уже больше наследников, чем маршалов и генералов, о самих дачах.
– Для достижения поставленной цели в области участка, – делилась своими соображениями Елена Mapковна, – люди способны на все. Только мой Сеня ни к чему не годен. Вот, Плешаков, – кивнула она в сторону забора. – Тоже генерал Генерального штаба. Позвонил директору ипподрома, хорошенько представился. И что же? Получил грузовик чудесного свежего навоза! Я даже ходила нюхать…
– Я недавно навещал Плешакова,– вставил Петр Александрович. – Он принес в издательство свои мемуары. Но стол у него, доложу, Елена Марковна, не в пример беднее, чем у вас…
«Небось, самому Плешакову будет говорить все наоборот», – усмехнулся Алексей Николаевич и услышал::
– А ви знаете? – Елена Марковна оживилась. – Я только сейчас вспомнила. Скончался Иван Александроввич. Его дача третья слева. Отсюда не видно…
– Как, умер Серов? – переспросил Алексей Николаевич.
– Да, да! Необикновенный бил человек!
С Серовым Алексей Николаевич познакомился у генералов, а потом играл с ним в теннис на кортах военного санатория. Им, Елене Марковне и Семену Ивановичу, он был обязан возможностью привезти к Серову Пшетакевича.
Иван Александрович встретил их тогда, сидя под собственным гигантских размеров фотопортретом, где он был представлен в форме генерала армии со множеством советских и иноземных орденов и звезд. Серов был бодр, подтянут, с васильковыми, под цвет энкеведешного околыша фуражки, глазами. На столике стояла початая бутылка болгарского бренди – «плиски».
– Помню, помню вашу Армию Крайову, – добродушно заговорил он после приветствий. – Как же, как же. В сорок пятом, – было это, по-моему, в Кракове. Мне доложили, что взят в плен ваш генерал, и его держат в штабе Армии Народовой. Я приказал через порученца ввезти генерала. Жду час, другой, а его нет как нет. Говорю порученцу: «Передай, что Серов начинает сердиться…» Потом уже сами звонят: «Товарищ Серов! Не можем привезти генерала!» – «Это еще что? Почему?» – «Он утонул. Мы его водой допрашивали…»
И, источая васильковыми глазами детское простодушие, добавил:
– Погорячились…
Прощаясь, Алексей Николаевич спросил:
– Иван Александрович! Отчего вы такой стройный? Как юноша.
– А вот отчего, – охотно объяснил Серов. – Однажды товарищ Сталин сказал: «Что-то ты начал толстеть. Прекрати!» И вот я остался худым…
9
Подходило к концу лето – душное, пыльное московское лето, и Алексей Николаевич начал подумывать о новой поездке в Крым. Он не переносил южной жары, изнурительно палящего солнца, столпления на пляжах, но обожал Крым весенний, когда расцветает сирень, а чуть позже тамариск, и гремят, соперничая с соловьями, всю ночь перекатывая любовные рулады и раздувая защечные мешки, менестрели-лягушки; и Крым осенний, с его библейскими палевыми тонами, которые так прекрасно передал на своих акварелях Максимилиан Волошин.
Он уже договорился с генералами и купил авиабилет, когда вечером, среди газет, обнаружил повестку.
– Тут какая-то ошибка… Наверно, перепутали адрес,– сказал Алексей Николаевич Хауз-майору.
– Да нет, старичок, – покачал тот головой и перечитал казенную бумагу: «Гр-ну… срочно явиться… в кожный диспансер… по месту жительства… улица Чехова… В случае неявки будут приняты меры… через милицию…»
– Ничего не понимаю… Прошло столько времени... И диспансер совсем другой… – лепетал Алексей Николаевич, чувствуя, что все началось сызнова.
– Надо идти, старичок! Надо идти! – строго внушал Хауз.
Невзрачный домишко в центре Москвы был разделен на два отсека: первый этаж принимал легких больных – гонорея и проч.; Алексею Николаевичу надлежало подняться на второй. Там было довольно многолюдно, и он увидел знакомую по клубу литераторов поэтессу. Но когда обрадованно поздоровался с ней, та вытянула физиономию в козью морду и холодно прошествовала мимо.
«Вот и говори потом об общительности наших писателей!» – сказал себе Алексей Николаевич и нашел назначенный ему кабинет.
Очередная медсестра взяла его повестку.
– Сделаем на всякий пожарный анализ крови, а завтра придете на прием к врачу…
«Чепуха! – обрадовался он.– Простая формальность!» – чувствуя некий кайф, словно от легкого наркоза, когда у него брали в сотый раз кровь из вены.
На следующий день Алексей Николаевич приехал пораньше: надо было еще пройтись по магазинам и закупить нужную мелочевку для путешествия в Крым. Другая сестра сказала, что врач будет завтра.
– Ну, как там у вас с анализом… Вы знаете… У вас скрытая форма сифилиса… Врач назначит лечение… -
Выйдя из диспансера, Алексей Николаевич почувствовал, что под ним не асфальт, а мягкие подушки, по которым он перемещается, проваливаясь ногами. «Как называется такая болезнь? Да, кажется, пляска святого Витта!» – слегка пошатываясь, вспомнил он.
Август тем временем распахнул свою пышную ярмарку– все, что могло, цвело, наливалось соками, радовалось теплу и свету: бедные столичные растения, младшие наши братья – собаки и кошки и, конечно, загоревшие за лето, отдохнувшие и ждущие, как всегда любви, горожане. Прохожие, затопив улицу Горького, покупали цветы, яблоки, арбузы, благодарно улыбаясь друг другу и роскошному августу. Студенты, приехавшие к началу учебного года, сцепившись парочками, щебетали о чем-то, безусловно, необыкновенно важном, чего человечество не знало с начала мироздания…
У метро Алексею Николаевичу встретился молодой, однако уже нашумевший своими смелыми статьями критик-почвенник: красавец, явившийся из казачьих краев завоевывать Москву и специально отпустивший бороду, которая делала его поразительно похожим на Ивана Аксакова.
– Я слышал, Юра, ты разошелся с женой… У тебя драма… – Алексей Николаевич желал видеть хоть в ком-то товарища по несчастью.
– Да, Алеша, развелся,– отвечал тот.– Но я полюбил другую. Хорошую девушку. И счастлив. Да ты только посмотри! Как все прекрасно!..
Через каких-то жалких пять лет Алексей Николаевич, уже семейным человеком, вместе с Ташей и крошечной Танечкой, приехал, благодаря перестройке, в Восточный Берлин. Когда он расположился на диване у пригласившего его друга-профессора, в прелестной квартирке на улице с уютным названием «У ленивого озера», тот, внезапно помрачнев, сказал:
– Ты сидишь там, где умер Юра… После завтрака затянулся сигаретой и вдруг схватился за сердце: «Эберхард, помоги!» Пока я бегал за женой – она, ты знаешь, медсестра со стажем – его не стало…
Но теперь, еще не зная, что ему придется хоронить Юру на Новокунцевском кладбище, а не Юре его – на Ваганьковском, Алексей Николаевич только бормотал, спускаясь по эскалатору:
– Как? Все прекрасно? Как может быть все прекрасно? И как они, эти люди, могут улыбаться, шутить, радоваться солнцу, в то время как я болен? Так вот чем завершились мои прогулки с доктором Люэсом!..
Хауз-майор, как мог, успокаивал его:
– Жизнь еще не кончена, старичок! Это не катастрофа. Билет в Крым тебе придется, конечно, сдать. Я тебя устрою к лучшему венерологу Советского Союза. Который лечит всех кремлевских детей и внуков. Я тебе порасскажу о них такого… Только не болтай! А напиши мне несколько поздравлений. Позарез нужно. В стихах и в прозе…
Он достал свою фантастического вида записную книжку, распухшую, словно дама в интересном положений вкладками и вклейками, где не по алфавиту, а по какому-то только владельцу известному коду располагались адреса и телефоны, и, слюнявя короткий указательный палец с агатовой гематомой под ногтем, забормотал:
– Повару в Доме журналистов послезавтра семьдесят. Хороший старик! Ему бы написать адрес в стихах. Киоскерше в одном министерстве на той неделе пятьдесят. Без мужа. Вырастила двоих детей. Хорошая девушка! Это она достала тебе Даля. Ей можно в прозе. Но очень чувствительно… Директору зала Чайковского тоже нужно поздравление. Подпусти что-нибудь музыкальное...
– А он на чем играет? – пряча раздражение, сказал Алексей Николаевич.
– Конечно, играет. На биллиарде. Мне позавчера двести грамм проиграл… Ну вот и все. Нет, еще, чуть не забыл. Старый большевик, еврей, отсидел двадцать лет! Такой добрый. Этому можно и попроще. Как говорится! по-партийному…
«Чтоб ты лопнул, проклятый паук!» – застонал Алексей Николаевич, сел за электрическую машинку и начал кропать:
Твоя душа,
Как август, и пышна, и хороша…
Ночью у него разболелось под левой лопаткой. Было такое чувство, словно ее выдирали, как доску из забора. Алексей Николаевич поплелся на кухню. Там в холодильнике он оставил только что купленный флакон валокордина. Дефицитное лекарство!
В соседней комнате озвучивал ночь Хауз-майор. Валокордина на месте не оказалось. Алексей Николаевич понял, что Георгий решил преподнести его кому-то из юбиляров. Он беспомощно потоптался у запертой изнутри остекленной двери в гостиную. Полная луна преломлялась в окне, освещая Хауза. Распростертый на спине, он имел вид удавленника: лиловые губы, страшно запавшие белки, не прикрытые веками, оскаленные золотые зубы. Одно лишь мешало трагическому впечатлению: храп, начинавшийся дрожью виолончельной струны, переходящий в жужжание шмеля и завершавшийся разрывом шрапнельной гранаты, отчего на стене вздрагивал в богатой резной раме Александр Павлович в мундире цесаревича с Анненской лентой и звездой.
Но не будить же Хауза… Дескать, верни валокордин… Ты его стянул…
И держась за сердце, проклиная свою бесхарактерность, Алексей Николаевич побрел назад, к трехспальной тахте. Авось пронесет…
В самом деле, к утру боль прошла. Выпив с Георгием чайку, он обреченно отправился на улицу Чехова. Чему быть, того не миновать…
Очень полная, с одышкой врачиха встретила его упреком:
– Алексей Николаевич! Вы же интеллигентный человек, должны понимать! Вы нам весь план портите! Никак не можем вас снять с учета. Сколько гоняемся за вами! Пришлось, уж извините, прибегнуть к крайней мере.
– Виноват, – изумился Алексей Николаевич, чувствуя, что у него все плывет перед глазами. – А как же вчерашний анализ?..
– Анализ? Это ошибка. Недосмотр. У вас все в порядке.
«Ничего себе ошибка! – подумалось Алексею Николаевичу. – В каком-нибудь запредельном царстве-государстве вас бы после этого засудили…»
От улицы Чехова до метро «Аэропорт» он решил пройтись пешком. Алексей Николаевич чувствовал странную пустоту, словно все, что было пережито, произошло не с ним, словно он где-то прочитал повестушку о постороннем человеке.
Пустынны были асфальтовые поля у стадиона «Динамо»: футбольное межсезонье. На аллеях Петровского парка, где перед коронацией останавливались цари и Наполеон спасался от московского пожара, а ныне размещалась Военно-воздушная академия, тоже ни души. Вакации. Но вот Алексей Николаевич начал ощущать странное жужжание. Оно крепло, в нем стали выделяться гортанные, визгливые и хриплые женские голоса.
От аэровокзала навстречу ему катил табор – фараоново племя. Одни женщины. Пестрые лоскутья одежды, блестящие на солнце монисты, смуглые лица и руки, босые ноги, грудные дети, завернутые в тряпье, – не менее полусотни цыганок надвигалось на Алексея Николаевича.
Он почувствовал неладное только тогда, когда оказался в середине бурлящего потока.
Старая морщинистая цыганка схватила его за рукав:
– Две девушки мучают тебя – белая и черная!..
Пораженный этой истиной, Алексей Николаевич остановился: «Воистину так! Это же Зойка и внучка маршала!..»
– Знаю, знаю, что к беленькой больше душа лежит, – продолжала старуха. – Хочешь, ее приворожу? Мне ничего не надо. Ты только возьми пятак и заверни в рубль…
Алексей Николаевич послушно вынул бумажник, откуда выглянула солидная пачка двадцатипятирублевок – на поездку в Крым, и нашарил «ванек».
– А теперь еще в трешницу… – требовала престарелая Земфира.
Он подчинился.
– И в десятку… И в четвертной… Чтобы крепче было…
Алексей Николаевич вытянул одну бумажку из пачки.
Старуха каркнула:
– Положи мне на ладонь и смотри сюда, в зеркальце! Ее увидишь!..
Он вперился в свое отражение, плясавшее в сморщенной руке, но боковым зрением теннисиста заметил, как к его бумажнику протянулась рука другая, столь же хищная, но узкая и юная, и что было сил хватил по ней.
– Ах, чтоб тебя рак съел! – словно ударили ее, завизжала ведьма, которая оказалась уже в окружении двух молоденьких цыганок.
И вот первая молча прошлась рукой от его коленок к ширинке, слегка дернув за бедолагу-воробушка. А вторая вдруг вынула из кофточки белую налитую грудь с земляничным соском и направила на Алексея Николаевича. Двумя тугими струями молоко ударило ему в лицо, ослепив, заставив заслониться, отступить. И тогда, оборачиваясь и отчего-то крестя его, цыганки побежали догонять табор.
Алексей Николаевич долго еще стоял пень пнем, сжимая спасенный бумажник. Наконец, он стер с лица грудное молоко и сказал себе:
– Две девушки мучают тебя – белая и черная… Надо, надо искать третью…
Глава четвертая
ОБЕЗЬЯНА НАХОДИТ КРЫСУ
1
Алексея Николаевича хотели женить все: мама, Хауз-майор, генералы, соседка Ольга Константиновна, старушка лифтерша Софья Петровна и, конечно, Илюша Ульштейн.
Он был лыс, но с курчавой рыжеватой бородой, гнут, худ, однако со спрятанным изрядным комариного свойства животиком. И необыкновенно серьезен. Работал в засекреченном ящике и увлекался изящной словесностью и особенно философскими глубинами.
– Кстати о птицах, – говорил он Алексею Николаеввичу, сидя в кухоньке его кооперативной квартиры.– Кто сказал: «Хотеть значит мочь»? Гете или Котовский?






