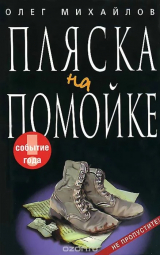
Текст книги "Пляска на помойке"
Автор книги: Олег Михайлов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 11 страниц)
Вдову окружили сослуживцы генерала, какие-то не знакомые ему, приехавшие с Украины родственники, и под траурные залпы автоматчиков Алексей Николаевич побежал к своей машине – в чужую квартирку, помянуть наедине с собой Семена Ивановича.
Он не хотел и не мог видеть людей.
8
В своем падении Алексей Николаевич обвинял всех и вся: реформу Гайдара, сделавшую его нищим, квартирантов-японцев, конечно, Ташу, просто свихнувшуюся от обладания «гринами», и наконец, себя, свою бесхарактерность и слабоволие. Но перелистывая в памяти пережитое, спрашивал: была ли то цепь случайностей или за всем таился скрытый смысл. Сказано же в Писании: ни один волос сам не можешь сделать черным или белым. Или, если вспомнить Слово Христа ученикам:
А у вас все и волосы на голове сочтены.
Алексея Николаевича давно томила мысль, что душа, количество в этом мире души – постоянная величина. И вся Эллада, с ее Гомером, Сократом, Софоклом, Еврипидом, Аристофаном, Праксителем (да разве назовешь всех!), была малолюдней любого района теперешней Москвы, с каким-нибудь затрапезным клубом Красных текстильщиков, переделанным в ночное казино с сауной. Количество всемирной души одинаково, оно не убывает и не прибавляется. И в один прекрасный миг оно втянет назад, в себя, и твою капельку. И вот. Не наступило ли время, когда рождающемуся дается лишь доля души, отчего нынешний мир и населяют полулюди, недолюди, нелюди? И какой веры и чувства греха можно ожидать от них, от нас, если и в нас нет полной души?
Ведь – даже страшно подумать – это апостолам молвил Господь:
Если бы имели веру с зерно горчичное и сказали смоковнице сей: «исторгнись и пересадись в море», то она послушалась бы вас.
Это Евангелие от Луки. А в Евангелии от Матфея мысль усилена:
Если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: «перейди отсюда туда», и она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас…
Рядом с Сыном Божиим апостолы и сам святой Петр – лишь люди, слабые и маловерные («что вы так маловерны», – говорит им Иисус).
И отпустив народ, Он взошел на гору помолиться наедине; и вечером оставался там один.
А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный.
В четвертую стражу ночи пошел к ним Иисус по морю.
И ученики, увидевши Его идущего по морю, встревожились и говорили: это призрак; и от страха вскричали.
Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: ободритесь; это Я, не бойтесь.
Петр сказал Ему в ответ: Господи! если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде.
Он же сказал: иди. И вышед из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу;
Но видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: Господи! спаси меня.
Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорил ему: маловерный! зачем ты усомнился?
…отойди от меня, сатана, – обращается Господь к апостолу Петру, когда тот начинает искушать Его. И всеобщий смысл имеют Его слова: – «Кто отречется от Меня перед людьми, от того и Я отрекусь пред Отцом Моим Небесным».– Но кто, как не Петр – что провидит Иисус – отречется от Него трижды, «аще первый кур не пропоет»? Верно, бесконечно милосердие Божие. И сказано Им:
…ты Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою и врата ада не одолеют ее…
Но сегодня врата ада оказались разверсты так широко, как, верно, никогда еще от времен Крещения Руси. И теперь не Нагорная проповедь, а проповедь адова стала заповедью новых русских: обидеть ребенка, ударить старика, грязно оскорбить женщину…
А как же спасаться нам, малым сим? Ведь это о нас говориться в Новом Завете:
…о, род неверный и развращенный! Доколе буду с вами? доколе буду терпеть вас…
Но каждая маленькая и грешная жизнь – жизнь любого из нас – заслуживает не только сочувствия, снисхождения или отвращения: она еще и несет в себе поучение вроде покаяния, хотя бы того не желали и о том не подозревали герой и автор. И это становиться возможным тогда, когда тихий и тайный ход ее делается явным.
…и то, что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях.
9
И был еще один звонок: радостно гремел непробиваемый, непотопляемый, неунывающий Наварин:
– Не вздумай даже отказываться! Создали грандиозное частное издательство. Отмечаем презентацию. Глядишь, и тебя тиснем! Главный редактор – я. А директор? Угадай, кто…
– Боярышников? – равнодушно осведомился Алексей Николаевич.
– Угадал! Он самый. Значит, ждем завтра к семи. В ресторации «Святая Русь». Приезжай, конечно, без машины…
– Ну, хорошо, – наконец сдался Алексей Николаевич. – Только отвезите меня потом. А то не доберусь до своей дыры.
– Нет проблем! – рычал Наварин. – К твоим услугам будет «Мерседес» и два охранника…
И Алексей Николаевич отправился назавтра в «Святую Русь».
Когда он спускался по эскалатору, то увидел, как навстречу поднимается полная блондинка, в лице которой было что-то до боли знакомое. Но что? Да, это была его первая жена, которая ушла от него двадцать лет назад. Теперь уже ничто не напоминало прежнюю красавицу, лицо которой украшало календарики, витрины магазинов, последние страницы газет и обложки журналов. Теперь она была похожа на собственное надгробие.
«Да, вот оно, что значит – нет породы! – сказал себе Алексей Николаевич. Вместе с молодостью утекло все: женская прелесть, обаяние и загадочность улыбки. А ведь у тех, редких женщин, которые обладают породой и в молодости почасту даже неинтересны внешне, вдруг после сорока проступают благородные черты – кровь их предков. И то сказать: как много симпатичных и даже красивых мужчин и как мало, как мало хорошеньких женщин и как скоротечно их пригожество!..»
«Позолота сотрется, а свиная кожа останется», – вспомнил Алексей Николаевич поговорку сказочника Андерсена.
Он поглядел на нее в последний раз и в ответ встретил равнодушный, скользнувший мимо него взгляд усталых глаз, так когда-то восхищавших его…
А ресторан «Святая Русь» встретил Алексея Николаевича веселым джазовым «джем-сейшен» – свободным соревнованием музыкантов на заданную тему. Играли знаменитый спиричуэлз – духовное песнопение «Когда святые маршируют». Он узнал в радостно перемигивающихся старичках своих сверстников, которых любил слушать в далеких шестидесятых – саксофониста Козлова, трубача Товмасяна, пианиста Бриля.
Двери отворял величественный швейцар, похожий на молчащего Черномырдина, а в тесном проходе в зал, словно разрезая невидимую ленточку, стояли лицом друг к другу Боярышников и Наварин. Директор свежеиспеченного издательства как бы и не изменился – все тот же цепкий, внимательный взгляд, только слегка заматерел, а вот Наварин, несмотря на прежнюю живость, стал похож на безбородого дедушку Мороза: шапка сивых волос, очень густые, но совершенно белые брови, старческий румянец щек.
– Опаздываем, опаздываем! – загудел он и тут же потащил Алексея Николаевича к столику, где за грудой бутылок едва угадывалось наличие официанта. – А ну-ка нам по рюмке «Ржаной»! Подают ее только здесь, в «Святой Руси».
К удивлению Алексея Николаевича, официант был наряжен бесом: прическа в виде торчащих рожек, меховая куртка и порты и даже подобие крысиного хвоста.
– Что за маскарад? – спросил он, чокаясь с Навариным.
– А я тебе не говорил? – растянул в улыбке Наварин свой чувственный лягушачий рот.– Чтобы не отставать от прогресса и демократии, мы решили назвать наше издательство завлекательно: «Антихрист».
И он ловко ущипнул за гузку проходившую мимо официантку-ведьмочку, ответившую ему обольстительным взглядом.
– И вот наше первое издание. «Лука-Мудищев» и прочие срамные поэмы Баркова. Его хотел издать еще Лев Борисович Каменев, когда заведовал «Академией». Но тогда его успел прихлопнуть Сталин…
Наварин вытащил из портфеля тощий томик, на обложке которого красовался в зеленом вицмундире с аннинской шейной лентой гигантский мужской половой орган.
– Мы с паном директором смогли на вырученные деньги съездить на пару недель на Канарские острова, – продолжал, сладостно улыбаясь, Наварин.– С девочками…
– Или на нарах, или на Канарах,– в тон ему отозвался подошедший Боярышников.
– Вам бы теперь издать мелкого беса Чудакова,– предложил Алексей Николаевич.
– А его уже нет на свете,– спокойно отпарировал Наварин. – Мы думали об этом, и я звонил мелкому бесу. После смерти матери Чудаков сдал свою комнатенку каким-то кавказцам. А сам жил на кухне. И вот, подходит некий господин и с сильным чеченским акцентом объясняет, что таких тут нет. Думаю так: напоили, подписал бумагу о продаже им квартиры, а потом отвезли в какое-нибудь Одинцово и там закопали…
– Сейчас у нас на примете «Тропик рака» Генри Миллера, – переходя за банкетный стол, бросил Боярышников. – Первый том трилогии, которую в Штатах запретили за порнографию.
– Да что мы все о делах да делах, – отмахнулся Наварин.– Пошли закусывать…
Алексей Николаевич пил и не хмелел. То, что могло привидеться в белой горячке, происходило наяву. В первом часу ночи он напомнил Наварину о своей просьбе.
– Отвезем, отвезем! – гудел тот, отдавая приказания каким-то бравым молодцам криминального разлива.
И его отвезли на площадь с металлической головой, которая в полубольном сознании Алексея Николаевича тотчас приняла вид картинки с обложки Баркова.
В кромешно темном подъезде он напрасно искал кнопку лифта, а когда доискался, то понял, что машина не работает.
– Треклятый фарштуль, – громко пожаловался он кому-то, прикидывая, что в этом кромешном мраке придется пилить до пятого этажа.
Но пройдя два марша, промахнулся мимо металлической, в насечках ступени и неловко повалился на левую руку. «Это тебе за визит к «Антихристу» – прошелестело у него в голове, и Алексей Николаевич потерял сознание.
10
Он пришел в себя уже на диванчике, разбуженный настойчивыми звонками в дверь, хотя и не мог вспомнить, как же добрался до постылой квартирки. Поддерживая правой левую распухшую руку, побрел открывать и, завидя брата с бутылкой, снова забыл про боль в запястье, усаживаясь с ним на кухне.
А потом, проводив брата и вернувшись на диванчик, Алексей Николаевич долго думал не о чепуховом вчерашнем, а о другом – печальном своем падении, и искал ему начало. И выходило, что случилось это давно.
Нет, ни в суворовском, ни в студенчестве, ни в аспирантуре он не выпивал, не выпивал и потом, когда жил с первой женой в такой бедности, что гостям на всех выставлялась одна бутылочка какого-нибудь венгерского вермута. Банкеты, празднества, застолья – все это было не для него. Но по мере того, как Алексей Николаевич зарабатывал себе имя, его начали вытаскивать в туры, тусовки, клубные поездки – и не только по России, но и в братские страны, по общей социалистической матушке. Здесь было заведено так, что все начиналось, продолжалось и завершалось обязательной повальной попойкой, и лишь стойкие профессионалы, вроде Наварина, выдерживали характер.
А издатели? Подписан ли договор, выдан ли аванс, а тем более гонорар, без крупного пьяного безобразия не обходилось, И то сказать – сидишь с тем же Боярышниковым и чувствуешь, что говорить-то не о чем, только слушаешь его дурацкие прибаутки. А врежешь стакан – и речь потекла, заклубилась, заискрилась, и уже кажется, что и собеседник интересен, забавен, умен. А уж после третьего – и объяснения в дружбе, любви, поцелуи. «Симфония», – как говаривал в одном старом фильме забытый ныне актер Володин.
Конечно, сам Алексей Николаевич, оставшись один, искал оправдания и твердил себе, что стал в хмельную брежневскую эру жертвой общественного темперамента. Однако ведь друтие-то также пили, веселели, пьянели даже больше, чем он, а потом, вернувшись по своим домашним конурам и норам, как бы забывали об этом опыте. Очевидно, природа заложила в нем изначально опасность – уж не от пьяницы ли деда, кончившего белой горячкой?
Фамилия деда соответствовала его темпераменту и наклонностям – Буянов. И друзья, соседи, родные в вяземской глубинке не переставали дразнить его: «Коли не буян, так не пьян»; «Добуянишься до Сибирки». Пить он не бросил, зато паспорт переписал и стал Егоровым.
Деда Алексей Николаевич не знал, но с годами начал чувствовать его в себе. Где-то, еще до знакомства с Ташей, в нем проявились цервые знаки раздвоенности. В обычном общении он был мягок до бесхарактерности, не способен сознательно причинить зло другому и отзывчив на чужое добро. Было у него и неустойчивое волшебное срединное состояние: после бутылки-другой сухого он становился остроумен, чувствовал, как обострилась память и ловко, словно сами собой, клеятся друг к дружке слова. Но когда в застолье переходил определенный ему природой запретный рубеж, в нем просыпался незнакомец, злобный, агрессивный, грубый. И с годами, с учащением этого второго состояния, полюса только раздвигались, не оставляя середины. Два абсолютно непохожих существа поселились в его телесном чехле.
Незнакомец приходил с утратой памяти, оставался в нем на короткое время, но успевал намолотить такого, что, опомнившись и пытаясь реставрировать картину своего полубезумия, он только клялся себе, что такое не повторится, хотя сам в это плохо верил. Разрушила его, верно, свобода, когда в холостяцкую пору завелись хорошие деньги, но не было так необходимого ему бронежилета: никто не останавливал его и не защищал – от выпивох-друзей, а главное, от него самого.
К нему заглядывал кто-нибудь из приятелей, появлялась бутылка, другая; совершенно чуждые ему в обыденности желания, инстинкты, поступки лезли из какого-то проклятого ящика Пандоры. Наутро, от смутного и болезненного ощущения своей вины кровь кипятком заливала голову, и, силясь сообразить, он мучился, кого же вчера мог обидеть. Так, время от времени, когда она не пускала его к себе, пьяного, начал обижать и Ташу, со злым ехидством вспоминая ее прошлое…
Благодарение Господу, что многие его загулы случались вне дома, в неподконтрольных заграничных поездках. Это было в Кёльне, в Праге, в Вашингтоне, в Буэнос-Айресе, Париже и сам уже не помнил, где. Злобный незнакомец теснил и загонял в угол своего робкого соседа по коммуналке.
Первые годы Таша, как могла, сопротивлялась и гасила его болезнь. Но вот как-то, в благословенном Крыму, Алексей Николаевич крепко отметил отъезд партнера по теннису – инженера какого-то московского СМУ. И когда в сопровождении живого классика соцреализма и непременного болельщика их баталий Федора Федоровича Петрова они шествовали по территории, Таша встретила Алексея Николаевича звонкой затрещиной, потом прошлась по физиономии инженера. Наутро он обнаружил, что ни Таши, ни Танечки нет, а на столе лежит его паспорт с вложенными деньгами. Алексей Николаевич поплелся к Петрову.
– Боже милостивый! Ну и темперамент, – говорил Федор Федорович, наливая ему из плоской бутылочки коньяк.– Я был в ужасе! А ну, как и меня оскорбит действием! О чем будут говорить и писать читатели, потомки, мои биографы!..
– Виноват, кругом виноват! – шептал Алексей Николаевич, крутясь на жестком диванчике и прислушиваясь к расходившемуся ветру.– Почему я не мог ей сказать: «Давай начнем все сначала!» И все переделать! Почему?»
Но даже если бы он нашел в себе силы отказаться от рюмки, спасло ли бы это? Нет, все мерно и грозно катилось, независимо от его загулов. Она уже уходила от него, уходила с дочкой – в мир тенниса, в их будущее, в ту новую вожделенную жизнь, куда он уже тогда почти не допускался. Но объясняла все одним доводом:
– Как я ненавидела тебя пьяного. У тебя менялось лицо, словно в фильме ужасов… А наутро? Небритый, нечесаный, ты встречал меня в халате, за пивом… И это в твои-то годы… Вот когда я решила оставить тебя…
11
Таша позванивала теперь не часто, а появлялась и того реже, главным образом для того, чтобы передать Алексею Николаевичу треть от выручаемых денег. До него лишь обрывками испорченного телефона доходили слухи, будто Гоша уже выдворен в свою Ялту, а его место, кажется, занял любитель антиквариата, у которого она познакомилась с красавцем массажистом.
Но однажды Таша совершенно неожиданно нагрянула к нему, вдруг начала наводить в квартире порядок, выбросила бутылки, вымыла плиту, протерла влажной тряпкой полы. А потом, закурив, по обыкновению, сигарету под стаканчик оказавшегося у Алексея Николаевича шампанского, заявила:
– Я от тебя ничего не хочу скрывать. Нашелся новый квартирант, который будет платить больше, чем прежние. Но это моя заслуга. Поэтому ты будешь получать то же, что и раньше…
То же так то же. Какая разница. Ему хватало.
– А как наша дочь? Я ее не видел две недели, – тихо спросил он.
– Вот как раз об этом я и приехала поговорить. Никаких денег на ее теннис уже недостает. Это черная дыра. И я решила. Если до нового года не удастся найти спонсора, ей придется уйти…
– Бросить теннис? – ужаснулся Алексей Николаевич. – А чем же Таня будет заниматься? Ведь ради этого проклятого тенниса она даже оставила школу!
– Вот и сделаем последнюю попытку. Давай напишем обращение. От имени родителей. Ты, как-никак, отец. Попросим богатых людей помочь. А официальное заявление от федерации тенниса уже есть. Там говорится, что Таня очень способная девочка, но денег на ее поддержку федерация выделить не может.
– Богатых людей! – зло выдавил Алексей Николаевич. – От них дождешься! Ведь это не люди! Это… Это… – Он не мог даже подобрать слова.– Пустой номер. И что же потом?
– У Танечки прекрасный английский,– холодно сказала Таша.– Если не найдется спонсор, Таня уедет в Нью-Йорк. В семью знакомых моего друга. Там девочка ее возраста. Они будут учиться в колледже, дружить. Таня обучит ее играть в теннис.
– Нет, давай-ка все-таки напишем обращение к добрым богатеям, – простонал Алексей Николаевич и сел за машинку.
12
Прошло две недели.
Все это время Алексей Николаевич усердно графоманствовал. Как прежде, только для себя бренчал на пианино, которого теперь не было, только для себя сочинял и сочинял стихи. Оставался, правда, еще музыкальный центр, и он мог слушать под выпивку любимое – прелюдии Рахманинова, этюды и ноктюрны Шопена, сонаты Бетховена – особенно если играл Рихтер.
Под Рихтера и вино он целый день графоманствовал, обзывая себя после каждой рюмки «чайником»:
Ах, как весело проснуться поутру!
Я слезу свою сиротскую утру,
На балкончик выйду воздух поглотать,
А вокруг меня такая благодать!
Но не долог день московский в декабре,
Уж не слышен смех ребячий во дворе,
На меня со всех сторон нисходит тьма,
И я, кажется, готов сойти с ума…
Не только работать, но даже газетку почитать уже не было сил, Алексей Николаевич лишь перетирал время, чтобы как-то дотащиться до диванчика, и торопил ночь.
Расслабиться, не думать ни о чем,
Зарыться в тряпки, пахнущие потом.
Звонок по телефону. «Эй вы, кто там?
Ведь телефон повсюду отключен…»
Однако телефон звонил и звонил. Алексей Николаевич страшным усилием, словно штангист, берущий вес, поднял трубку.
– Таня остается в Америке, – металлическим голосом сказала Таша. Таким тоном сообщают, если набрать сто: «Ноль часов одна минута…»
– Остается? Совсем? – не понял Алексей Николаевич.
– Конечно! Что ей делать в этой паршивой России!..
Вместе с телефонной трубкой у Алексея Николаевича опустилось сердце. Кто-то подсказал ему последнюю строчку доморощенных виршей:
Как мать безумная, тебя обнимет смерть!
13
С утра он пил «Вечерний звон», слушал Шуберта и плакал.
Диск назывался «Над облаками»: компания «Австрийские авиалинии» устроила рекламный концерт на высоте десять тысяч метров – сопрано, тенор, флейта, синтезатор. «К музыке», «Степная розочка», «Липа», «Музыкальный момент», «Голубиная почта»…
Он лил мимо стакана «Вечерний звон» – довольно гадкое дешевое красное вино на и без того липкую, в разводах клеенку, плакал и бормотал:
– Шуберт умер на тридцать первом году от сифилиса… И это был ангел… Господь торопился отозвать его… нет, это он рвался назад, вернуться туда – над облака… Как Лермонтов… Этот курносый, кривоногий мальчик, которого не любили женщины… Но все-таки, все-таки… Если и жили на земле домогатели, достойные ангельского чина, то это те, кто творил музыку… Самое чистое, что может создать человек, мирянин…
Нежный женский голос запел: «Форель».
In einem Bächlein helle,
Da schoss in frohen Eil
Die launische Forelle
Vorüber wie ein Pfeil.
Ich stand an dem Gestade
Und sah in süsser Ruh
Des muntem Fischleins Bade
Im klaren Bächlein zu.
Он купил этот компакт-диск на рынке, когда брал в киоске «пайперабсолют» – литровую бутыль шведской перцовой водки, – удивился несказанно, увидев посреди попсы и всяческого репа, рейва и техно замызганный, треснутый по целлулоиду и выцветший милый лик Шуберта. Мальчишка-продавец тотчас с готовностью выдернул из прозрачной упаковки какое-то Варум, заменив на Шуберта, радуясь, что залежалый товар наконец-то продан.
– Варум? – спросил Алексей Николаевич. – А чек?
– Я твой чек… – услышал он позади себя и обернулся.
Сквозь него бессмысленно глядел бритоголовый горилл, очевидно, хозяин этой точки, а, может, и всего рынка…
А женский голос пел и пел – о форели, которую поймала удочка, и о мальчике, которому так жаль было ее, что он заплакал.
– Я ж волю дал слезам… – повторил Алексей Николаевич и плеснул еще «Вечернего звона».
Флейта вела уже «Вечернюю серенаду» – «Песнь моя, лети с мольбою тихо в час ночной…» Но в больной голове Алексея Николаевича складывалась своя, глупая и пьяная «рыба» – на мотив «Форели»:
Стучусь к любимой даме,
Ответила: «Сезам!»
Ласкалась с мужиками,
Я ж волю дал слезам…
К вечеру он выдул на кухоньке три бутылки кислой красной химии, но зато потом обнаружил в шкафчике недопитые грамм двести «абсолюта». Не Бог весть, сколько, надо было экономить. И снова, и снова ставил Шуберта, чувствуя, как раз за разом, с наплывами музыки некая волна подымает и упруго подбрасывает его вверх, под низкий потолок кухоньки.
– Тренировка перед полетом… – пробормотал он, глядя сквозь коробчатую бутыль, как загораются огоньки в окнах напротив.
Около полуночи в дверь требовательно позвонили: раз, другой, пятый. Алексей Николаевич, уже переместившийся на постылый диванчик, прекрасно знал, кто это появился. Босиком, в грязной ночной рубахе, расплескивая драгоценную влагу из стакана, он выскочил в коридор.
Мелкий бес Чудаков женским голосом сказал с площадки:
– Врача вызывали?
Алексей Николаевич с ходу ответил бесу его же стихами:
Заключим с тобой позорный мир,
я продал тебя почти что даром.
И за мной приедет конвоир
пополам с безумным санитаром.
– Он с ума сошел! – воскликнул Чудаков чужим, заемным басом. Потом пошептался с собой и добавил чуть громче: – Не буду же я дверь ломать. И вообще, у нас еще столько вызовов…
– Вот именно! – торжествующе отозвался Алексей Николаевич и прямо в коридорчике дернул полстакана «абсолюта».– Опять привел невесту, гад! Хватит! Хватит!
Возвращаясь и уже не слыша повторяющихся звонков, рассуждал сам с собой:
– Три женщины в жизни мужчины: мать, любовь, смерть. Так с кем же ты хотел сегодня меня повенчать?..
Он приполз на чужой диванчик, под чужими обоями и, неловко возясь спиной о стенку, выборматывал слова молитвы святому мученику Вонифатию, целителю от недута пьянства:
– «О, многострадальный и всехвальный мучениче Вонифатие! Ко твоему заступлению ныне прибегаем, молений нас, поющих тебе, не отвержи, но милостиво услыши нас. Виждь братию и сестры наша, тяжким недугом пиянства одержимыя, виждь того ради от матере своея, Церки Христовой, и вечного спасеня отпадающия…»
«Да, силен нечистый… Даже молитву не дает сотворить. Ох, треклятый соблазн…» – застонал Алексей Николаевич и в темноте нашарил стоящую на полу бутылку. Он отхлебнул и уже со слезой в голосе продолжал:
– «О, святой мучениче Вонифатие, коснися сердцу их данною ти от Бога благодатию, скоро восстави от падений греховных и ко спасительному воздержанию приведи их…»
Бутыль была пуста. Алексей Николаевич потряс ею и закончил:
– «Соблюди нас от лукавого уловления и всех козней вражиих, в страшный час исхода нашего помози прейти непреткновенно воздушные мытарства и молитвами твоими избави вечного осуждения…»
Он перекрестился, неловко лег на левый бок, вспоминая, что в суворовском училище офицер-воспитатель проверял, как, согласно порядку, спят воспитанники: без трусов или кальсон, непременно на правом боку, руки поверх одеяла. Но зимой, когда в спальне порой температура опускалась ниже нуля, сдвигали три койки, и сержант накрывал их спортивными матами. Маты давили на грудь, но было тепло, даже жарко, и Алексей Николаевич провалился в горячую полынью…
Проснулся он внезапно: левая, еще не зажившая рука затекла, а сердце возилось и пищало подмышкой, как полураздавленная мышь. Две огненные струйки поползли под веками внутрь мозга и соединились в светящуюся точку; точка стала расти, пухнуть и превратилась в огромную люстру; огненный шар медленно надувался и наконец лопнул. Осколки разлетелись, жаля и терзая голову. Алексей Николаевич хотел было встать и намочить полотенце, приложить к пылающей голове, но не мог и пошевельнуться. Он ждал, и вот уже мозг обратился в пылающее солнце, которое начало медленно гаснуть.
Алексей Николаевич увидел себя лежащим на спине навзничь, с открытыми глазами, хотя в комнате царил мрак. Он не удивился – летал во сне в последний месяц едва ли не каждую ночь. Он глядел на себя, равнодушно подмечая, как постепенно отвисает нижняя челюсть и тускнеют зрачки, а затем переместился куда-то выше.
– «…Помози прейти непреткновенно воздушные мытарства»… – прошелестело где-то рядом.
Позабыв, как это часто случается в снах, самое дорогое, что он оставил тут, – Таню и Ташу, как если бы их не существовало вообще, он уже не знал их, не жалел, не плакал. Он шел или летел, легко пропуская сквозь тело телеграфные провода, металлическую голову на площади, темные от росы верхушки сосен, курящуюся уже не воспринимаемым им химическим отравным настоем фабричную трубу. Скорее, это были гигантские шаги вверх, сквозь несуществующий, выдуманный его бедным мозгом мир.
И уже издалека родные, о которых он позабыл после их кончины, звали его к себе жалобным и тихим воем.
14
А может быть, может быть, все это было лишь дурным наваждением, страшной сказкой, «сном пьяного турка», причудившимся ему? И Алексею Николаевичу стоит только проснуться, чтобы вновь ощутить себя прежним – веселым, жизнерадостным, общительным, спорым в работе и в любви? Ведь воистину– «вся жизнь есть сон, и жизнь на сон похожа, и наша жизнь вся сном окружена». И сколько просыпаний, возможно, предстоит еще каждому из нас. Ведь от всего на этом свете существует панацея, заключенная в словах:
«И научи меня молиться, надеяться, верить, любить, терпеть и прощать…»






