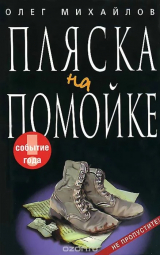
Текст книги "Пляска на помойке"
Автор книги: Олег Михайлов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 11 страниц)
Вода, вода – кругом вода.
Ни капли – для питья…
– Знаешь, когда я решила, что выйду за тебя муж? – внезапно сказала Зойка. – Когда ты в кафе заказывал завтрак. Набрал пять блюд и пилишь на подносе. Я подумала – такой заботливый…
Погода стремительно менялась: на море вспухали пенисто-зеленые бугры, с берега ударил резкий ветер,
– Конечно, ты не фонтан… Но,– продолжала Зойка, неподвижно-загадочно глядя мимо него кукольными, чуть раскосыми глазами, – но я сделаю из тебя человека. Волосы ты покрасишь… Отпустишь усы… Костюм мы тебе сменим на джинсовый – «Суперрайф»…
Алексей Николаевич смотрел на небо. Понизу бежали сердитые дымные тучи, торопливо принимая фигуры мультипликационных зверей и тотчас разваливаясь, а над ними, пронизанное серебряным светом, неподвижно, державно стояло далекое и как бы нездешнее облако.
– Все это хорошо, – наконец сказал он, – но когда же я буду работать?
С ответом Зойка не медлила ни секунды:
– Я все продумала. Пока ты будешь работать, я буду смотреть цветной телевизор!
Зойка казалась простой, почти примитивной, но Алексей Николаевич все время открывал в ней для себя что-то новое. Например, подметил, как она тянется, любит животных, как играет с хозяйской кошкой:
– У, какая хорошая… Помидорина…
Сама хозяйка, посудомойка в соседнем доме отдыха и ровесница Алексея Николаевича, как-то сказала ему:
– Если не хотите потерять девочку – заставьте ee родить…
Но едва он лишь намекнул на это, Зойка своим особенным в минуты раздражения – плоским и вульгарным – голоском прокричала:
– Я еще не нагулялась! До тридцати лет буду ryлять. А потом выйду замуж и рожу…
Через два дня они зашли на почту, и Алексей Николаевич с удивлением увидел, что ее ожидает телеграмма до востребования. Пробежав текст, Зойка сказала:
– Мне нужно в Москву. Завтра.
– Зачем?
– Я выхожу замуж. За Петю.
Утренним московским рейсом они вылетели из Симферополя. Разбирая вещи в своей московской квартире, Алексей Николаевич нашел Зойкин паспорт – новенький, только что полученный ею, и подумал, что, может быть, не все еще потеряно. Но на его звонки подходила мама и отвечала, что Зойки нет, а сама она замолчала.
10
Он уже смирился, стерпел, запрещал себе даже думать о ней, и новые заботы уже завертели, заморочили его. Не самой главной, по приятной новостью был приезд Пшетакевича – для встречи с генералом Серовым.
Гость из Польши сообщил, что остановился в гостинице «Минск», хочет повидаться, посидеть в ресторане. И сразу же позвонила Зойка.
– Я приеду к тебе... Ненадолго... Вн паспортом...
– Хорошо. Только не опаздывай. У меня важная встреча, – едва успел сказать Алексей Николаевич, как раздались короткие гудки.
Она, конечно, появилась на полтора часа позже обещанного и была настолько обворожительна в своем, теперь уже женском плотском расцвете, что Алексей Николаевич чуть не с порога обмял ее и стал целовать.
– Ну вот, – высвобождаясь, впрочем, без видимого неудовольствия, говорила Зойка. – Сразу хочешь меня в постель уложить!..
– Но мне же нужно… Быть в «Минске»… Ждет иностранец… – бормотал Алексей Николаевич, расстегивая на ней платье.
В гостиной заливался женский хор – толстолицые певуньи в кокошниках дружно выводили с экрана:
Уж ты caд, ты мой caд...
– Все красивые пучатся, а все некрасивые поют по телевидению, – сказала Зойка, закрывая глаза и отдаваясь.
Она поехала с ним в «Минск».
Пшетакевич покорно ожидал Алексея Николаевича в холле уже полтора часа. Завидев Зойку, он просиял, вскочил и, подкручивая усики, начал целовать ей руки и сыпать комплиментами на своем забавном ломаном польско-русском сленге. Заказанный на двоих столик был тотчас же заменен на другой, большой и богатый. За новосветским шампанским Алексей Николаевич успел рассказать, что с совместным журналом ничего не получается.
– Там, – поднял он к потолку указательный палец, – мне не доверяют. Даже не выпустили в Индию. На юбилей Льва Толстого…
Помимо прочих грехов Алексею Николаевичу не могли простить того, что с юности своей он переписывался едва ли не со всеми стариками первой литературной эмиграции, один за другим помиравшими в далеком и не доступном ему Париже.
Потом Алексей Николаевич сбегал к автомату – позвонить на дачу в Архангельское Серову – и быстро договорился привезти к нему Пшетакевича, но уже в московскую квартиру, в известный дом на набережной – а когда вернулся, то увидел, что Зойка и Пшетакевич танцуют.
Да, заиграл оркестрик, поднялись из-за столиков пары, и теперь шестидесятилетний шляхтич отлично вел свою партнершу – маленький, ловкий, с торчащими усиками.
– Смотри! Старичок, а как клево отхватывает! – крикнула Алексею Николаевичу Зойка.
Пшетакевич понял, что его похвалили, и не без гордости отозвался:
– Але, пан Алех! После войны я считался лучшим танцором в Варшаве!..
Минут через сорок, когда принесли горячее, Зойка спохватилась, что ей надо быть дома, у мамы, и они побежали с Алексеем Николаевичем к автомату.
В тесной кабинке, весь прижавшись к Зойке, он слышал, как трубка голосом сестры Вали отчитывала ее:
– Кретинка! С ума сошла! Тебя ждет муж! Где ты шляешься?!
– Мне пора, – сказала Зойка.
Она уходила от него широкой, солнечной улицей Горького, вниз к Манежу, и Алексей Николаевич загадал:
«Если хоть раз обернется, это еще не конец…»
Она не обернулась.
11
С уходом Зойки совсем иные люди заполнили его жизнь.
Глава третья
ПРОГУЛКИ С ДОКТОРОМ ЛЮЭСОМ
1
Одним из этих новых людей был Георгий Резников.
Кто он, чем и где занимается, не знал никто.
Сосед и приятель Илюша Ульштейн уверял:
– Что-то, понимаешь, сверхсекретное. Связанное с атомной энергией. Ежу понятно. Позавчера оставил меня в арке Минсредмаша. Просил обождать полчасика. Относил какие-то спецдокументы…
Но Наварин, бабник и матершинник Наварин, объяснял проще:
– Работает кастеляном. В загорской тюрьме. А из той арки можно выйти проходными дворами на соседнюю улицу. Вот и весь Минсредмаш!
А что же на самом деле?
Он неуловим. Всюду и всегда улыбчив, деловит, внимателен. Он все может. Какой-то джинн из бутылки.
Но нет у этого джинна ничего. Ни кооперативной квартиры, ни даже московской прописки. Пиджачок лоснится на локтях, пальтецо на рыбьем меху ветром подбито. Разведен, платит какой-то старухе за комнатенку, где иногда живет – ставит ей каждую неделю чекушку.
Только зубы, золотые зубы, электрически ярко освещающие в улыбке его алый зев, напоминают: не так-то он прост.
Прежде ходил в адъютантах при знаменитом аварском танцоре, а потом незаметно, но плотно приклеился к Алексею Николаевичу. Еще при Зойке. И Зойка сразу же – инстинктом, женским собачьим чутьем – не приняла его. Отчего бы? Не все ли ей равно, кто стал распоряжаться деньгами, временем и даже квартирой человека, который для нее был лишь попутчиком в общем купе, откуда она довольно скоро перебежала к другому – в поезд дальнего следования? Но нет, она с яростью, словно кровная родня, бранила – правда, за глаза – Георгия, его принудительные подношения, которые Алексей Николаевич обязан был оплачивать по самому фантастическому прейскуранту.
– Ты что? Ослеп? Не видишь? Да он тебе поношенный итальянский свитер продал! Втридорога! И зачем тебе пятый свитер?
Алексей Николаевич видел. Но смолчал даже тогда, когда Георгий через Ольгу Константиновну передал ему очередную партию товаров, в том числе полдюжины синтетических иранских носков, заклеенных домашним способом в упаковку с немецкой надписью: «Дамские колготки».
Он давно знал о себе кое-что. Например, понимал, что его так называемая доброта и отзывчивость – лишь оборотная сторона душевной трусости и всепоглощающего эгоизма: так проще, удобнее, хотя бы и во внешний убыток себе.
– Иди к своей Ольге Константиновне и скажи, чтобы она больше у Георгия ничего не брала! – требовала Зойка.
Но старуха через дверь гулко пробасила:
– Я его боюсь…
С уходом Зойки Георгий мало-помалу сделался истинным хозяином квартиры: приезжал из Загорска, поселялся на двое-трое суток в гостиной, а там и врезал свой замок в темную комнату, в которой валялось ненужное барахло, вместе с четой деревянных польских крестьян, подаренных ПАКСом.
– Уж не Синяя ли он Борода? – рассуждала мама, изредка навещавшая Алексея Николаевича.– Может, он прячет в клавдовке убитых жен?..
О женах исповедальный разговор с Георгием случился, когда, еще не ведая о том, Алексей Николаевич уже был закатан в картотеку кожного диспансера.
Как трудно было бы объяснить их отношения! Он испытывал благодарность к Георгию на какую ни на есть, но заботу о своей бестолковой жизни, хотя тот своей хитростью вызывал совсем иные чувства. Конечно, кто не желал бы быть мудрецом! Но Георгий принимал за мудрость хитрость, а хитрость всего лишь ум по отношению к глупым. Алексею Николаевичу хотелось бы закрыть глаза на его уловки, на его мелкие проделки, на уверенность в безнаказанности, которая еще более укреплялась из-за его жалкой неспособности сказать в лицо правду. Однако все это и воспринималось как торжество над лопоухим, рассеянным и беззащитным чудаком. А чудак ночами подсчитывал обманы, чертыхался, исходил потом и знал, что все равно не решится уличить Георгия в обмане.
– Старичок! Учти. Я никогда не лгу, – в тысячный раз объяснял он Алексею Николаевичу и тут же, сверкая золотом коронок, кричал в трубку: – Где же вы гуляете? Я вам полдня звоню из автомата! Все монеты истратил! Вы меня подводите!..
Хотя только что, на глазах Алексея Николаевича, в гостиной, набрал номер.
Эта неосторожность происходила, очевидно, не от небрежности, а скорее от стойкого презрения к другим как к второсортным существам. Как-то Георгий пригласил Алексея Николаевича на торжества в ЦДРИ – день рождения танцора-аварца. В разгар веселья юбиляр, никогда не снимавший высокой папахи, бросил Георгию:
– А ну-ка покажи, как пьют по-аварски!
И Георгий вскочил, опрокинул залпом стопку, а остатком окропил свою начинающую лысеть со лба голову
– Как он может так унижаться? Ведь ему уже под пятьдесят, – говорил Алексей Николаевич Наварину, на что тот спокойно возразил:
– Чепуха! Как он должен презирать этих глупых людей и их дикие обычаи…
Думая о Георгии, Алексей Николаевич порой признавался себе, что ему даже нравится, что у него завелась своя пиявка и что она его сосала.
Впрочем, обманывая и обсчитывая его, Георгий уже относился к собственности своего подопечного, как к своей, ревниво ее оберегал, не разрешал девицам трогать японскую аппаратуру, запретил самому Алексею Николаевичу брать в командировку бритву «Браун» (украдут) и незаметно сделался необходимым.
Устроить матушку Алексея Николаевича для удаления полипов в прямой кишке к светилу – Кериму Бабаевичу в институт Вишневского? Пожалуйста! Обеспечить самому Алексею Николаевичу банкет после защиты кандидатской диссертации в кафе зала Чайковского? Нет ничего легче. Вырвать его брату шесть больных зубов под общим наркозом (что делается в редких случаях, например душевнобольным)? Два пальца обмочить! А вот чернокожий ансамбль Бони Эм в Москву прикатил. Так не желает ли Алексей Николаевич пару билетов в пятый ряд партера зала «Россия»?..
Да и надо сказать, что вместе с корыстью и наживой и вообще неодолимой тягой к махинациям (хотя бы и бессмысленным, в ущерб себе) жила в нем тоска по теплу и уюту.
Вот и сейчас, войдя с московской весенней улицы и разматывая дешевый шарф, он еще в коридоре таинственно сказал:
– Старичок! Сейчас погреемся. Я принес бутылку джина…
«Не Джинн из бутылки, а бутылка из Джинна», – усмехнулся Алексей Николаевич.
Минут через пять, в течение которых Георгий успел повозиться в кладовке (не там ли он держал склад спиртного?), помыться до пояса, вылив на себя, по обыкновению, едва ли не треть флакона шипра, приготовить яичницу с салом, нарезать хлеб и сервировать столик на кухне, они уже выпили по первой. Слегка захмелев, Георгий принялся рассказывать о том, что Алексей Николаевич слышал много раз:
– Старичок! Я не еврей. Я – караим. А это, как говорят у нас в Одессе, две большие разницы…
Дальше шла история о деде-кантонисте, ударом кулака убившем оскорбившего его офицера и за это пожизненно сосланном в Сибирь.
– Я в него пошел, старичок,– говорил Георгий, давясь желтком. – Посмтри, какие у меня бицепсы…
Он закатал рукав несвежей рубахи, открывая, поросшую черным, в колечках, мехом бугристую от мышц руку.
После третьей рюмки Георгий сказал:
– Знаешь, как я разошелся с женой? Возвращаюсь из командировки, а навстречу мне троица. Она, какой-то мужик и овчарка на поводке. Мне все стало ясно, старичок. Я залепил ей по роже, а мужик отпустил поводок и приказал: «Фас!» Но меня, старичок, специально обучали, что надо делать. Смотри! Левую руку просовываешь собаке в пасть, между челюстями. А правой, старичок, начинаешь душить. Минуты через три я бросил ее, полудохлую, хозяину. А сам пошел в квартиру. Куда убежала жена.
Георгий разгорячился и уже не говорил, а вещал. От него крепко пахло ногами.
– Я кулаком вогнал ее в платяной шкаф, старичок. А потом ушел и больше никогда не видел. Пойми! Бабы все одинаковы. Ты думаешь, им нужна литература, музыка, умные разговоры? Только траханье. Кто ее лучше трахнет, тому она и служит. Все эти ваши Ромео и Джульетты – сказки для импотентов. Но я тебе выберу невесту.
Он разливал джин, приговаривая:
– Быть добру! Быть добру!..
У него хихикало и улыбалось все: рот с полной нижней губой, складки мясистого лица, темные густые брови, морщины вокруг глаз; не улыбались только глаза. С напущенными веками и мешочками они были непроницаемы, как кофейные зерна.
– А жена,– внезапно сказал Георгий,– забрала, сучка, моего Яшеньку… Единственного сыночку… И увезла в Ленинград… И остался со мной только Мартын…
– Какой Мартын? – не понял Алексей.
– Дворняга… Живет у меня в Загорске… Ты смотри, косточки не выбрасывай. Я их собираю и складываю в кладовке. Для Мартына…
«Вот тебе и разгадка Синей Бороды, – подумалось Алексею.– Мама, верно, будет разочарована…»
Допивали бутылку, уже не закусывая. Потом на столе появилась вторая.
– Я ведь тридцать лет в органах...– бормотал Георгий.– Мне было девятнадцать… Я прыгал с парашютом… И упал на горящий мост… Хочешь, покажу шрам?..
– Нет-нет! Я верю, – испугался Алексей Николаевич, видя, что Георгий стягивает рубаху.
Спина его, бугрящаяся от мышц, напоминала всего более новый помазок: черная прямая шерсть обшила ее, принимая на мощных покатых плечах вид дымных крыльев. Но наискось, открывая обе лопатки, шла просека, с плетеным узором из толстой, словно бы воловьей кожи, натуральной кожи владельца.
– Я работал в особой школе – ты об этом, смотри, никому не рассказывай, – Георгий уже давился джином, да и Алексей Николаевич чувствовал, что его подташнивает от можжевелового привкуса. – Мы забрасывали румынских евреев с радиопередатчиками…
Он отставил рюмку и снова беззвучно захихикал.
– И знаешь, старичок, из двадцати наших радистов в лучшем случае потом оживал один. Остальные, думаю, тут же выбрасывали свои станции и шли к родным. Зачем погибать? Но вот был случай – обхохочешься. Я сопровождал очередную партию. Над целью выталкивал из люка. Так один вдруг как обхватит мои ноги, как завизжит! И окаменел! Что только я ни делал! Бил его, – Георгий поднял короткопалый волосатый кулак,– а он только визжал, потом мычал, весь обгадился и меня обдристал. Так мы с ним вместе и вернулись на базу, отрывали его от меня три мужика…
Алексей Николаевич помог Георгию дойти до дивана в гостиной.
– А потом служил в Москве, – укладываясь, сам с собой рассуждал тот. – Как-то выдали ватники, старые ушанки, валеные сапоги. И мы пошли кого-то хоронить. На случай беспорядков. Наткнулись на подозрительных. Началась драка. А потом дошло… Это же наши, только из другого управления. В общем – дослужился до майора и ушел на пенсию…
С того вечера Алексей Николаевич именовал Георгия, конечно, за глаза, – Хауз-майор.
2
Нарезая за завтраком резиновый батон, Георгий пытливо глядел на Алексея Николаевича: не наболтал ли чересчур много накануне. Но хозяин был беспечен, думал о своем и охотно принял предложение дернуть по рюмке. Собственно, никакого открытия не произошло: КГБ так КГБ, это даже удобнее. Его гораздо больше беспокоило, что Зойка стала пропадать, забывать о нем. Сама не подозревая, этим она едва не вытолкнула Алексея Николаевича на обочину жизни.
Прождав ее напрасно в очередной раз и кляня свой татарский, от прабабушки, темперамент, он не выдержал и позвонил Чудакову.
– Есть одна особа и берет недорого, – с профессиональной готовностью откликнулся Дер. – Фамилия Хайдарова. Искаженное немецкое Хеддер. Кличка – Седуксен. Мечта – отдаться президенту Никсону. Если, конечно, Никсон еще раз захочет посетить Москву. Общий план. Она лежит в одном халатике. Входит помощник Никсона с подносом, на котором стодолларовая банкнота. Далее ее фантазия иссякает. Но предупреждаю. Седуксен исповедует только любовь по-французски…
Инструкции были усвоены. При появлении Седуксен воспрещалось тотчас же приниматься за дело, уважая сработанный ритуал. Полагалось сперва выслушать пространную исповедь – о двукратной неудаче поступить в медицинский институт, о нечуткости жениха, важной шишки в каком-то издательстве, и вообще о грубости и примитивности мужчин. Затем надо было ответить откровенностью на откровенность и поделиться нежными подробностями последнего романа. Только после этого переходили к процедуре.
Седуксен, маленькая, худая, но с заметными бедрами и бюстом, быстро раздевалась до трусиков и сама раздевала хозяина, словно медсестра, готовящая пациента к операции. На столик рядом с тахтой ставился стакан воды (вино исключалось). Первый сеанс длился недолго и завершался глубоким глотком воды, которой она запивала густое мужское семя. Зато во втором Седуксен демонстрировала высшее искусство секса.
Она медленно доводила партнера до последней черты, до содроганий и конвульсий, действуя губами, зубками, языком, а потом не давала возможности ее преодолеть. Наслаждение становилось мучительным, тихие стоны переходили в бессвязное бормотанье, в крики и всхлипы. Обессиленный и не способный сопротивляться, вырваться от нее, Алексей Николаевич, как под глубоким наркозом, услышал голос мелкого беса – Чудакова.
То, что ты меня берешь
розовым, дрожащим ртом,
не закроет эту брешь,
ждущую меня потом…
Седуксен, с долгими перерывами, навещала его трижды. Позднее, уже вооруженный открывшейся ему правдой, Алексей Николаевич вспоминал, что и зрачки у нее были необычайно тусклыми, и кожа нездорово маслянистой и неприятно пахла, и, трусики она не снимала, возможно, не случайно. Но все это было позднее…
А пока что Алексей Николаевич готовился смыть вместе с Навариным вон из Москвы – на юг, в благословенный Крым, и давал последние инструкции Хауз-майору. Помимо собственной работы он вез гигантскую рупись – роман новой знакомой, генеральши Зеленко, о необыкновенной любви металлургов. В издательстве, где этот роман шел по так называемому «социальному заказу», задание Алексея Николаевича деликатно именовалось внешним редактированием.
В коридоре уже были наготове два чемодана и чехол с теннисными ракетками, а они с Георгием на кухне выпивали за отъезд.
– Быть добру! Быть добру!.. – повторял Хауз-майор,
И добро не заставило себя ждать.
3
В Крыму первую половину дня Алексей Николаевич боролся с текстом генеральши; вторую оставлял для себя – писал роман о великом поэте и гениальном авантюристе Державине.
Из лоджии открывался вид на тихую бухту, красоту которой было бессильно передать слово. Это подтверждала рукопись.
«Бывает так, – скользил глазами по странице Алексей Николаевич. – Бежит человек за трамваем или троллейбусом, а ему кричат: «Куда ты бежишь? Невесту, что ли, потерял?» Не так было с Павлом. Павел бежал и думал о своем дипломном проекте. Так он попал на территорию родного металлургического завода. Незаметно для себя Павел оказался на самом верху колошника…»
Генеральша Елена Марковна, крошечная, худая, рыжая, читала Алексею Николаевичу роман на своей даче в Архангельском. Он сидел на диване, откинувшись к спинке, и после прекрасного обеда с горячительными напитками его неодолимо клонило в сон. Однако брат генеральши, аппаратчик из Госплана, вышедший в коридор покурить, пытливо глядел на него оттуда сквозь дымовую завесу, а генерал Семен Иванович, укрывшись за стаканом крепкого чая, пронзительно следил с другой стороны. Отдаться вожделенной дремоте под этим перекрестным прицелом не было никакой возможности, и Алексей Николаевич, истязая себя, спросил:
– А что такое «колошник»?
– Это, знаете, такая башня. Метров тридцати. С площадкой наверху, – своим резким голосом с еврейско-украинской интонацией отвечала она.
Алексей Николаевич не смолчал:
– Елена Марковна! Да что вы! Даже олимпийский чемпион Абебе Бикила не смог бы взбежать на такую высоту незаметно для себя!..
Но тут вмешался брат, быстро погасивший папиросу:
– Да при чем тут мелочи? Видеть нужно крупно, в целом. Я вот недавно Солженицына читал. Конечно, в специздании и под номером. И что в нем находят? По-моему, наша Коша пишет лучше…
В сущности, они, все трое, были прекрасными людьми, лишь попавшими в громадную революционную бетономешалку, где большинство стало заниматься не своим делом. Только Семен Иванович был настоящим бравым молодцом. В сорок первом сражался под Москвой, на Подольском шоссе:
– Вызвали прямо с лекции. Я в академии Фрунзе учился. Дали артиллерийский полк – и вперед! Так. Но пушки не пробивали их танки. Мы пехоту отсекли, а танки прошли через нас. Так! Тогда я свернул оставшиеся орудия и направился в Москву. За немецкими танками…
Алексей Николаевич медленно перечеркнул страницу, собрал рукопись в папку и, глядя на море, сказал себе:
– Еще успеется. Впереди месяц, а генералы в Москве…
И тут же услышал знакомый, резкий, с акцентом голос Елены Марковны:
– Алексей Николаевич! Ви здесь? Ми вас ищем!..
Он подскочил и высунулся из лоджии: внизу стояли его генералы. С чемоданами.
Когда прямо в лоджии был накрыт по-южному богатый стол, в дверь постучали. Алексей Николаевич, чертыхаясь про себя, извинился и вышел на площадку. Серенькая женщина передала ему квадратик бумаги и попросила расписаться в клеенчатой тетрадке. Алексей Николаевич прочитал прыгающие в глазах строчки: «Гр-ну… надлежит явиться… мая… в 10 часов… кожный диспансер в Феодосии… Явка обязательна…»
После ужина, когда генералы были уже устроены в соседнем пансионате, Наварин, подержав бумагу, сказал:
– Нет, братец, это не мандавошки… Это что-то посерьезнее…
4
Диспансер находился в порту, что было понятно: он обслуживал главным образом матросов, возвращавшихся из загранплавания. Врач, в возрасте, еще крепкий, с бритой головой, пригласил, его сесть и молча подал листок: «Найдите в доме отдыха литератора… и в деликатной форме сообщите ему, что гр-ка Хайдарова А. Ф. помещена на принудительное лечение с диагнозом: открытая форма сифилиса…»
– Но вы знаете… – пролепетал Алексей Николаевич.– У нас с ней это происходило не совсем обычно…
– Не имеет значения. Коитус через рот при открытой форме так же опасен, как и через гениталии, – размеренно ответил врач и, помолчав, добавил: – Да, верно, напрасно я в сорок первом Москву защищал…
– Почему?
– Да вся грязь из нее идет… Ну-с, рассказывайте, с кем у вас были контакты.
Первая мысль: «Боже! Что станет с Зойкой!»
Алексей Николаевич назвал фамилии двух девиц – внучки маршала и Тотоши – но о Зойке умолчал: только если найдут, тогда…
Врач ощупал лимфатические узлы.
– Тут, кажется, в порядке. Раздевайтесь. Лицом ко мне Теперь повернитесь. Нагнитесь. Наружных признаков пока нет. Сейчас возьмем кровь из вены. Результат завтра после обеда. Извольте приехать…
Наутро, ожидая решения своей участи, Алексей Николаевич трудился над романом о любви металлургов.
«Федору вспомнилась дорогая его сердцу кобыла, – читал он, – которую тот встретил под землей, когда работал шахтером. Хотя Сильва, как звали кобылу, и ослепла, она тотчас узнала его…» А в голове вертелось: «Да или нет, да или нет! О, доктор Люэс и эта бледная спирохета! Только вас еще недоставало! Но ведь возмездие законно, справедливо. Сколько можно безнаказанно кувыркаться в помойной яме!»
Несколько раз его навещал генерал, спрашивая, не нужно ли чего, например, чернил или карандашей? А может, бумага кончается? И старался заглянуть в рукопись – как идет работа.
– Все прекрасно! Спасибо! – отвечал Алексей Николаевич, соображая: «Возьму до Феодосии такси. Оставлю у диспансера. Если анализ отрицательный – назад, в дом отдыха. Если положительный – напьюсь в ближайшем ресторане». И перечеркивал, переписывал, выравнивал фразы, склеивал диалоги о любви металлургов.
Он чувствовал, что бессилен понять, что произошло, что может произойти с ним. Ночь провел, конечно, без сна, время от времени трогая под одеялом свой остов, холодный, как тушка битой птицы. Не страдал, не мучился, а именно не понимал. Под утро, в бессонье, ему стало казаться, что какое-то новое существо поселилось в нем. Вошло и с ледяным интересом осматривает это оставленное кем-то помещение, видя все его печальное состояние и последствия бездумного и нерадивого обращения с ним прежнего хозяина.
И сердясь на свое равнодушие к себе и к другим, на отстраненность, которая не покидала его никогда, Алексей Николаевич повторял:
– Меня нет! Меня нет!
У автобусной станции, где можно было найти машину, кружил по каким-то своим делам все тот же хлопотун-генерал. И Алексей Николаевич частыми перебежками четверть часа уходил от него, маскируясь кустами, пока Семен Иванович не удалился с двумя авоськами, полными снеди и выпивки. «Для меня»,– догадался он и схватил-таки такси.
Медсестра с сонными глазами промычала:
– Кажется, отрицательный, – и, лениво перебирая карточки,– жэ, зэ, и, ко, лэ…– нашла наконец диагноз:– Да, отрицательный. Можете идти…
Алексей Николаевич вымахнул, даже не поблагодарив ее.
Он не ведал, что прогулки с доктором Люэсом только начались.
5
Вечерами Алексей Николаевич играл с генералами в дурачка или, за рюмкой, отчитывался о сделанном за день. Иногда забегал Наварин, который, однако, не очень баловал их вниманием. Почти все свое время он, как обычно, уделял прекрасному полу.
Теперь, когда Алексей Николаевич полагал, что опасность миновала, работа пошла резво: до обеда он успевал перемарать два печатных листа о любви металлургов, а перед ужином, после тенниса, выкраивал часок-другой для собственного скромного сочинения.
Он находился в очередном плену, на сей раз литературном, у пожилой дамы, жизнь которой сложилась загадочно и необычно, впрочем, как и любая другая, если присмотреться внимательно. Только надо было увидеть ее без защитных покровов.
Первое впечатление – штамп: знаменитый до войны (в двадцать четыре года) директор металлургического завода, кавалер ордена Ленина, первая в стране женщина – депутат Верховного Совета СССР, героиня войны, открытая и широкая натура. Сила ее воли, в самом деле поражала. Хрупкая, рыжевато-седая, Елена Марковна сильно хромала (последствия тяжелого ранения, повредившего кости таза). Но каждый день спозаранку совершала длинные пробежки вдоль моря под наблюдением боготворившего ее мужа. Много повидала и знала людям цену. При всем том была до крайности романтична и экзальтированна. После чтения дурного романа или просмотра халтурного телефильма восклицала:
– Я никогда так не переживала! Я думала, что не виживу после этого!
О каждом своем знакомом Елена Марковна пылко говорила;
– Это наш самий любимий человек! И ми для него – все!
И вместе с искренностью, даже простодушием, таились в ней игра, расчет и еще что-то, тянущееся из запретного местечкового мира и сиротского, нищего детства.
В начале знакомства, уступая ее настояниям, Алексей Николаевич, уже хорошо подогретый, обещал заняться романом о любви металлургов. Но нужно было согласие главного редактора.
– Позвоните, Елена Мароковна, это же простая формальность…
– Ах, это невозможно! Я так стесняюсь! – И она быстро закрыла лицо, чтобы зорко поглядеть на Алексея Николаевича между пальцев рыжими паучьими глазами в светлых ресницах.
Он случайно узнал позже, что Елена Марковна уже обо всем договорилась.
Широта сочеталась у нее с крайней экономностью – по отношению к домашним, мужу и брату. Здесь она была любимым, но тираном, деспотом, диктатором.
Вот, за столом она жадно схватила бутерброд с черной икрой и ящеричьим движением языка попыталась сдвинуть икру на ближнюю половинку, но это ей не удалось. Тогда она пальцем подгребла икру к краю бутерброда, съела ее, а хлеб быстро передала Семену Ивановичу, который положил на него шпротину и заглотал. Пока она ела, икра тропотали тыле ее морщинистого рта.
Маленькие семейные хитрости!
Подали горячее – молодую свинину. Генерал только нацелился вилкой на жирный кусок, как Елена Марковна вскрикнула:
– Сеня! Ти, что, забил? У нас же есть прекрасная курица с гречневой кашей! Ми же ели ее позавчера!
И генерал покорно стал раскапывать кашу в отдельной тарелке, ища там курицу.
То же самое с братом.
Когда Елена Марковна заметила, что салат (свекла, морковка, чернослив) остался нетронутым, хотя она положила каждому из гостей по ложке, он тотчас был унесен в кухню. Алексей Николаевич вошел туда в тот момент, когда брат Елены Марковны, держа в левой руке папиросу, скорым движением правой отправлял салат, ложка за ложкой, в рот. Заслышав шаги и боясь, что это Елена Марковна, он поспешно заровнял салат и страшно затянулся папиросой.
Но эти семейные картинки не для литературного салона.
Нагрянув в Крым, Елена Марковна жаждала писательских встреч, общения с мастерами слова. И Алексей Николаевич познакомил ее с провинциальным классиком Петровым, которого некогда прославил в очередной реляции. Трогательный верой в собственное величие, Петров стал четвертым в их карточных баталиях.
– Надо постоянно помнить о вечности, – думал вслух он, держа близоруко к глазам карты. – Вот я два десятилетия жил в мазанке на окраине Ростова. Написал там свои главные книги. А когда получил наконец квартиру в центре, окончательно решил – нельзя жить только для себя. Мы служим народу, его исторической памяти. А облисполком дает указание – снести мою мазанку. Темные люди! Ничего святого! Но подъезжает бульдозер. А на мазанке бронзовая доска: «Дом-музей писателя Ф. Ф. Петрова. Охраняется государством». Бульдозер, конечно, ходу назад. А мне это обошлось всего-навсего в две пол-литры.
– Как интересно! – отзывалась Елена Марковна.– Я ничего подобного не знала!..






