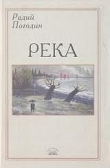Текст книги "Мертвый угол"
Автор книги: Олег Игнатьев
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 19 страниц)
Глава одиннадцатая
Когда Климов вышел от стоматолога, дворника около песочной кучи уже не было. Зато проглядывалось солнце. Еще яркое, но уже по-предзимнему отчетливое, оно ненадолго застревало в голубых прогалах лиловеющего неба и, словно продрогнув от знобящих верховых ветров, спешило спрятаться за первую же тучу или облако.
То ли от прохватывающей сырости, косматившей и без того растрепанные облака, то ли от желания побыть наедине с собой, прохожие поднимали воротники и, перепрыгивая через лужи или просто обходя их по кривой, дышали в теплые шарфы и шмыгали носами.
Выйдя из поликлиники с успокаивающим чувством сделанности давно назревшей операции, Климов подсосал слюну: проверил, не болит ли зуб после лечения, обрадовался, что зубник все сделал профессионально: быстро, точно и без боли, постоял немного на засыпанной песком дорожке и решил, что лучшего момента для того, чтобы пройтись по городу, уже не будет. Никогда он больше в Ключеводск, понятно, не заглянет. Вот и Петр обмолвился: надумал уезжать, жену отправил к тетке в Подмосковье, пусть дочка к новой школе привыкает, а сам пока готовит переезд.
«Уедет Петр и последняя ниточка, которая связывает меня с Ключеводском, оборвется», – поднял воротник плаща Климов и неторопливо двинулся по улице. После своего областного центра с его морским портом, набережной, многолюдных проспектов и шумных торговых рядов, делового и спешащего ритма толпы, Ключеводск поражал редкими прохожими, низкими, похожими на длинные бараки, трехэтажками, за которыми конфузливо лепились к флигелям веранды, к сараюшкам – чердаки и тамбурочки. Тем более в такую муторно-ненастную погоду, когда деревья гнутся под осенним ветром, а влажно-блеклые исхлестанные о кору и ветви листья срываются на землю с непосильной для любого смертного печалью.
В таком городке да при такой погоде только и думать с самим собой наедине о предстоящем дне с его мытарством: кощунственно-обыденной морокой добыванья справок, будущими похоронами и соответствующими настроению раздумьями. О бренности людских надежд, о собственной судьбе, о доме, о жене, о сыновьях… Только эти раздумья и могли быть причиной заволакивающей глаза влаги и неотступной грусти. Как бы там ни было, несмотря на сильный порывистый ветер, Климов чувствовал себя вполне уютно и, может быть, поэтому не заметил, как спустился вниз по лестничке к зданию городского музея, одноэтажному особняку из красного кирпича, в котором некогда жила администрация секретного «соцгородка».
Вытесанные из кирпичей серпы и молоты, а так же звезды на фасаде, потеряли мрачную свою краеугольностъ и теперь казались чем-то вроде ласточкиных гнезд. Ни то, ни се, обляпанное птичьей известью. Перед дверью, заколоченной крест-накрест досками, лежал мосластый пес, угрюмо положивший голову на вытянутые лапы. Увидев Климова, он отчего-то зарычал и начал подниматься. Климов отошел. Когда-то он любил заглядывать в музей: рассматривать казачьи сабли и оружие красноармейцев. Наганы, пики, длиннорылый пулемет.
От музея к дому бабы Фроси, если напрямую, через лес, задворками и пустырем – пятнадцать минут хода, но Климову хотелось побродить по городу еще, как будто бы его тянуло попрощаться с тем давним, что уже не повторится. Никогда.
Поднимаясь дальше по центральной улице, он зашел в укромный книжный магазин, скорее в тесный каменный киоск, нежели в торговый зал, чьи полки не кичились своими размерами, но за стеклянной пазухой которых покоились и покрывались слоем пыли оранжевые, желтые, изумрудно-зеленые фолианты никому уже давно не нужных авторов, классиков соцреализма. Проходя вдоль полок, Климов обнаружил и обоих Дюма – старшего и младшего. Отца меняли на сына, сына на отца, отца на отца и сына на сына. Как ни старался Климов найти разрыв в цепи стойких обменных пристрастий, поиски оказались тщетными. «Королеву Марго» непременно надо было выдать замуж за «Графа Монте-Кристо», а «Даму с камелиями» – за «Учителя фехтования», если заартачатся «Три мушкетера». «Изысканное общество», – скользил взглядом по золоченым корешкам книг Климов, имея в виду и полигамные брачные отношения вездесущих героев французских бестселлеров, и подразумевая под изысканным обществом одну из иерархических ступенек клановой семьи библиоманов. Кто-то, как это ни странно для такого крохотного городка, еще читал, еще нуждался в книгах! Непонятно. Климов даже улыбнулся продавщице с родинкой на подбородке и высокой грудью, вспомнив, как один из его бывших сослуживцев боялся слова «бестселлер», произносимого при «дамах», угрюмо считая его синонимом слова бюстгальтер. Климов пролистнул листки картотеки «требуется – предлагаем» и лишний раз убедился, что все его жалкие потуги распутать незримый клубок читательских интересов, все его поползновения проникнуть в ту заповедную область, где сам сознавал себя профаном, обречены на провал. Закончатся глубоким вздохом, беспомощным засовыванием рук поглубже в карманы плаща и тихой ретировкой в сторону полок современной художественной литературы, где скромно поддерживали друг друга, скользя на узенькой дорожке потребительского вкуса, тоненькие сборнички стихов. «Жалкие, как подкидыши», – думал всякий раз Климов, оглаживая надорванные обложки поэтических брошюр, изданных за счет средств авторов. Он покупал обычно одну-другую не столько из любви к поэзии, сколько из чувства сострадания к безвестным сочинителям.
Постояв возле полки современной литературы, Климов и на этот раз не удержался: купил серенький томик в бросовом бумажном переплете. В первом же стихотворении лирическая героиня неистово желала превратиться… в штурвал самолета, чтобы единственный и милый мог обнимать ее на высоте… В конце строфы сиротело такое душещипательное многоточие, что невольные ассоциации мелодраматического характера должны были привести читателя в душный будуар Одессы-мамы, где элегантный, как рояль, Мишка-Япончик кропил слезами семиструнную гитару: «Держась за Раю, как за поручни трамвая…»
Климов захлопнул томик и, проходя мимо автобусной остановки, оставил его на скамье под навесом: все же книга – жаль бросать в заплеванную урну.
Гунливый мужичонка в коверкотовой немодной кепке с твердым козырьком, уверявший скамью, на которой сидел, что все «фуйня, кроме пчел», оторвался от предмета просвещения, вывихнул подбородок в сторону Климова и попытался свести разбегающиеся зрачки к переносью. Он даже уперся руками в деревянную плаху, но, видимо, вконец обессилевший в неравной борьбе с мучившими его противоречиями жизни и собственными глазами, сунулся носом в болониевую куртюшку с замызганным воротом и неожиданно громко сказал, что «и пчелы – фуйня!»
Климов почему-то сразу подумал о Дерюгине, об «ибн-Феде», который после поломки трактора куда-то запропал и не объявлялся. Такие, обычно, приняв сто грамм «за воротник» не останавливаются потом и на поллитре.
Миновав автобусную остановку и доморощенного просветителя в немодной кепке с твердым козырьком, Климов постоял возле крашеного синей краской милицейского стенда всероссийского розыска: «Пропала девочка…», «Преступник обезврежен…» Объявления вернули его к действительности, оторвали от мыслей, навеянных местным философом, напомнили о тяготах собственной службы, о тех делах, которые на нем «висели». Он читал тексты ориентировок: «Особо опасен при задержании…», «…скрылся после совершенных им злодейств…», «…девочка была одета…» и делалось не по себе, как будто чувствовал одновременно два потока – теплый и холодный: ущербностью человеческой судьбы и горестным несовершенством мира тянуло от объявлений на стенде и еще откуда-то… Откуда?.. – Климов не знал. Но чувствовал: с востока сквозило теплом, а с запада – холодом. Два воздушных потока, точно два поезда, мчались навстречу – и мимо! – своей колеей.
Правая половина лица сразу застыла, и он погрел щеку ладонью: боялся застудить леченый зуб, хоть он и находился слева. Придерживая ладонь у щеки, он так и пошел навстречу холодному ветру, как будто наказывая себя за то, что день прошел бездарно. Медленно спускаясь по разрушенным ступеням одной из многочисленных лесенок города, добрел до «рынка».
Десять лавок, две торговки – вот и весь базар.
Одна говорливая старушка, зажевывая беззубыми деснами слова, предлагала сушеный шиповник, а другая молча поддевала мясной двухзубой вилкой пахнущую погребом капусту: перекладывала ее из эмалированного синего ведра в стеклянные банки.
Климов защипнул было предложенной ему «капустки», но, вспомнив о том, что ему жевать нельзя – врач запретил: зуб требовал покоя, – отошел в сторону.
Когда он навестил места, так или иначе связанные с его памятью, Климов свернул к дому Ефросиньи Александровны. Это был сороковой безымянный проулок, из тех, которые знал, которым был благодарен Климов за свое отрочество и начало юности.
Глава двенадцатая
В комнате Ефросиньи Александровны все было по-прежнему и это означало, что в доме наглядно присутствует смерть. Свечечка в сложенных на груди пальцах, меркло освещающая кончик носа и костисто выступающие скулы дорогого и бескровного лица покойной, медленно тянула свое пламя вверх, точно указывала путь еще одной, отмучавшейся на земле женской душе.
Все так же пахло тленом, сыростью и комнатной геранью.
Людей у гроба почти не было. Женщина с оцепенело– робкими глазами в черном траурном платке кивнула Климову, как старому знакомому, потом поднялась со стула и, проходя мимо старицы, читавшей еле внятно «Псалтирь», что-то шепнула ей на ухо, та еще ниже склонилась над книгой, придерживая одной рукой очки с отломанной дужкой, и, проходя на кухню, тихо позвала Климова:
– Пойдемте, я вас накормлю.
– Спасибо, – отказался было Климов, но она так ласково и просто повела его за плечи в кухню, что он не стал упрямиться. – Я подожду Петра, сказал он ей возле стола, когда она взялась за миску с приготовленной едой. – Так будет лучше.
– Как хотите, – неожиданно потупила она глаза и, как бы про себя, сказала: – Я тогда пойду…
Климову стало неловко за свое бесцельное блуждание по городу, за то, что кто-то о нем думал, ждал его, готовил и разогревал еду, еще и тратил на него личное время.
Сердечно поблагодарив заботливую женщину, Климов проводил ее до калитки и вернулся в дом.
Старица читала «Псалтирь», он сидел на стуле в изголовье гроба, мысленно просил прощения у бабы Фроси за свои давнишние проказы. Ждал Петра.
Пробегая взглядом по цветам, стоявшим возле гроба и лежавшим в изножии тела, Климов отметил, что хризантемы, которые он отдал утром в чьи-то руки, заботливо подрезаны и вставлены в трехлитровуо банку. Рядом с ними – в синей вазе – желтели дубки. Белые на фоне сумрачной стены и черного покрова старицы прихваченные заморозками хризантемы смотрелись горестно-печально, отрешенно– скорбно, совсем не так, как выглядели ярко-желтые, почти лимонные дубки с мясистой зеленью тяжелых листьев. Их древесно-твердые стебли словно подчеркивали красоту живых цветов предзимья.
От двери потянуло сквозняком, кто-то вошел в коридорчик, и Климов поднялся со стула. Шаги были мелкими, легкими, пришаркивающими… как бы извиняющимися. У Петра была совсем другая поступь.
Климов пошел навстречу и увидел того странненького мужичонку, который рассказал ему о незадачливом своем приезде в Ключеводск.
– Иван Максимович? – вспомнил Климов его имя-отчество, и тот ответил: – Я… Пришел проститься.
Оказывается, Иван Максимович жил неподалеку, а Ефросинью Александровну особо почитал за ее кротость и готовность помогать любому, кто нуждался в ее помощи.
Уже после того, как он молчаливо и скорбно коснулся губами запястья покойной, тихо всхлипнул и вышел на улицу, Климов узнал, что лет десять назад, а то и больше, у него внезапно отказали ноги.
– Совсем не мог ходить, – удрученным голосом давно болеющего человека произнес Иван Максимович, и Климов, присмотревшись к его лицу, невольно для себя отметил, что верхняя губа, плотно прижатая к зубам, придавала ему такое выражение, что, казалось, он вот-вот расплачется от невозможности улыбнуться. – Думал, помру. И так бы оно, видимо, и было, когда б не помощь Ефросиньи Александровны. – Иван Максимович вздохнул и благодарно посмотрел на Климова. – Как много она знала! Как много доброго и нужного несла в себе… уму непостижимо! Царство ей Небесное! – он перекрестился и коснулся руки Климова. – Простите, что-то голова… – он показал на свой впалый висок, – немного кружится… и сердце… – внезапная одышка забивала его речь, – боюсь, что не дойду…
Климов понял, что Ивану Максимовичу плохо с сердцем и пообещал проводить его домой.
– Сейчас записку напишу товарищу, чтоб он не волновался.
Иван Максимович кивнул.
– Да, да… Конечно… Я здесь рядом… Терновый переулок, восемнадцать… А товарищ кто?
Климов достал блокнот, вырвал листок и записал для Петра адрес Ивана Максимовича.
– Петр Хорошилов.
– Петр? – обрадовался-удивился Иван Максимович, – это чудесно. Он прекрасный человек. Мы с ним тут все окрестности облазили… – Он помолчал, потом добавил. – После того, как он вернулся из Афганистана, а Ефросинья Александровна поправила мне позвоночник, поставила на ноги. Мой дом он знает, много раз бывал…
Климов оставил для Петра записку, взял Ивана Максимовича под руку, и они двинулись вперед по темной улочке. Ни один фонарь еще не горел, наверное, экономили электроэнергию.
По дороге Иван Максимович рассказал, что живет, вернее, жил, поправил он себя, в «соцгородке» с начала его функционирования. Он так и сказал: «функционирования». Не организации, не образования, не основания, а именно «функционирования». По окончании горного техникума Ивана Максимовича направили работать «на объект».
– Думал, что пошлют куда подале и посеверней, отца забрали, как «врага народа» в пятьдесят втором, – борясь с одышкой, говорил Иван Максимович, – но вышло, как это бывает, не по-моему. Направили сюда… Южнее, чем я думал. – Он помолчал. – Знай я, что здесь будут добывать, то ни за что бы не поехал…
– А разве тогда спрашивали? – поддерживая своего спутника, чтоб он не оступился в темноте, поинтересовался Климов и услышал неожиданный для себя ответ: – Конечно, спрашивали… Обязательно и непременно… Добровольность добровольностью, но и выбирать свой путь не запрещали… Членам партии было сложнее, разумеется… там действовали дисциплина и необходимость… А я что?.. Не комсомолец даже… Единственное, что умел: учиться и работать… – он помедлил и остановился. – За троих… Фу… – он перевел дыханье, – отдохнем, что-то дышать трудно…
После того, как Иван Максимович передохнул и отдышался и они двинулись дальше, Климову стало известно, что рудник закрыли раньше, чем об этом сообщили. Добыча урана прекратилась уже в восемьдесят восьмом году, все, что можно было взять, забрали, вывезли, обогатили… Последние годы… – Иван Максимович на чем-то поскользнулся, чертыхнулся, ухватился за оградку, у которой задержался, – добывали щебень.
– Радиоактивный? – спросил Климов.
– Нет, – Иван Максимович, судя по голосу, повеселел. – Обыкновенный. Для строительных работ. Еще огнеупорный известняк… взрывали горы…
– Петр говорил: искали воду.
– Правильно, искали, – подтвердил Иван Максимович и, отпустив оградку, пошел дальше. – Пытались вывести наружу… Под землей, в горах, действительно, есть минеральные источники… довольно много…
– Ценные?
– Типа «боржоми». Целые озера под землей.
– И что? Не получилось?
– Как сказать… – Иван Максимович закашлялся. – Бурили… Больше половины скважин сразу выдохлись, другая часть заглохла… зарастают трубы конвертином…
– Это как?
– Сужается просвет, все время выпадают соли, окислы металлов… В общем, если сравнивать с людьми, склероз сосудов или легких… – Он печально усмехнулся, – то, что у меня…
Климов сочувственно кивнул, хотя его кивок Иван Максимович навряд ли мог увидеть в темноте, и поинтересовался:
– А питьевую воду находили?
Иван Максимович ответил.
– Да…
– А почему тогда все время перебои? Мне сказали…
Иван Максимович замедлил шаг, опять остановился.
– Дело в том, что Ключеводск, словно на трех китах, держался на трех водоносных жилах. Две жилы минеральные и одна – с обыкновенной питьевой водой. И этой питьевой воды нам худо-бедно, но хватало… Жителей ведь в Ключеводске раз-два и обчелся, тем более, что уезжают…
– Наверное, не более двух тысяч…
– Что вы! Тысячи уже не наберется… Люди все бросают…
– Безработица?
– Конечно. Это пострашней чумы… Люди бегут.
Какое-то время шли молча, каждый погруженный в свои
думы, затем Иван Максимович восстановил нить разговора.
– Ну, так вот. Была у нас вода, пока Улитку не взорвали…
Климов вспомнил эту гигантскую скалу в массиве Ястребиный Коготь, поросшую когда-то сверху рододендронами. Эти цветы он дарил Рае… Теперь, выходит, нету ничего: ни прежней Раечки, голубоглазой девочки из сказки, из его ребячьих сновидений, ни замечательной скалы Улитки, ни цветов на ней, рододендронов, ни воды…
– Если верить накладным, – трудно ступая и борясь с одышкой, говорил Иван Максимович, – то из Ключеводских Гор за эти годы выбрали так много щебня и руды, что на месте «соцгородка» давно должен зиять громадный котлован величиной с Цимлянское водохранилище. – Он по– простецки высморкался на дорогу, шмыгнул носом, задержался, вытащил платок, ткнулся лицом в него, закашлялся и сплюнул. – Все, как в анекдоте… в трудностях весь интерес… – Теперь он сам взял Климова под руку. – Гору рвут – вода уходит, ищут воду – рвут копейку… – говорил Иван Максимович медленно, также медленно, как передвигал ноги, добавляя фразы по одной, как будто напоминая себе о том, что и он дрянь порядочная, раз понимает суть происходящего и ничего не может изменить. Вернее, понимал и не мог изменить, поскольку в последнее время даже воду искать перестали: довольствовались привозной…
– Как, привозной? – не понял Климов. – Раньше был…
– Пока Улитку но взорвали, – опять остановился, но теперь уже у собственной калитки, Иван Максимович. – На руднике мыли руду перед ее отправкой… в Польшу отправляли… да… Продукция секретная… режим военный… Поэтому на руднике имелось несколько бассейнов для воды… на случай. сами понимаете… аварии или… в общем, запас воды, рассчитанный на две недели… Когда Улитка рухнула, а жила с питьевой водой пропала, один бассейн хлорировали и подсоединили к городской водопроводной сети… Поэтому и перебои… Не успевают заполнять бассейн. Пойдемте, – сказал Иван Максимович, – я вам дома покажу на карте… на моей маркшейдерской… рабочей… я ведь под землей… как крот… всю жизнь провел…
– А, может, – попытался было отказаться от визита в гости Климов, но Иван Максимович так деликатно-робко взял его за локоть, что пришлось повиноваться. В конце концов, Петр зайдет за ним, когда вернется.
Дом у Ивана Максимовича был небольшой, но в комнатах зато было просторно. Даже голо. Стол, стулья, платяной шкаф, диван, кушетка… Пол застлан стареньким паласом темно-зеленого цвета. Между кушеткой и столом блестела темной полировкой тумбочка с незакрывающейся дверцей, на тумбочке теснились флаконы с лекарствами и коробочки с таблетками.
– Малый лазарет, – перехватив взгляд Климова, с легкой иронией пояснил Иван Максимович и обыскивающе похлопал себя по карманам: что-то хотел найти, не нашел, вышел в коридор, позвал: – Дочунь! – вернулся в комнату, указал Климову, куда повесить плащ и шляпу, предложил пройти на кухню, помыть руки: – Сейчас нам Юленька поставит чай.
Иван Максимович улыбнулся в сторону двери, и Климов обернулся. В комнату вошла официантка из кафе. Идеальный разрез платья, идеальный разрез глаз.
– Знакомьтесь: это моя младшая…
– Юля, – представилась девушка и улыбнулась. Она тоже узнала Климова.
– А я Юрий Васильевич, по прозвищу «четырнадцать оладий», – подмигнул ей Климов и пояснил свою шутливость Ивану Максимовичу. – Ваша дочь меня сегодня утром покормила… Так что, мы уже знакомы… визуально.
– Сейчас я тоже вас намерена попотчевать, – сказала Юля и, кокетливо поправив на груди яркий халатик, снова улыбнулась. – Надеюсь ужин будет лучше, чем кафешный завтрак.
– Весьма признателен, но это лишнее, – предупредительно ответил Климов. – Дома у меня все есть, в том смысле, что у бабы Фроси… извините, – Климов несколько смутился, – в доме Ефросиньи Александровны…
– Юрий Васильевич – внук Ефросиньи Александровны, – пришел на помощь Климову Иван Максимович. – Он мне помог дойти домой…
– А… – протянула девушка, – тот самый… – она еще раз, но теперь гораздо пристальнее, глянула на Климова, еще доверчивее улыбнулась и сказала, что «Ефросинья Александровна вас часто вспоминала».
– Обижалась, что вы редко пишете.
Климов вздохнул.
– Виноват.
Чтобы не затягивать возникшую внезапно паузу, Юля деликатно удалилась.
– Папа, займи гостя.
Проводив Юлю взглядом, Климов сел на предложенный ему стул и подумал, что детали своей одежды дочь Ивана Максимовича продумывала и подбирала весьма тщательно и с большим вкусом. Она старалась одеваться так, чтобы любой мог уловить мотив парижской моды. Всякий раз, когда Климов видел подобный тип красавиц, ему растревоженно-грустно казалось, что некоторые женщины были бы по-человечески намного счастливее, если бы не их ошеломляющая красота. В девичестве они об этом не подозревают, еще смешно гордятся тем, что всех мужчин, всех скопом! сносит в сторону от превосходства юной красоты над человеческой толпой. Они ликуют, чувствуя дистанцию между собой и всеми остальными, невозмутимо-страстно пронося, как нимб над головой, свет женственности и земного совершенства. Сегодня-завтра это веселит, как воздух зимнего высокогорья, но жизнь идет, и вот приходит час, когда душа взыскует человека, домашности, тепла и материнства, но рядом – пустота. Которая когда-то веселила. И утром, в кафе, и теперь, в доме Ивана Максимовича, Климов отметил про себя, что Юля откровенно хвасталась своею красотой, гордилась, но в ее наивно окороченных улыбках он угадывал душевный плач по счастью и любви.
Сославшись на головокружение, Иван Максимович лег на диван, поправил в головах подушку, положил руку на грудь, закрыл глаза, стараясь сбить одышку медленным глубоким вдохом и таким же сдавленно-протяжным выдохом. Немного полежав, взглянул на Климова и улыбнулся.
– Вот так и горы дышат… Вдох и выдох… Только вдох у них сильнее, глубже, продолжительнее… от нескольких минут до многих суток.
Климов не поверил.
– Это образ?
– Нет… На самом деле.
Иван Максимович поднялся, встал с дивана, подошел к книжному шкафу, выдвинул ящик и, немного покопавшись в нем, вернулся с большой картонной папкой, напоминающей папку чертежника. Раскрыл ее и положил на стол.
– Вот, посмотрите. Это наши горы. Окружающие Ключеводск… Вернее, их разрез… А это, – его палец начал двигаться по линиям на схеме, – штольни и туннели рудника, все его штреки и забои… Внутренности, так сказать… Пустоты.
– И довольно много, – удивился Климов.
– Я же говорю: бурили вкривь и вкось… Особенно вот здесь, под Ключевой… смотрите…
– Да, я вижу. – Климов даже придвинулся к столу, держа перед глазами схему-карту. – Очень интересно…. Надо же!.. А я вот сюда лазил, когда был мальчишкой…
– Правильно, это скала Улитка, а под ней, вот здесь, – Иван Максимович дышал уже пореже, говорил быстрее, – мы столкнулись с очень странным проявлением природы: закупоренной внутри гор чашей воды. Мы называем эти чащи линзами. Не знаю сколько, может быть, тысячелетия она дремала, если можно так сказать, словом, молчала. Этакая спящая царевна, принцесса на горошине. Понятно, в ее жилах-трещинах процессы шли, чисто химические, состав воды менялся постоянно… в известняке вода словно в бутылке… И «запечатана» эта бутылка была здорово, действительно, навеки. Когда в пробитый туннель, по– нашему – горло, ушла значительная часть воды, гора стала «сердиться»: в прорубленных отверстиях возник «воздушный люфт». Взрывчатку просто вырывало у забойщиков из рук, затягивало в никуда. Гора заглатывала все, что удавалось: фляги, каски, фонари, даже отбойный молоток всосала, как пушинку…
– Вот это сила! – поразился Климов. – А людей?..
– Людей? – задумался Иван Максимович… – Свободно! Если трещина или туннель позволит… Лишь бы соответствовали габариты, так сказать… Вполне возможно. – В его тоне просквозило удовлетворение. – Как в сказке про Чудище, которое сидело в пещере и глотало всех, кто проходил мимо.
Климов посмотрел на Ивана Максимовича.
– А как все это объяснить?
– Элементарно: в замкнутом объеме, там где была вода, образовался вакуум… И воздух из туннеля хлынул внутрь…
– Когда бурили?
– Да… через пробуренные дыры-скважины… Гора вдохнула…
Климов еще раз взглянул на карту-схему. Нашел «линзу». Отводной туннель… Спросил:
– И долго длился вдох?
– Четверо суток.
Климов хмыкнул.
– Прямо Змей-Горыныч…
Иван Максимович хотел захлопнуть палку, отнести ее на место, спрятать в ящик, но Климов, еще раз глянув на схему, попросил его продолжить разговор.
– А это что? – он указал на схему рудника. – Вот здесь и здесь?
– Седьмая и восьмая штольни. Самые большие. Когда проводили учения по гражданской обороне, в седьмой расставляли скамейки, бачки с водой, отводили две каморки под отхожие места и нарекали все это бомбоубежищем номер один.
– А что, было и второе?
– Было. Но оно, для конспирации, называлось «запасным бункером». Это вот здесь, – Иван Максимович, почти не глядя, ткнул пальцем в квадратик под схематическим прямоугольником шахтоуправления. – Из этого бункера по аварийному туннелю можно попасть в восьмую штольню, где сейчас… – Он поперхнулся, кашлянул в кулак, отвел глаза и попытался кликнуть: – Юленька, ты скоро?
– Я уже иду, – послышался радушный голос, и Иван Максимович убрал со стола папку.
Юля успела переодеться в белую полупрозрачную блузку и довольно короткую черную юбку.
Климову пришлось невольно отвести глаза.
Идеальный разрез сбоку.
Когда на столе были расставлены приборы, чашки, блюдца и запахло свежеиспеченным пирогом, когда горячий, пахнущий душицей, чабрецом и мятой чай пришелся всем по вкусу, Юля неожиданно спросила:
– Юрий Васильевич, а это правда, что вы сыщик?
Слово «сыщик» не без легкого кокетства было выделено голосом.
Климов улыбнулся, аккуратно опустил чашку на блюдце, поблагодарил за необыкновенный чай, за восхитительный пирог, за теплое радушие хозяйки и ответил:
– Правда.
Если бы не легкий, чисто деревенский стук в окошко, – это пришел Петр; вернулся, прочитал записку, – Климову пришлось бы долго объяснять особенности своей службы, а так ему пришлось еще раз поблагодарить Ивана Максимовича и его дочь за радушный прием, снять с вешалки свой плащ и шляпу, и, переводя глаза с небольшого зеркала, висевшего в прихожей: надо же, сидел в гостях небритый! – на провожавшего его в дверях Ивана Максимовича, поцеловать Юле запястье. Переводя свой взгляд с зеркала на ее руку, он заметил у нее на шее крохотную розовую родинку под светлым завитком волос и отчего-то тайно пожелал, чтоб эта девушка была любимой и желанно-любящей: розовое с белым – символ счастья.