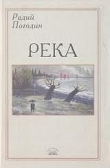Текст книги "Мертвый угол"
Автор книги: Олег Игнатьев
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 19 страниц)
Осень.
Раннее предзимье.
Время холодов, распада, смерти.
Все думают о ней. Начальники и подчиненные, кормильцы и нахлебники, ничтожества и совершенства. Все думают – здоровые, больные. Грустные, веселые. Толстые, худые. Вопрос: как думают? Не страшно умереть, когда ты никому не нужен, и наоборот.
Все можно понять и простить, кроме смерти.
Хотя он и стоял у окна с закрытыми глазами, веки пропускали красный свет: не такой интенсивный, как летом, с зелеными пятнами и синим натеком, не такой животворно– горячий, как на прибрежном каменистом солнцепеке, когда лицо запрокинуто и ты стоишь под полуденным зноем, как виртуоз-скрипач с закрытыми глазами.
Климов не раз замечал, что скрипачи часто играют, смежив веки. Так плотно, что порой ресниц не видно. Словно им хватает внутреннего света.
Он оперся костяшками пальцев о подоконник и грустно усмехнулся: в детстве он мечтал играть на скрипке и пропадал в отделе музыкальных инструментов самого большого магазина. Жаль, что слуха у него не оказалось. Сосед, игравший на виолончели и в очередной раз переживавший «творческие муки», согласился проэкзаменовать Климова. Вынув из кармана черную, забитую перхотью расческу, он продул ее на свет, двумя изящными движениями выдернул застрявшую в ней волосину, вытер пальцы о висевшую на кухне занавеску и постучал расческой по расшатанному табурету.
Климов повторить его ритмическую пьесу не сумел.
Виолончелист поковырял спичкой в ухе, вздохнул – и баба Фрося, тайно подыскавшая экзаменатора, сунула ему трояк.
А скрипка… осталась висеть в магазине.
Если слуха нет, то его нет.
Но опыт, двадцатилетний опыт работы в угрозыске у него был.
Климов выдохнул и резко обернулся: в каморку паспортистки заглядывал Сережа. Санитар. Из отделения для буйных.
– Здравствуй, лапонька.
– Сережка!
Целования, объятия и шепот:
– Дверь закрой…
У Климова надсадно-трудно застучало сердце. Все это ему уже не нравилось. Хотя… чего только на свете не бывает! Но ладонь свою он кулаком все же пристукнул. Как Шрамко.
Глава седьмая
Слакогуз его не узнавал. Не замечал. В упор не видел.
Даже сесть не предложил, лишь мельком глянул, почесал себя за ухом, дескать, выставить тебя из кабинета я всегда успею, но постой, постой, нахал несчастный, попереминайся с ноги на ногу, потри половичок у входа в кабинет, раскинь умишком, кто есть кто, достойно ли врываться в чужой дом и требовать «подать сюда хозяина!», когда тот занят делом? Теперь любой суется контролировать работников милиции, и создаются дополнительные трудности. А спрашивается, для чего? Все обо всем имеет право знать один какой-то человек, от силы два, но уж ни в коем случае не больше. Если один пострадал, а другой может помочь, зачем им третий? Третий всегда лишний. Как в деле нарушения закона, так и в деле охраны порядка существует некая презумпция… Где нет тайны, там нет интереса, нет инициативы, а где нет последней, там замирает жизнь.
Климов протирать половичок не собирался. Но и унижать себя нахальством – занимать свободный стул без приглашения, к чему он не привык: обычай – деспот! – не желал.
Изобразив радушную улыбку, он укоряюще-шутливо развел руки:
– Старина! Не узнавать друзей, погодков-однокашников! Нехорошо…
И двинулся к столу.
Слакогуз откинулся на спинку кресла.
Каждая его морщинка, складка на лице и возле глаз, казалось, намекала всякому на то, что принимать чужих за близких он считает лишним. Тем более пустым и зряшным он считает сам процесс угадывания, когда к нему заходит посторонний. Он не из тех, кто ходит пятками вперед. Жить прошлым – для него – непозволительная роскошь. Он копил силы, волю, справедливый гнев для борьбы с преступностью, профессиональной непригодностью и рукосуйством. Не чувствовать в себе карающий огонь блюстителя общественной морали он просто не имеет права. Умный умного всегда поймет. Но умным сейчас трудно. Места их занимают охламоны и тупицы вроде вот такого «однокашника», затычки во все дырки, неизвестно с какой целью нагрянувшего в Ключеводск.
Хмыкнув, Слакогуз протянул руку;
– Ваши документики, пожалте.
Климов улыбнулся еще шире. Достал паспорт. Продолжал игру:
– Смотри и узнавай, да поживей, а то я тебя выдерну из– за стола…
Он сам почувствовал, что тон шутливой фразы был холодноватым.
Слакогуз пролистнул паспорт, сдвинул его на краешек стола.
Жест отстраняющий, но смысл примирительный.
Поерзал, поскрипел кожзаменителем усадистого кресла, отперхался и равнодушно, с чувством превосходства подал руку. Дал возможность подержаться за свои негнущиеся пальцы.
– Каким ветром?
Его пухлая, влажная ладонь вызвала желание тотчас сухо-насухо вытереть пальцы, и Климов сел, разгладив на колене полу плаща.
«Привык сморкать в чужую руку», – с давней, еще школьной неприязнью подумал он о Слакогузе и, придвигая поближе к столу стул, на котором сидел, стал объяснять причину своего визита.
– В общем, пришел за справкой.
Он отвел глаза от жирного двойного подбородка Слакогуза и присоединил к своему паспорт Ефросиньи Александровны.
– Дело за малым.
Слакогуз помрачнел.
– Это ты так думаешь.
Его мрачность наводила на мысль, что он обидно обделен судьбой.
Климов решил подольстить.
– Насколько понимаю, ты здесь бог и царь. Все остальное – чистая проформа. Твои подпись и печать, что гвозди в крышку гроба. Раз! – и на века.
Он безотчетно тронул узел галстука, внезапно пожалев, что трудно сходится с людьми.
Глаза у Слакогуза потеплели, но все равно он смотрел с недоверием. Так еще пацаны смотрят на генерала, и даже не столько на него, сколько на красные брючные полосы, проверяя себя: не ошиблись ли? У генерала должны быть лампасы. Тогда он настоящий.
Жаль, что Климов не обладал способностью читать чужие мысли по выражению лица.
– Все так, но и не так, – вальяжно почесал себя за ухом Слакогуз. – Закон. Инструкция. Порядок.
Он снял с руки часы, вгляделся в циферблат, удостоверился, что из хромированных они от разговора с Климовым отнюдь не стали золотыми, послушал, как идут, встряхнул, опять послушал, приподнял их за зажим браслета, стал раскачивать на уровне труди, всем своим видом искренне показывал, что ему совсем не хочется быть бюрократом, демагогом и занудой.
– Я тоже, знаешь ли, стараюсь быть внимательным и милосердно-чутким, но и ты пойми: не вправе я причину смерти устанавливать. Закон. Такое дело. Езжай в район.
Его неспешно-важная размеренная речь словно помогала часам раскачиваться на браслете. Их метрономно-металлический стук и блики электрического света, вспыхивающие на круглом корпусе и на браслете, как бы поддразнивали Климова: «Ну, что ты мне на это возразишь?»
– А что в районе?
– Судмедэкспертиза.
Климов хмыкнул.
– Это значит… труп нужно везти?
Маслянистые глаза смотрели на него бесстрастно.
– Как захочешь. Можно судмедэксперта сюда… Деньгами помани.
Слакогуз надел часы, щелкнул зажимом, покрутил браслет, снова послушал механизм, остался чем-то недоволен, полез в стол.
– А сколько это будет стоить? – спросил Климов.
– Что?
– Вызов судмедэксперта.
– Понятия не знаю, – косноязыко буркнул Слакогуз, нашарив в ящике стола запасной стержень к шариковой ручке. Он попробовал его расписать, но только поцарапал и порвал бумагу. Паста ссохлась, и стержень годился лишь на выброс, что он и сделал с превеликим удовольствием, швырнув его в корзину.
– Освобождаться надо от старья, освобождаться!
Он словно намекал на что-то, но понять его Климов не мог. Педант и тугодум, он не приучен был «давать на лапу». А Слакогуз сложил в стопку кипу бумаг: оперативных сводок, телефонограмм и протоколов, зажал в руке в приподнял их над столом. Свободный незажатый край округло разошелся, как трехрядка, если открепить застежку на боку, и зачем-то вслух пересчитал количество листов. Их было больше, чем достаточно.
– Пятьдесят штук.
Бумаги тяготили руку, и Слакогуз отправил их на время – с глаз долой! – в утробу сейфа.
Климов поднялся, взял паспорта: свой в новых корочках из твердой буйволиной кожи, подарили сыновья на день рождения, и бабы Фроси, старенький, затерханный, с надорванным углом.
Постукал паспортами по ладони.
Слакогуз возился с дверцей сейфа. Петли были разболтаны, замок не закрывался.
– Твою мать! – у Слакогуза ничего не получалось. – Весь день, зараза, наперекосяк. Думал, после дежурства отосплюсь, так принесла нелегкая, – Климов напрягся, – этого ханурика, босого на коньках, – Климов кивнул, – а я один… – ключ проворачивался в скважине, но не закрывал, – водитель был, на той неделе загремел в больницу, отвезли в район, аппендицит, сказали, гнойный, может, и не выживет, вот так, – дверца закрылась, Слакогуз вытер рукой вспотевший подбородок, двинулся в обход стола. – Еще сержант был, парень-хват, гроза местной шпаны, на днях подрезали, похоронили… Дел хватает. Заходи…
«Когда умрешь», – проговорил за него концовку фразы Климов, но вслух сказал другое:
– Дай я позвоню сейчас в судмедэкспертизу.
– Не положено.
– Тогда ты позвони.
Уловив замешательство Слакогуза, снял телефонную трубку, протянул.
– Не будь занудой…
– Ладно, – отмахнулся Слакогуз, – звони…
В дверь постучали.
Климов обернулся.
Заглядывала паспортистка. Язык прижат к верхней губе, глаза прищурены, вид плутоватый. Столкнулась взглядом, обдала презрением, кокетливо сведя коленки, зашептала Слакогузу:
– Я сейчас… Ага… Целую в носик…
Слакогуз начальственно похлопал ее чуть ниже спины.
– Только недолго.
Выскользнула, выпорхнула, отвязалась.
Климов облегченно выдохнул, узнал у Слакогуза код и номер телефона судмедэкспертизы, позвонил. Ответил женский голос. Санитарка сообщила, что врач занят, был еще один, уволился, и этот собирается…
– А где он?
– Режет.
– Передайте ему, чтоб не уходил. Ему будут звонить из Ключеводска…
– .. Клю-че-вод-с-ка! – по слогам прокричал Климов в трубку глуховатой санитарке. – Из милиции!.. Или, – он посмотрел на Слакогуза, но тот, поглаживая жирные бока, глазел в окно, – пусть позвонит… пусть позвонит! сюда! в милицию! да! в Ключеводск! Я жду!
Опустил трубку.
– Занят врач.
– Бывает.
Слакогуз зевнул.
Не повернулся.
Разговаривать он явно не хотел.
Ничего не оставалось делать, как рассматривать на стенах трещины, поглядывать на телефон, как будто это помогало ожиданию, засовывать руки в карманы и опять их вынимать, топтаться-перетаптываться около стола, тянуть резину паузы, которая возникла.
И Слакогуз, и Климов словно очутились в узком промежутке, не знали, как из него выбраться. Каждый занят был своими мыслями.
«Петр меня уже, конечно, вспомнил добрым словом: хуже нету ждать и догонять». – Климов исподволь поглядывал на толстую фигуру Слакогуза. Единственный закормленный ребенок. Хочу это, хочу то! В доме, где жил Климов, был один такой малыш, крепыш-толстунчик. Сладкоежка. Копия, только уменьшенная, Слакогуза. Если ему покупали две бутылки лимонада, он требовал еще третью и готов был откупорить их все сразу. Глотнув из одной, он требовал, кусался, злился, бился навзничь головой, наскакивал, лягался, рвался вон из рук и снова требовал открыть еще бутылку: вылью все! Когда со стеклянной посудины, под легкий шип, так правившийся малышу, слетала острозубчатая пробка, он прижимал бутылку к животу, качал ее, как куклу, обливая лимонадом новую рубашку, слизывал с руки пузырчатую воду и, обсасывая сладко-липнущий манжет намокнувшего рукава, капризно сплевывал в бутылку вязкую слюну: «Противный лимонад… Купите «пепси»!..» «Но ты же требовал?» – с восторгом ужасалась мать изысканному вкусу ненаглядного сынули, исторгая трепет раболепия и обцеловывая малыша, отбросившего прочь бутылку.
Соседский малыш не зря вспомнился Климову. Слакогуз казался безнадежным рохлей из-за своей обвальной тучности. Разменявший четвертый десяток лет, он внутренне был тем же самым, каким Климов помнил его в школе: «Жиромясокомбинатпромсосискалимонад». Возможно, эту детскую дразнилку Слакогуз не мог забыть и по сей день. Может быть, корил сейчас себя за мягкотелость, за то, что разрешил давнишнему обидчику звонить по телефону, хотя, подумал Климов, контрольные по химии и сочинения он списывал не у кого-нибудь, а у меня. Рядом с ним еще за партой Раечка сидела… Немоляева… хорошенькая, словно ангел… Синие глаза, белые бантики… точеная фигурка женщины-подростка… Климов от нее был без ума! Все подвиги его тех лет негласно посвящались ей: кулачные бои, карабканья по скалам, покорения вершин, хожденье на руках по бревнышку через ручей, и даже по канату, не говоря уже про долгие блуждания под ее окнами в ночи…
Словно угадав мотив его воспоминаний, Слакогуз поправил кобуру на животе, раззявил рот: зевнул.
– Райку не видел?
Вопрос был в самом деле неожиданным, не в бровь, а в глаз.
Климов смутился.
– Математичку?
(«Райкой» они прозвали учительницу по математике, поскольку так ее выкрикивал по имени, звал-вызывал из класса муж-алкаш, бывший учитель физкультуры.)
– Не-а, – снова разодрал зевотой рот и повернулся Слакогуз. – Другую. Немоляиху. Она сейчас на выселках живет.
– Нет, не встречал, – ответил Климов. – Я ведь только утром заявился. Сразу же сюда…
– Лахудра, каких свет не видел.
Слакогуз оценивающе взглянул на Климова. Следил, ударил ли по нервам или нет? В глазах его, как в супе, плавали жиринки.
– Пьет? – чтоб н е прервался разговор, нарочно равнодушно спросил Климов, и Слакогуз, присев на подоконник, подтвердил:
– Как сучка пьет. И хлопцев портит с самой школы. Лечили мы ее, хотели посадить, а бабы ее били… смертным боем. Грозили дрын заборный ей забить куда поглубже – ни фига! Опять, паскуда, за свое. Мать схоронила, закопала, во дворе бурьян выше трубы. Садит один картофель и не копает. Зимой снег разгребет, ломом из земли наковыряет – на поесть, и все дела. И ребятни набабила, наверное, штук пятнадцать, и все – мертвые!
Слакогуз перед собой чиркнул по воздуху ладонью, словно подвел черту.
– Вчистую скурвилась. Но ей и это – тьфу! Вылупится ребятенок, она его немого-синего в помойную цибарку – шмяк! – ведь дома всех рожает, не в больнице, – и на огород. Станет враскорячку, ямку выгребет руками или тяпкой, и туда его! и с тем! И снова подол в зубы… Собаки воют, а ей, падле, хоть бы что. Хочешь, проведай.
Раньше Слакогуз себе такое не позволил бы, знал, что удар у Юрки Климова освоен не пацанячий, а мужской. Сейчас же знал, что Климов от него зависит, пусть не полностью, но все же, вот и намекнул с издевочкой на давнюю его любовь к этой… да, ладно! Главное, смолчать, не дать понять, что ты и вправду уязвлен, не столько предложением проведать, сколько позорной жизнью той, чье имя было музыкой, восторгом наваждением… Еще одна зачеркнутая временем судьба! Перелицовка красоты в уродство.
– Да, ну, – придвинул телефон к себе поближе Климов, – некогда мне заходить, спилась и Бог с ней, у меня своих забот по горло… Может, все-таки оформишь справку?
– Не могу.
– Не хочешь, – подольстился снова Климов.
– Не канючь.
Слакогуз отвел за локоть Климова в сторонку, умостился в кресле, в своем кресле, за своим большим столом, в своем служебном кабинете, и у ног его потрескивал большой, как чемодан для заграничных вояжей, немецкий электрический камин.
Туфли он расшнуровал.
Наверное, уже ноги отекали.
С трудом, но все же подавил зевоту. Передернулся лицом, всем телом. Потянулся к шариковой ручке, вспомнил, что нет стержня, клекотно ругнулся, полез в стол…
Когда зазвонил телефон, Климов первым поднял трубку. Голос был мужской, с приятной хрипотцой:
– Здравствуй, Миша.
Климов отдал трубку Слакогузу.
– Кто это?
– Не знаю.
Слакогуз налег локтями на свой стол.
– Я слушаю… Да, здравствуй… Ерунда… Да так, один… Пустяк… Ему ни до чего… бабку хоронит… да… как говорили… Приехали… Достали… Разместили… Сделаю… Как скажешь… Выезжаю.
Он осторожно опустил трубку и поднялся. Лоб побледнел, а губы посерели. В глаза старался не смотреть.
– Прости, не до тебя. И указал на дверь.
– Сам понимаешь, служба. Некогда мне путаться в твоих соплях. Бывай!
Короче и обиднее не скажешь.
– Как тебя найти?
– Звони сюда.
Климова, словно щенка, вышвыривали вон.
– Ладно, до встречи.
Он все же запомнил код и номер судмедэкспертизы.
Глава восьмая
«Верно Петр сказал, с ним говорить, что в гнилой требухе ковыряться», – покидая кабинет, с ожесточением подумал Климов и выругался в адрес Слакогуза.
– Краб лупоглазый.
Он даже не заметил, что выругался вслух.
Шедший впереди него квадратный здоровяк повернул голову.
– Ч-иии-в-ооо?
Угрюмый подбородок двинулся вперед. Глаза с мутнинкой, чуть раскосые. Амбал, но не Сережа. Не санитар из психбольницы. Но, видимо, один из тех, кто ехал в «рафике»… или сидел утром в кафе, спиной к нему…
– Ты это… мне-е-е?
Амбал с наигранной печалью в голосе ткнул себя пальцем в грудь и начал отводить плечо для локтевого выпада.
У Климова и так внутри все клокотало, а тут еще нарочно задевают… Он не выдержал.
– Гуляй, – и сделал шаг в обход, – не до тебя.
Удар, задуманный здоровяком, прошел впустую. В том смысле, что за локтем двинулись плечо, лопатки, пятки – и амбал исчез. Под грудой досок, балок и побитой черепицы.
Задавленно вскрикнул петух, и две хохлатки вырвались на волю.
Хлипкий был курятник, что и говорить.
Взметнувшиеся пыль и перья оградили Климова от любопытных.
Отряхиваясь на ходу, он быстро завернул за почту, перемахнул через забор, отбился от собак, метнувшихся за ним, спокойным шагом пересек товарный двор кафе, зашел в аптеку, купил две упаковки аналгина, пару таблеток сразу разжевал, зуб все же беспокоил, с трудом, но проглотил горькую массу, вышел вслед за стариком в зеленой шляпе, глянул в сторону кафе – парней и «Мерседеса» уже не было, только швейцар никак не мог принять на грудь футбольный мяч.
«Приехали… Достали… Разместили», – вспомнились отрывистые фразы Слакогуза, и Климов сплюнул. Все-таки таблетки были горькие.
Постучав в стекло, он разбудил уснувшего Петра, обрисовал ему всю ситуацию со справкой, тот озабоченно поскреб залысину, сказал, что надо поспешать: еще день-два и тело завоняет и, вообще, не по-людски, а Слакогуз известный гад, крючок и зуботыка, надо будет с ним не так поговорить, и в экспертизу нужно дозвониться, непременно…
– Ты, вот что, – выслушав его, предложил Климов, – езжай домой, поешь, а я тут попытаюсь дозвониться…
– Не пойдет, – ответил Петр. – Крутиться, так уж вместе.
Климов глянул на приборную доску.
– Бензина хватит?
Петр кивнул.
– Еще с собой канистра.
– Хорошо.
Жанна Георгиевна разрешила позвонить, за что он выразил ей благодарность от себя лично.
– Не за что.
– Спасибо.
Набирал номер телефона, Климов пожалел, что нет с собой его служебного удостоверения. Так всегда бывает. В чем нуждаешься, того и нет.
После набора первых трех цифр шли прерывистые гудки зуммера, и так всякий раз, сколько бы Климов не набирал…
Жанна Георгиевна прошлась по кабинету, расправила на вешалке свое пальто, сняла, продула и встряхнула норковую шапку, опустила на рогульку вешалки, приподнялась на носочки, осмотрела себя в зеркало (Климову стало неловко за свою щетину, вечером надо побриться), вернулась к вешалке, сняла и умостила белесо-дымчатую шапку на журнальный столик, полюбовалась чудным мехом. Климов глянул на часы, время обеда, он задерживал Жанну Георгиевну, ему на это намекали, но что он мог поделать, если номер не соединялся, и вообще, все шло не так, как он предполагал.
– Извините. Сбрасывает постоянно.
– Мы уже привыкли.
Подойдя к рабочему столу, она задумалась, присела. Слева на столе – конторские гросбухи, справа – баночка из-под московских леденцов для скрепок, кнопок, канцелярской мелочи. Все ящики закрыты. Все в порядке.
Вспомнив, что ее сумочка осталась в платяном шкафу, выбралась из-за стола, сходила за ней, по пути включила самовар, стоявший на журнальном столике в соседстве с двумя чашками на блюдцах, нашла в одном из отделений сумочки ключи, открыла сейф, поковырялась в ворохе бумаг, замкнула дверцу.
Сейф стоял чуть левее и сзади стола, и Жанне Георгиевне приходилось всякий раз поворачиваться к нему, когда она сидела, и это было неудобно. «Наверное, так юбка быстро протирается», – подумал Климов и решил, что в сейф хозяйка кабинета лазит не часто. Это перед ним она разыгрывала чрезвычайную занятость.
Когда после очередного прокрута диска в трубке щелкнуло и раздался мужской голос: «Экспертиза», Климов невольно переспросил: «Это район?»
– Район, район, что надо?
Климов уяснил, что говорит с судмедэкспертом, который уже звонил в милицию, но никто ему не ответил, извинился, попросил понять его правильно, рассказал о неувязочке со справкой, попросил помочь.
На другом конце провода возникла пауза, довольно продолжительная, нудная, тягучая, лишь изредка потрескивало в трубке и раздавался шорох. С ответом явно тянули. Потом все тот же мужской голос бодро произнес:
– Але! Нормально слышите?
– Улавливаю смысл.
– Так вот: ей сколько лет вы говорите?
– Девяносто два.
– Понятно. Объясняю. После семидесяти не вскрываем.
Климов этого не знал.
– Что? Положение такое?
– Да! Есть указивка.
Голос бодрый, четкий, жизнерадостный.
– А как же, – Климов что-то недопонимал, – обходятся в тех случаях, когда…
– На основании диагноза из поликлиники.
– Выходит…
– Да. После семидесяти не вскрываем.
– Я говорю…
– А я вам повторяю: причина смерти устанавливается поликлиникой.
Климов взорвался:
– Это бред какой-то! Два рубля одной бумажкой! Я вам говорю: она не обращалась в поликлинику…
По-видимому, его поняли.
– Не горячитесь. Я согласен сделать вскрытие…
– Кому платить? – вспомнив подсказку Слакогуза, спросил Климов, и услышал:
– Никому. Нам это запрещают. Мы бюджетники.
– А как тогда?
– Обыкновенно. У нее какая-нибудь собственность была?
Климов задумался. Считать три стула, кухонную утварь и продавленный диван как собственность, смешно. Возможно, были сбережения, но банки прогорели, государственный, по крайней мере, инфляция сожрала сберегательные вклады, в который раз ограбленный народ остался в дураках…
– Я спрашиваю: собственность была? Вы меня слышите?
– Не знаю…
– Дача, дом, машина…
Климов начал понимать в чем суть. Обрадовался. Крикнул:
– Домик! У нее был домик. Она в нем…
– Вот и отлично. Оцените его срочно…
– Так.
– …затем обращайтесь в милицию.
– Обратился.
Климов вспомнил сухонького мужичонку, выброшенного из «рафика», его сиротский вид на фоне слакогузского раскормленного тела, вздорно-мстительную паспортистку, санитара, парня, проломившего курятник и… сглотнул слюну.
– А из милиции нам присылают следственное направление.
– Почему следственное? – Климов сам их написал не меньше сотни. – Дело что ли будут возбуждать?
– Конечно! – подтвердил догадливость обрадованный голос. – А вдруг вы бабушку… того? Решили, так сказать, ускорить ее смерть. Хотите завладеть ее имуществом…
– Понятно.
– Вот и хорошо. Еще вопросы есть?
Вопросы были, но уже не к судмедэксперту.
Климов знал, что он скучен в своем неистребимом желании все разложить по полочкам, все упорядочить, все объяснить, обмозговать – дойти до сути. Порядок в голове – порядок на столе. Порядок в деле. Серятина. Сейчас за это никто копейки дореформенной не даст. Все любят исключения. Все поняли, что исключения важнее правил. Всем подавай рабочий беспорядок гения. А может быть, и беспредел того же гения. Эмоции и привязанности современников оказывались куда изменчивее, нежели считали древние философы, наивно полагавшие, что человек не изменяется с веками. Нет, человек менялся, и даже изменял мир, в котором пребывал, а консервативен и косен был лишь в том, что был постоянен в изменах. В одних изменах постоянен.
Климов сумрачно потер виски.
– Что-то не так? – поинтересовалась хозяйка кабинета, сидевшая все это время за столом и слушавшая телефонный разговор.
– Все так, – задумчиво потер щетину подбородка Климов и поблагодарил Жанну Георгиевну за возможность телефонной связи.
– Счет придет на милицию. Я пользовался их служебным кодом.
Зашумевший самовар с отражающимися на его боках окном и люстрой заставил Жанну Георгиевну взглянуть на часы, подосадовать, что сверить их с сигналами по радио она, конечно же, опять забыла, намек на то, что Климов все– таки нарушил ее планы, и, как ей это было не с руки, пришлось вставать из-за стола.
Климов попытался ей помочь, но она сделала пальчиком: не надо. Выбралась из-за стола, погромче выкрутила репродуктор, дождалась, когда диктор сообщила слушателям точное время, Климов сам невольно глянул на часы: уже полдня, а ничего еще не сделал, подвела стрелки часов и завела механизм. И завести, оказывается, забыла. Затем прошлась по ковру, открыла самовар – вода в нем булькала, выдернула штепсель из розетки, накрыла крышкой выкипающую воду, повернулась.
– Может быть, чаю попьете?
Климов приложил ладонь к груди.
– Благодарю. Спешу.
– А что со справкой?
Он ждал этого вопроса. Женщина остается женщиной. Интригу чувствует интуитивно.
Пришлось рассказать.
Жанна Георгиевна ему не позавидовала.
Он сам не мог этого сделать при всем своем желании.
Телефон Слакогуза молчал. Понятно: человек при исполнении. Един в трех лицах. Сам себе начальник, заместитель и личный водитель.
Климов положил трубку, раскланялся и вышел.
На лестничной площадке задержался. А что, если ему подгадил Слакогуз? Когда Климов ушел, связался с экспертизой, намекнул, что держит под контролем все, что связано со смертью старушки Волынской Е.А., чтоб без него ни шагу, ни полшага, ни-ни-ни?.. А может быть, у самого рыльце в пушку? Решил прибрать чужую собственность к рукам? Запутать, сбить ориентиры, подтасовать, изъять, переписать… Мысль о том, что баба Фрося могла оставить завещание, показалась ему дельной… И что там, в этом завещании? Кто заверял его? Не сам ли Слакогуз?
Мысли подталкивали к действию, и Климов начал медленно сходить по лестнице.
Еще мальчишкой, Слакогуз стремился к лидерству, во всем хотел главенствовать, но у него не получалось. Он часто повторял, должно быть, отцовскую присказку: «Лучше быть первым в деревне, чем последним в городе». Дескать, первый он и в Африке первый. У первого всегда есть выбор, а у последнего выбора нет. А что такое жизнь, если задуматься? Сплошное: или-или. Или эдак, или так. Все время, каждый час и каждое мгновенье нужно делать выбор. Между этим и вон тем. Понятно, что былое стремление к могуществу со временем, особенно теперь, в период хорошо продуманных реформ, целенаправленно и методично изменявших политический строй государства, переродилось в страх, и Слакогуз банально опасался за свое благополучие. Наверное, многим он казался человеком занятым уже из-за того, что умел смотреть в упор, по-рыбьи не моргая. За нарочитой занятостью и хлебосольством, судя по наеденному брюху, он любил застолья, на фоне крохотного городка, почти что деревушки, он тщательно скрывал свое желание уйти в себя, в свой сон, где он главарь, хозяин и начальник, где жизнь его исполнена особого значения, таинства и власти. Климов на себе проверил, что оставаясь с людьми один на один, Слакогуз чурался и откровенно тяготился их присутствием. И паспортистку отпустил легко, и Климова вон выставил, почти демонстративно… А выставив, наверное, опять сел в свое кресло за свой стол… Климов почти явственно увидел, как Слакогуз сидел в уютном кресле, смотрел на старые напольные часы, размеренно мигавшие латунно-маятниковым антикварным светом, шевелил пальцами, согревшимися в туфлях, – лодыжки припекало, но приятно: камин грел ровно, вот что значит сделано у них, умеют немцы, что ни говори, себя уважить и другим нос утереть, сидел-накручивал диск телефона, благодаря в душе его изобретателя. Хорошую штуку придумал. Для тех, кто с головой. Пришел к тебе, к примеру Климов, нехороший человек, которому больше всех надо, и что-то просит, и руками сам себе немного помогает, жестом, а пустые руки не умеют говорить, только сбивают с мысли. Посмотришь ты на этого сутягу, просителя какой-то справки для каких-то похорон, станет его жалко и пошлешь его… к Сидорсидоровичу: все от него, дескать, зависит. Поспешай к нему – и дело в шляпе. Моралист, проситель тотчас – в дверь, трясясь лицом от благодарности, как паркинсоник, а ты эдак спокойненько по телефону и предупреждаешь Сидорсидоровича о жалости своей: о горемыке, о соискателе какой-то справки. Есть, мол, чудак один на букву «эм», бегун на длинные дистанции, к зачету ГТО готовится. Так ты ему дыханье не сбивай. Пускай побегает. Значкисты нам нужны. Ага… В субботу, в финской, как всегда… доехали, доставили и разместили… Пивко тут у меня… Ты подъезжай… За что тебя и уважаю.
Такая штука телефон: и дело сделано, и каблуки не смяты.
Климов глянул на свои туфли и вздохнул: пора чинить.