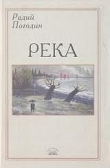Текст книги "Мертвый угол"
Автор книги: Олег Игнатьев
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 19 страниц)
Игнатьев Олег
Мертвый угол
Глава первая
…А подлости он людям не прощал. Не мог понять своими идиотскими мозгами, что заставляет многих подличать всю свою жизнь? Так в свое время он не мог понять логарифмической линейки.
Тренер ему сразу намекнул: придется уступить. Еще в гостинице, когда приехали на «зону». Вернее, так он не сказал, впрямую. Подводил к тому. Мол, так и так, что нам с тобою, дескать, «Юг России»? В этом году мы первенства не завоюем, знаешь сам: в руках твоих еще «кисель», всех сковырнуть силенок не достанет. Попрыгаешь, покажешь технику, продержишься три раунда, коронный свой прибережешь, высовываться сразу с ним не надо. Пусть тебя заметят, пусть откроют. Судьи любят «открывать». Готового никто не жалует. Вроде ты пришел и требуешь свое. А людям хочется, чтобы у них просили, а они одаривали, благодетельствовали… Но только, не дай Бог, не отдавали, да еще по праву слабого.
– Они тебя потом в такие жернова запустят, через такую жеребьевку проведут, ни на один чемпионат не попадешь. – Тренер наклонился к уху Климова и его заросшее бровями переносье стало мрачным. – Вечный бой со своей тенью. Все паморки на ринге отобьют, пока залезешь на еще одну ступень. А твой соперник – хлопец именитый: мастер спорта. Ему и прочат первенство России. Сто четырнадцать боев – сто восемь выиграл. Не то, что у тебя. Из сорока восьми боев – чуть больше половины. Даже если ты его побьешь, а судьи здесь все ушлые, – Иван Антонович поскреб кадык, – ты в лучшем случае получишь «кандидата, ну, может быть, еще наметят в сборную, а у Плахотина все это уже есть. Его на другой уровень выводят.
У тренера был перебитый нос и шрам на шраме по всему лицу.
– Парень ты с чутьем, настырный, дважды два считать научишься… а бокс, – он дернул головой, – не век же лазить под канаты.
Климов резко втянул воздух сквозь закушенные зубы.
В раздевалке пахло йодом, новой обувью и духом фаворитства.
Как Иван Антонович и предсказал, ему «подсеяли» Плахотина.
Ветер дует в одну сторону, а айсберги движутся в другую.
Подводные течения сильнее ветра.
Федерация бокса несла в себе признаки океанического происхождения. За Плахотина кому-то могли дать «заслуженного», а за Климова? Он был слишком темной лошадкой, чтобы на него поставили.
Пришлось настраивать себя на поражение.
Что ни говори, он волновался. Не до люфта в коленках, но щиколоток своих не чувствовал. Все казалось, что «боксерки» расшнурованы: нет-нет, да и поглядывал на них.
Ему достался красный угол.
– Не дай насесть. Все время уходи, – втолковывал Иван Антонович. – Танцуй, танцуй и на прямых. Кружи.
Климов только головой кивал да подпихивал перчаткой шлем к затылку.
«В синем углу ринга, – голос комментатора был насморочным и протяжным, – мастер спорта Зиновий Плахотин».
В темноте трибун замелькали, как ночные бабочки, летящие на свет, хлопки, ладони, лица.
Климов старался не смотреть в тот угол, где захваленно раскланивался фаворит спортивного Ростова.
«…серебряный призер чемпионата, – гундосил комментатор. — Трени рует его двукратный… обладатель кубка…»
Заревели, заревели! Титул – полпобеды. А Европа вся меньше России.
«В красном углу… – Климов напрягся. – Перворазрядник…»
Все же прозвучало с издевкой.
Засвистели.
Ждут избиения младенца.
Климов надеялся, что комментатор скажет: «В четырнадцати боях одержал победу нокаутом», но ничего подобного не услыхал.
Ну и не надо.
Судья на ринге развел руки.
Пригласил.
Климов бросил взгляд на тренера, но Иван Антонович повернулся к боковому судье, что-то показывая тому на пальцах.
Ткнулись перчатками.
Оп! Климов чуть не принял правостороннюю стойку. Интересно, заметил Плахотин? Вряд ли. Счел за обман или крайнюю степень волнения.
Сыпучие волосы противника были подсвечены шампунем. Челочка патриция, глаза полынные, сталисто-серые. Он сразу попытался подколоть перворазрядника коротким в челюсть. Промахнулся.
«Заморишься, – отпрянул Климов. – Костолом».
На ринге было жарко. От навязанного темпа и софитов.
Тынц!
Климов пропустил прямой.
Перчатки, локти, плечи.
Разноголосица из зала.
Плахотин был «рубака». Это подкупало. Бей меня, а я тебя.
Климов уходил, подныривал, кружил.
Держал противника на расстоянии.
«Что он так спешит? Поспорил, что уложит в первом раунде? Решил большие деньги загрести? Не терпится никак?»
– Ты кто? – приклеился он так, что изо рта его пахнуло.
Рефери раскинул руки:
– Брэк!
Плахотин отвалил.
Климов про себя отметил, что ноги у любимчика тяжеловаты, отстают, а вот руками, черт, работает отменно.
Послышалась скороговорка тренера:
– Щелчок, укол и уходи.
Климов кивнул. Дескать, услышал. И еле уклонился от посыла в лоб.
– Ты, сука, хто?
Климов сделал вид самый невинный.
– Что, зубы жмут? – насел Плахотин, и рефери опять прикрикнул:
– Брэк!
Любимчик бросил корпус влево, вправо, влево, – на какое-то мгновение закрыл собою Климова от надоевшего судьи на ринге.
– Ци-к!
В глазах у Климова слюна. Едучая, слепящая, паскудная. Черно и жутко: неужели плюнул?
– Хэк!
«Да у него удар – полтонны! – засквозило в голове, и Климов впервые услыхал, как стрекочет сорока в закрытом помещении. Ему стало душно. Липко. Тесно. Как будто на голову с размаху насадили шлем. Глухой, мотоциклетный, или же ночной горшок. Тошнотный запах. – Пропустил».
Рефери смотрел ему в глаза, а он не мог их разлепить.
«Четыре, пять… Руки у пояса… на уровне груди…»
Мерклый свет перегорающих софитов становился ярче, но в голове плыл медный звон и стрекотала сумасшедшая сорока.
Пропустил.
«Ну, сволочь! – Климов широко раскрыл глаза. Руки на уровне. – Только бы не прекратили бой».
Пол еще зыбился, но рефери скрестил перед собою пальцы:
– Бокс!
Крюк слева, справа. Климов увернулся, но глаза предательски слезились.
– Бе-е-ей!
– Клади в середку!
– По моргалам!
Казалось, что от криков рухнет потолок. Вскочили.
– Зю-няааа!
Рев отламывался от трибун, как скальный монолит от взорванной горы, но Климов все-таки успел под конец раунда красиво присобачить в челюсть мастерюге.
Когда расходились, он краем глаза уловил, как у того ослабленно-безвольно чиркнула перчатка по бедру. Еще в свой угол не дошел, уже размяк.
Полотенце в руке тренера вертелось, как пропеллер. Иван Антонович оттягивал резинку климовских трусов, и воздух холодил горячий пах.
– Умыться! Дайте мне умыться!
Плеснули на лицо.
– Еще! Еще!
Плевок горел в глазах.
– Во рту пополощи. Не ковыряй. Противник он серьезный.
Сорока вроде замолчала, и в глазах не режет.
Гонг.
– Плахотя-а, бей!
– Ведь ты же обещал!
Климов с ожесточенной веселостью парировал свистящую перчатку и, не переставая следить за ногами соперника, делал все, чтобы Плахотин не полез «вязаться».
– Бе-е-ей!
Климов отсунулся, ушел от «клинча» и углядел кровоподтек под левым глазом «Зюни». Сам не заметил, как приварил.
Плахотин набычился, но рефери сдержал его напор: опасно головой.
«Понюхай, гад, свою губу, понюхай, – злился Климов, доставая еще раз по корпусу и целя в голову. – Сейчас ты мне откроешь диафрагму. – Он явно дожимал последнюю минуту. – Ха! – Как будто прижимал к земле гадюку. Было. В детстве. В степь пошли… Вот так. Сейчас мы перестроимся и левой! Сбоку. В степь… Ага… А там гадюка… Нна!… По печени. Согнулся? Так… Ага… А там гадюка… Прямым в челюсть».
– В угол!
О том, что удалось заехать фавориту слева, Климов догадался лишь тогда, когда услышал:
– Три… четыре… пять…
Элегантный сухощавый рефери выщелкивал перед собой наглядно растопыренные пальцы:
– Восемь… девять…
– Зю-ня-ааа!
– Аут.
Плахотин все же сел. Оперся на перчатку. Помотал башкой и повалился навзничь.
Судья на ринге вскинул руку Климова и объявил победу.
…Били его в душевой. Их было пятеро, а он один. Как раз намылил голову, лицо…
Ударили в висок чем-то тяжелым.
Вода была напористая, мелкая, и он довольно скоро оклемался. Ханыг, конечно, уже не было. Сбежали. Бой Климова был заключительный, и в душевую больше так никто и не зашел.
Климов открыл глаза, потрогал голову рукой. Нет, не болела. Коротко остриженные волосы напомнили ему о психбольнице. Значит, все это ему приснилось, вернее, вспомнилось во сне… И Климов улыбнулся. Благостно и умиротворенно. Господи, как хорошо проснуться дома, в своей спальне, зная, что тебя не хватятся сию минуту на работе, ты в отгуле… Он потянулся, приподнялся на подушке, осмотрел надорванные локтевые вены, медленно провел по ним расслабленными пальцами… слегка прижал… Нет, все было нормально, подживали… и сердце мерно, четко гнало кровь по жилам. Хорошо! Он закинул руки за голову и минуты две бездумно всматривался в потолок, такой знакомый и такой родной! Вон след от комара, которого он как-то прибил шлепанцем в отместку за его зловредность и неслыханную кровожадность. Обычно Климов на укусы комаров не реагировал, но этот и Оксану свел с ума, и Климова допек. За что и был, естественно, наказан. Вон паутинка, над светильником… Оксана никогда ее не видит при уборке… и не надо… так даже уютней, домовитей…
Обычно Климов просыпался рано, в половине пятого, от силы – в пять, но пребывание в психушке вымотало нервы, сказался недосып: часы показывали девять.
– Охо-хо, – Климов зевнул. – Пора вставать. – И вновь прикрыл глаза. Дескать, имею право.
Хотя дверь в спальню и была плотно прикрыта, он слышал, как жена возилась у плиты, что-то пекла, по запаху – творожный пудинг, столь любимый Климовым, наверное, отпросилась на работе, чтоб иметь возможность побыть дома, подкормить и подлечить измотанного службой – будь она проклята твоя работа! ненавижу! – отца своих детей и – собственного? – мужа, пострадавшего от злых мучителей, лишивших его памяти и заточивших в местную психиатричку. Наверное, и проснулся он так поздно, что пришлось рассказывать жене о злоключениях, о том, как нашел сына Легостаевой, о том…
Звонок в дверь заставил его вновь открыть глаза и приподняться на подушке. Кто-то звонил к ним в квартиру. Может. Андрей? Он должен был съездить в больницу, посмотреть вместе с профессором, действительно ли спрятана в диване книга «Магия и медицина», как призналась на допросе Шевкопляс? Но он бы позвонил по телефону, парень деликатный… Дети в школе… Вероятно, кто-то из соседей…
Он слышал, как Оксана отворила дверь, кому-то назвала свою фамилию, сказала: «Да», и женский полушепот стал перемежаться вздохами сочувствия.
«По-видимому, кто-то из соседок, – решил Климов и благодушно повернулся на бок. – Хорошо! Не думать, не спешить, не опасаться… лежать с закрытыми глазами, вдыхать милый и родной запах жены, идущий от подушки, одеяла, от ночной сорочки, брошенной Оксаной в изголовье».
Наружная дверь хлопнула, щелкнул замок, послышались шаги.
Оксана вошла в спальню.
– Юр, ты спишь?
Он притворился, что не слышит, нарочито затаил дыханье и невольно улыбнулся, приоткрыв один лишь глаз, мол, что?
Оксана протянула телеграмму.
– Вот.
И всхлипнула, зажав ладонью рот.
«Умерла баба Фрося приезжай похороны Петр»
Климов медленно, сквозь зубы втянул воздух, выдохнул, потер рукою лоб и отложил текст телеграммы в сторону. Это извещение в который раз доказывало, что течение жизни совершенно не зависит от человеческой воли, только от смерти. От ее безумной логики.
На какое-то мгновение он потерял ощущение реальности, слушал и не слышал, что говорит ему жена, как будто с головой ушел под воду, пока до его слуха не донесся вой сирены. То ли милицейской, то ли «скорой помощи».
Смерть близкого, родного человека, все равно, что ожог. Ничем не смоешь. На всю жизнь. О своей смерти – когда– то же она наступит! – Климов думал также, как о насморке: ничего страшного. Но смерть родных и близких…
Он глянул на Оксану, горестно застывшую с ладонью на губах, и перекрестился:
– Царство ей небесное, Ефросинье Александровне…
Жена согласно закивала головой и повернулась к образу
Спасителя, дешевенькой иконке, купленной в церковной лавке.
Надорванную вену заломило, как после забора крови или же введения лекарства. Был человек и нет. Климов поморщился, согнул левую руку в локте, потер ее от кисти до плеча. Никто у него кровь не брал, никто не собирался вкалывать ему губительную дрянь, это просто жаловалось сердце.
Глава вторая
Позвонив в Управление и получив от подполковника Шрамко «добро» на отъезд из города, Климов поспешно собрался, обнял, поцеловал жену, решившую было поехать с ним, но он ей запретил. – Хоть ты будь дома. Мне так легче.
Пообещал вернуться сразу же, как только… он не стал продолжать фразу – и так ясно, сунул пистолет под мышку, в кобуру, все-таки решил в последнюю минуту взять, чем черт не шутит, попросил Оксану принести зубную щетку, все время забывал и вспоминал лишь на пороге, посидел секунды две на табурете у двери вместе с женой, сгладил дорогу, и поехал на вокзал. Самолеты совершали рейсы только по нечетным числам.
Уже в вагоне, устроившись на верхней полке четырехместного купе и поудобней умостив под голову подушку, Климов подумал, что на похоронах могут понадобиться лишние деньги, и той скромной суммы, которой он располагал, возможно, будет мало. Цены на товары и услуги за последний год так подскочили, что в магазины заходить он просто– напросто боялся, а к услугам разных фирм старался прибегать как можно реже. Вернее, он их также избегал, как и торговые ряды. А тут еще зарплату в срок не выдавали, били на сознательность и на острейший дефицит наличности. Стыдно сказать, но иногда Оксана радовалась, как ребенок, когда ее довольно хамоватая соседка, работавшая завотделом в гастрономе, угощала литром молока или пакетом макарон. «Ты не торчал на кухне и не знаешь, как это мучительно гадать, что приготовить пацанам на ужин и чем их накормить в обед, – отмахивалась от него жена, когда на Климова накатывала ярость неприятия подобных угоще ний. – Вот он холодильник, вот плита, – она швыряла тряпку или нож на стол, в зависимости от того, что было у нее в руке, и приглашающе показывала на кастрюли: – Действуй! Корми жену и сыновей, добытчик…»
Эта реплика была ее козырной картой, никогда не выходящим из игры тузом, и Климов отступал, мол, да, конечно, хотя слово «добытчик» и звучало унизительно. Он добывал совсем не то, что можно было потушить, сварить или поджарить. Следы, отпечатки, приметы… доказательства вины.
Поезд взял разбег, вагон шатало, от окна сквозило холодком, полка скрипела… под ритмичный стук колес думалось грустно. Вот и отжила свое на свете баба Фрося… Ефросинья Александровна Волынская… Совестно сказать, но Климов по сей день не знал, кем доводилась умершая его матери или отцу. То ли двоюродная тетка, то ли первая жена его троюродного прадеда. Ей было, если подсчитать, наверное, лет девяносто… да, не меньше… Родилась она еще до первой мировой войны, в девчонках видела царя, голубоглазого, в погонах, на портрете, что-то говорила про фамильное родство не то с московскими купцами Привезенскими, не то с какой-то настоятельницей женского монастыря… вроде, в Твери. Климов всегда воспринимал покойную, как Бабу Фросю, тихую, все понимающую, никогда и никого не осуждавшую. Жила она довольно бедненько, родных детей и внуков не имела, возможно, и была когда-то замужем, но, видимо, недолго… На желтой ломкой фотокарточке, которую однажды Климов видел у нее в руках, запечатлен был некто с мальчуковой челкой и худым лицом. Она как-то обмолвилась, что «этот человек» был настоящим графом, но вынужден был выдавать себя за пролетария – без роду и без племени. Работал сцепщиком, осмотрщиком вагонов. Жили они тогда в пристанционной слободке, в наспех сколоченном из шпал и бросовых щитов снегозащиты флигеле-бараке. Потом, как понял Климов, человек этот попал под паровоз, никто не ведал как, поскольку был он «трезвым без обмана». Сначала бабе Фросе присудили было пенсию, а после вышла закавыка, вроде, как не ей должны платить, а по-хорошему, она обязана «покрыть и компенсировать». Когда началась война Отечественная, попала под бомбежку, вывихнула ногу. Сама кое-как поправила сустав, да, видно, неудачно. Из-за колена и с железной дороги пришлось уволиться, пошла уборщицей в пристанционный магазин. Канистры, стеклотара, упаковочные ящики… Загаженные мухами шнуры электроламп… какие-то сутулые нетвердые в движеньях люди с лицами, покрытыми щетиной, словно плесенью. Они злословили, дышали смрадной вонью, катали бочки, жали «краба»… Люди с черного хода. Не потому ли Климов с детства не выносил гастрономические запахи? Из школы он бежал домой, оттуда – к бабе Фросе. Сперва, чтобы она «имела его на глазах» – мать и отец учились в институте, затем, чтобы помочь. Баба Фрося была безотказной в работе и очень уставала, подряжаясь грузчицей. В обитой фанерой подсобке, где вечно протекали трубы и железно гудел морозильник, Климов впервые уразумел, что жизнь начинается с четырнадцати копеек: за эти деньги можно было купить буханку хлеба. Там же он узнал еще одну несправедливость: чаще упрекают безупречных. Баба Фрося застудила почки и, разгибаясь, потирая неподатливую спину, жаловалась, что горе, как ноготь: растет и растет. Она страшилась, что из Юрки может выйти уркаган, когда он ей рассказывал про сыщиков и про пиратов, о которых читал в книгах, и учила его вышивать крестом, китайской гладью и простым стежком. Чем старше становился Климов, тем чаще она подворачивала ногу. К врачам не обращалась, а приступала больную ногу здоровой и дергалась, вправляя вывих. Она несла свой крест с библейским оправданием земной юдоли и людской тщеты, без ропота, отчаянья и видимой надсады. «Отче наш» впервые Климов услыхал из ее уст. Потом ей посоветовали жить на юге, поближе к минеральным водам, и она просила отца Климова способствовать ей в переезде. Так баба Фрося оказалась в Ключеводске, а вернее, как тогда он назывался, в абонентном ящике ноль – сорок три, в «соцгородке». Обнесен он был колючей проволокой, имел два пропускных пункта: для жителей и для рабочих, на картах обозначен не был и таил в себе какой-то жуткий государственный секрет. Попасть в «соцгородок» мог только приобщенный к «спецкоманде» человек, имеющий особый пропуск. Выходить и уезжать из городка практически не дозволялось.
Вот в этот «ноль – сорок три» и приезжал однажды Климов с отцом проведать Ефросинью Александровну. Она все еще работала, но уже не в гастрономе, а техничкой в школе, в торцевой пристройке которой ей и выделили комнатушку для жилья. Со временем она переселилась в глинобитную хибару на задворках городка, где городские власти разрешили ей занять под огород четыре десятины, крохотную латочку мусорной земли. Второй раз Климов приезжал один. Что там у отца и матери произошло между собой в тот год, какие недомолвки охладили их сердечную привязанность друг к другу, он до сих пор так и не понял, но на семейном совете было решено, что восьмой класс ему придется заканчивать в «соцгородке», а жить он будет, разумеется, у бабы Фроси. Климов тогда с ребячьим бешенством переживал за мать, хотя во всем старался быть похожим на отца, и в сердцах плюнул на родительский порог. И стыдно вспоминать, и позабыть нельзя.
Ритмичный стук колес и поскрипывание полки в такт раскачивающемуся вагону исподволь затягивали в дрему, в забытье, полдневный сон. И мысли становились вязкими, текучими, как время.
Очнулся он от шума драки, крика и осколочного дребезга стекла. Дверь его купе была закрыта, но в соседнем, за перегородкой, возбужденно гомонили голоса.
Климов спрыгнул на пол, всунул ноги в туфли, выглянул в проход. Высокий старик в полосатых пижамных штанах и вылинявшей майке, стоя в проеме соседнего купе, описывал налет, которому подвергся. Судя по его словам, пять секунд назад, в дверь постучали. Он подумал, что стучит ушедший в ресторан с женой его попутчик и спокойно открыл дверь. И тут же принял удар в голову. Кастетом. В самое последнее мгновенье нырнул в сторону и дал отпор. Въехал локтем в переносицу тому, кто нападал, другому зацепил ногой по этим…
– Дали деру, – снисходительно-нервно встряхнул он ушибленной в локте рукой и на его скулах выступила желтизна. – Наглецы несчастные. – Голос у него был таким напряженно-гудящим, низким, как будто к нему подвесили гирю. Чувствовалось, что он все никак не может отойти от происшедшего.
Толпа вокруг него сочувственно гудела.
– Что ж это такое?
– Среди бела дня…
– А что милиция?
– Ха-ха! Спросите, что полегче.
– Паразиты…
Проводница, пышнотелая блондинка с веником в руке, просунулась поближе к пострадавшему.
– Чего украли?
– Вроде, ничего, – досадливо поморщившись, старик небрежно вытер кровь над бровью и обтер платком испачканные пальцы.
– Надо посмотреть.
– Не трогайте тут ничего, – сказала проводница и, все так же держа веник на отлете, побежала по проходу.
Климов пропустил ее мимо себя, шагнув назад, и стал поближе к старику.
– Вы их запомнили?
– Второго. Сытый, гладкий, на руке стальной браслет.
– Да, да! Еще костюм на нем германский, темно-синий.
Климов перевел глаза на подошедшего свидетеля и тотчас опустил их вниз: старика с презрительной насмешливостью озирал с высоты своего роста амбал Сережа, санитар из психбольницы.
– Темно-модный, спортивный, все видели?
– Да, все, – ответила от имени столпившихся зевак приятная на вид стройная дама и стрельнула взглядом в сторону Сережи. – Именно, один в костюме, а другой…
– Другого не было, – вальяжно прогудел Сережа. – Я бы с ним столкнулся. В руке он держал пачку «Филипп Моррис».
Кто-то захихикал:
– Это верно.
Климов медленно переместился в «тень», стал за спиной Сережи.
Подошедший милиционер оказался тщедушным пареньком с уставшим выражением лица. Сержантские лычки делали его еще моложе.
– Кто здесь жертва?
После этого вопроса в коридоре сразу поубавилось народу. Климов усмехнулся и все понял. Сейчас начнется протокольная бодяга, потом сверка показаний, потом выяснится, что свидетелей, вообще-то, нет, что они так, сочувствующие, дескать, вместе едут, пассажиры, нет, не знают, и получится, что старику приснился сон и он свалился с полки… Стукнулся башкой о столик, вот и заблажил. Герой, мать его так… Людей лишь разбудил, перебулгачил.
Сережа повернул налево, Климов – направо.
Убийство еще будут раскрывать, а неудавшееся ограбление навряд ли.
Подумал и почувствовал боль в зубе, под коронкой. Зуб уже давно молчал, не беспокоил Климова, а тут заговорил, напомнил о себе глухим нытьем.
Климов решил прополоскать рот теплым чаем и пошел за кипятком. Красный столбик градусника на титане задержался у отметки восемьдесят. «В самый раз, – подумал Климов. – Кипяток мне и не нужен».
Если бы его задели просто так, а то ведь наподдали с явным умыслом: два мордоворота прошагали в тамбур, широко и прочно расставляя ноги. Климов стиснул зубы, догадался: приглашали выйти. Но прошли, не оглянувшись. Почему? Боялись, что узнаю? Одного или обоих? Истинных целей парней Климов не знал, но, судя по нахальству, мысли у них были темные.
Подув на пальцы, оплеснутые кипятком, он заново набрал в стакан воды и, постояв еще немного перед тамбуром, рванул на себя дверь.
Сквозняк, табачный дым, лязг буферов…
Мордоворотов не было.
В последнюю минуту передумали? А, может, это нервы у него – того: маненько разыгрались? Черт бы их побрал! Конечно же, подонков, что его толкнули – он так и влип в титан, едва не разбил градусник стаканом, а пальцы все-таки обжег.
Возвращаясь к себе в купе, он вспомнил, как давным – давно, когда они с Оксаной только поженились, его в подъезде поджидали трое… где они теперь? Двоих он просто-напросто пришиб, а третий спекся от кровотеченья.
Мрачная работа.
Ночью боль усилилась. Казалось, что уже не один зуб, а вся верхняя челюсть разрывается на части, даже левый глаз горел огнем, как будто в него сыпалось и сыпалось толченое стекло. Как будто это не глаз, а заурядные песочные часы. И сам он превращался в эти самые часы, рассчитанные на вечность. А вечность – это страшно. Как черная дыра на месте солнца, когда посмотришь на него в июньский зной.
Ждать, когда боль отпустит, как отпускала раньше, ему не хотелось, но и не ждать было нельзя. Тогда надо было что– то предпринимать, а это курам на смех, потому что все давно спали, и колеса, громкие на стыках, словно говорили, что терпеть и ждать, пожалуй, лучший выход.
Климов приподнялся на локте, нашел в кармане пиджака пакетик с анальгином, вытряхнул в ладонь две пуговично-круглые таблетки, но вагон качнуло, и одна таблетка отозвалась снизу легким стуком. Полулежа, опершись на локоть, он поискал ее глазами в темноте, стараясь заглянуть под столик, наверное, хотел отвлечься от горячей боли, не нашел, вынул из пакетика еще один кругляш, отправил в рот, разгрыз и подтянул колени к подбородку. Было холодно и одновременно душно, как в заброшенном подвале, где он как-то просидел всю ночь, доказывая пацанам «соцгородка», что не боится крыс, гадюк и прочей твари.
На нижней полке кто-то завозился, видимо, подсели по пути, раскатно громыхнул пролет моста, и снова болевая тьма вагона и торопливо-скорый бег колес перевернули Климова с боку на бок, на спину и на живот, и снова на бок, и он, сглотнув лекарственную горечь, злясь, что анальгин ему уже не помогает, с тихим стоном прикусил угол подушки. Наволочка была волглой и ее казенный запах разварившегося мыла и крахмала, как и ее сырая ткань, больнично заглушали нестихающую боль. Эта боль не оставляла больше сил. Ни на то, чтобы дождаться утра, ни на то, чтобы облегчить участь.
Нечто подобное он уже испытывал, когда возвращался домой после похорон деда.
На электричку он тогда опоздал, захватил лишь ночной убегающий рельсовый гул. Через разл ожину прореженного леса, оскальзываясь впопыхах на мокрой глине, выломился на шоссе… И только потом, в дребезжащем, как пустая консервная банка на хвосте заулюлюканного кота, автобусе внезапно понял, что водитель пьян. Банально. В стельку. «Кардан обломался и вытек бензин», – горланил он, объезжая осевую линию, давая тем самым дорогу задним колесам своей «коломбины», стараясь вести ровно не ее, а мотив перелицованной песни. Встречные автофургоны впритирку ошаркивали комья грязи с бортов их дребезжащего «Пазика», и Климову в ужасе приходилось закрывать глаза, предчувствуя аварию. Надо было что-то делать, чтобы не разбиться всмятку: или выхватить ключ зажигания, или просто сказать «я приехал» и выскочить в ночь. На полном ходу, только не сидеть «кулем с глазами», как говаривала баба Фрося, не молчать, ухватившись за дужку сиденья. Молодой был, глупый. Может, он и выхватил бы ключ, не будь ему пустынно-тяжко после смерти деда, не ощущай он липкий, усмиряющий гипноз людской тщеты. И не было ни сил, ни воли, ничего… Как и сейчас, в этом измотанном вагоне, когда он, закусив угол подушки, готов руками раздавить песочные часы дурацкой боли.
Забылся и очнулся лишь под утро. В окно по-прежнему сквозило, ночной холод застудил ему висок, за то песочные часы разбились вдрызг: никакой боли не было. «Ура», – попробовав нажать пальцем на зуб, вымолвил Климов, и обрадовался, что сумел перетерпеть и в этот раз мучительную боль.
Решив, что он рассчитан на сто лет, Климов осторожно спустился на пол, сходил умылся, наскоро растер окостеневшие от ледяной воды скулы, погрел под мышками озябнувшие пальцы, проверил пистолет, бриться не стал, розетка не работала, да он, вообще-то, и не успевал: поезд сбавлял ход, причем, заметно.
Вот он и приехал. Вернее, получил возможность улизнуть, сбежать из невеселого вагона, где его всю ночь терзала боль.
Глянув по привычке влево-вправо, Климов отметил, что далеко впереди по ходу состава с нескольких подножек одновременно наземь спрыгнули дюжие молодцы с тяжелыми сумками, а из соседнего вагона высунулся амбал Сережа. На какое-то мгновение он задержал свой взгляд на Климове, но снова не узнал того, кому едва не перебил кадык в дурдоме.