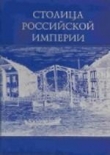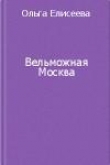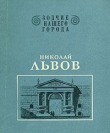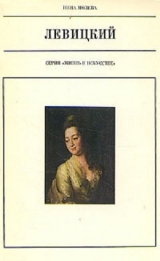
Текст книги "Левицкий"
Автор книги: Нина Молева
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 20 страниц)
Родившийся годом раньше Левицкого, Василий Андреев к восемнадцати годам заканчивает общеобразовательную Царскосельскую школу, дававшую начальную подготовку и по рисунку, затем по контракту Канцелярии от строений направляется для обучения к вольному живописцу Федоту Колокольникову. Три года спустя учитель представляет в качестве отчета картины Андреева – «Распятие Христово», «Архангел Гавриил», «Архангел Гавриил другим манером», «Спаситель в страдальческом образе» и «Весна». Нет сомнения, что речь шла о копиях, на которых строилось первоначальное обучение живописца. Со смертью в январе 1761 года Федота Колокольникова Андреев вместе с остальными «контрактными» учениками отзывается в Канцелярию от строений. Сначала его берет к себе И. Я. Вишняков, а со смертью последнего руководство Канцелярии направляет Андреева опять-таки по контракту к Антропову. При этом Антропов заявляет, что для доучивания двадцатишестилетнего ученика ему понадобится еще пять лет. Насколько этот срок соответствовал действительной необходимости или попросту был выгоден мастеру? Во всяком случае, Антропов дает возможность Андрееву получить необходимый аттестат только в 1767 году, представив в Канцелярию выполненный им портрет Петра I. Так или иначе, среда антроповских учеников была ремесленнической средой, слишком далекой от уровня знаний и умения молодого Левицкого.
Но исповедная роспись 1761 года – последняя отметка в жизни Левицкого в антроповском доме. 28 июня 1762 года очередной дворцовый переворот приводит к власти Екатерину II. В Москве начинаются срочные приготовления к коронационным торжествам невиданного размаха. Чем сомнительней были права на власть правителя, чем туманнее обстоятельства его прихода к власти, тем пышнее устраивались по этому поводу празднества, тем скорее их стремились провести. Екатерина II не стала исключением.
13 июля 1762 года в Москву в распоряжение «надворным советникам Штелину, Михайле Хераскову, лейб гвардии подпоручику Ржевскому и армейских полков прапорщику Богдановичу» Канцелярией от строений направляются: «Живописные мастера – Алексей Антропов, Иван Бельский, Иван Вишняков; подмастерья – Алексей Бельский, Ефим Поспелов, Левицкой с Антроповым; живописцы – Охлопков, Скородумов, Афанасьев, Михайлов, Данилов, Павлов, Сердюков, Соколов, Апарин, Фадеев, Петр Мурлин и два человека учеников итого осьмнадцать человек». Предполагалось, что присланные живописцы выполнят панно на четырех воздвигавшихся в городе триумфальных воротах. Однако объем работ оказался настолько велик, что живописные мастера срочно попросили о помощи. В результате за ними и их помощниками было оставлено двое ворот – Никольские в Кремле и Тверские в Земляном городе. Остальные по подряду передавались московским вольным живописцам.
Обыкновенный на первый взгляд документ – список приехавших из Петербурга художников – был в действительности примечателен не только сохранившимися приписками Якоба Штелина, первого историка русского искусства. Он прежде всего обращал на себя внимание исключительностью положения Левицкого. Единственный из перечисленных живописцев он не состоял в штате Канцелярии от строений, не был связан с нею даже участием в выполнении каких бы то ни было временных и потому поденно оплачиваемых работ. Хотя именно таким образом Канцелярия постоянно использовала всех сколько-нибудь подготовленных, тем более мастеровитых художников в обеих столицах и даже других городах.
Более того – к Левицкому применяется звание подмастерья, которое давалось живописцам только в результате специальной аттестации. В Петербурге его могла принести многолетняя служба в государственном учреждении, в частности в той же Канцелярии. В Москве оно давалось цеховой организацией художников. Ни тем, ни другим путем Левицкий его не получал. Оставался самый невероятный для XVIII века вариант условного применения ранга в силу высокого и очевидного мастерства живописца. При этом и в общих списках и в записях Я. Штелина повторяется одинаковая пометка: «помощник Антропова». Не ученик лучшей или худшей выучки, но помощник. То же объяснение повторит спустя два года в одном из своих прошений и сам Антропов: «По всерадостном вступлении на престол ее величества в Москве на триумфальные ворота 8-ми портретов стоящие трудился с подмастерьем, которой содержан моим коштом» (пометка Я. Штелина – Антропов «писал все портреты ее императорского величества»).
Существенное уточнение! Оно означало, что Левицкий и в этом случае не вступил в договорные отношения с Канцелярией. Все расчеты велись Антроповым и на имя Антропова, тогда как тот, со своей стороны, не мог не признать, что работал с помощником. Трудно сказать, чем руководствовался Левицкий, отказываясь от самостоятельного положения. Вполне вероятно, желанием сохранить свою независимость. От Антропова он имел право уйти в любой момент, отношения же с Канцелярией от строений означали, что его вернули бы к прерванным занятиям даже под солдатским конвоем, а в дальнейшем безоговорочно вызывали при каждой необходимости. Но для того, чтобы избежать зависимости от Канцелярии, надо было пользоваться чьей-то очень влиятельной поддержкой.
К новому, 1763 году живописцы Канцелярии от строений возвращаются в Петербург. Исключение составляют задержавшиеся в Москве Антропов и Левицкий. Левицкий еще раз оказывается в особом положении. Ведавший подготовкой к коронационным торжествам Н. Ю. Трубецкой ходатайствует о награждении всех участвовавших в работах художников. Каждый раз он включает в их число и Левицкого, причем делает попытку добиться награды для него и в августе 1763 года через официального фаворита новой императрицы Г. Г. Орлова. Самое примечательное, что Никита Трубецкой поступает так не в силу служебных обязанностей или расчета. К тому времени он освобожден от всякой службы и представляет частное лицо. В его дневнике сохранилась запись: «1763 год. Июнь 9. Высочайшею ее императорского величества милостию уволен я как от воинской, так и от гражданской службы вечно…» Никита Трубецкой стар, тяжело болен. Через полгода его уже не будет в живых.
О явных симпатиях Никиты Трубецкого к определенным художникам, и в данном случае к Левицкому, свидетельствует и такой факт. С художественными работами Трубецкому пришлось столкнуться еще в связи со вступлением на престол Елизаветы Петровны. Тогда ему было поручено наблюдение за строительством памятного Преображенского собора в Петербурге, как о том свидетельствует сохранившийся в архиве Преображенского полка приказ. Тем самым Трубецкой должен был столкнуться с наиболее популярным русским мастером тех лет – Миной Колокольниковым, которому передается живопись образов для иконостаса.
Между тем среди множества художников, привлекаемых к коронационным работам в Москве, Мины Колокольникова нет и не встает вопроса о его розыске и вызове, к чему Канцелярия от строений так часто прибегала. У Мины Колокольникова слишком много «сторонних» заказов, частных учеников, и он всеми силами старается избегать участия в работах Канцелярии. Чего стоит один указ от 1753 года: «Сего апреля „6“ дня ее императорское величество указала имеющихся в полках гвардии и на шпалерной манифактуре живописцев всех и того же художества обретающихся в Петербурге двух братьев Колокольниковых отдать в ведомство ваше для исправления в Царском селе работ…» Елизавета Петровна явно отдавала предпочтение мастерству Колокольникова, которого Трубецкой не разделял.
Конечно, со стороны президента Военной коллегии и бессменного на протяжении целых двадцати лет генерал-прокурора Сената, каким был Трубецкой, ходатайство о награждении Левицкого могло быть ничего не значащим жестом благодарности по отношению к исполнительному работнику. Могло быть – если бы не та настойчивость, с которой повторяется имя Левицкого, человека, не состоявшего на казенной службе. Расположенность Никиты Трубецкого к молодому художнику приобретает совсем особый смысл, если разобраться, какой круг людей князь представлял.
Есть имена привычные – не только в самом факте своего существования, но и в ситуации, которую они предопределяют, окраской, которую сообщают своим участием каждому событию. Новиков, Фонвизин, Радищев или Андрей Ушаков, Бирон, Шешковский, Аракчеев, становящиеся в представлении последующих поколений однозначными, они, как карты в пасьянсе, могут менять свои места, не изменяя абсолютного смысла деятельности. Их появление связано как бы с настройкой на определенную волну оценок, приятия или неприятия в зависимости от собственных взглядов читателя, историка, исследователя. Но неизмеримо большее число имен лишено подобной выясненности, взвешенности на весах суда истории. Тем интереснее открытие их, как то можно сказать о Никите Трубецком.
Высокие государственные должности, которые занимал Н. Ю. Трубецкой, не затеняли главного в его жизни – всегдашней связи с передовыми представителями русской литературы. Смолоду Трубецкой дружен с Антиохом Кантемиром. Так случилось, что судьба молдавских бояр, примкнувших после Прутского похода Петра I к России, сплетается с его собственной судьбой. Родная племянница Трубецкого становится мачехой Кантемира. Сам Трубецкой женится на вдове валашского боярина Матвея Хераскова, и в его дом входит пасынком будущий поэт и драматург М. М. Херасков.
Дружба с Трубецким проходит через всю недолгую и трудную жизнь Антиоха Кантемира. Оказавшись с двадцати двух лет в неожиданной ссылке – на дипломатической работе, он присылает другу свои произведения (в России при жизни поэта они так и не были напечатаны), обращает к нему стихотворные послания. Седьмая сатира Кантемира носит название «Князю Никите Юрьевичу Трубецкому (о воспитании)». Неуступчивый, резкий в суждениях, не знавший компромиссов Кантемир такую степень доверия мог проявить только к человеку, в полной мере разделявшему его взгляды, требовательность к дворянству, представления об обязанностях относительно общества, государства. И то, что Екатерина именно Н. Ю. Трубецкого назначает организатором коронационных торжеств, а вместе с тем поручает ему и сочинение всего сложнейшего символико-аллегорического их содержания, которое должно было заключаться в оформлении города, определялось не должностью Трубецкого и не его высоким положением при дворе.
Превосходно ориентировавшаяся в настроениях придворного окружения, с самого начала решившая делать ставку на либерализм и просвещение, новая императрица имела в виду прежде всего взгляды Трубецкого. Сочиненное им «торжество» должно было заключать в себе программу наступающего царствования, наглядно выражать те цели, которые ставила перед собой пришедшая к власти в обход всех законов о престолонаследии императрица. Отсюда обещание мирного царствования ради развития промышленности, сельского хозяйства и всех видов искусства, внимание к юношеству, которому предстоит пожинать плоды этой программы. Отсюда такие аллегорические фигуры, как «роскошь и праздность запрещенные», «привлечение почтения о чужестранных», «ободрение художества», «истина и достоинства венчанные», «спокойствие, поражающее несогласие», «безопасность границ» и т. п. Другой вопрос, какую часть высоких обещаний Екатерина выполнила или вообще собиралась выполнять. На первых шагах было слишком выгодно предоставить выразителю наиболее либеральных среди придворного окружения взглядов свободу открыто объявить свою программу.
«1762 год. Сентябрь 22,– записывает Н. Ю. Трубецкой в своем „Журнале“, предельно скупом на подробности отчете о главнейших событиях личной жизни, – по высочайшему ее императорского величества государыни императрицы Екатерины Второй повелению, при высокоторжественной ее величества коронации в Москве, благополучно свершившейся, был я верховным маршалом. И для того ради приуготовления всего потребного к тому торжеству, 9 июля поехал я в Москву из Санкт-Петербурга, куда 15 числа и приехал».
Екатерина оказывается достаточно последовательной в своем решении. Помощниками Трубецкого в реализации составленного им «сценария» назначаются его пасынок, М. М. Херасков, покровительствуемый Херасковым Ипполит Богданович, их близкий друг Ржевский. Рядом стоит Я. Штелин, известный «сочинитель всякого рода аллегорических представлений» (так определялась должность, на которую он в свое время был приглашен в Россию), и то, что он оказывается отстраненным от исполнения своих обычных обязанностей, лишний раз подтверждает, что предпочтение, отданное Трубецкому, не было ни формальностью, ни случайностью. Кстати, именно Я. Штелин сдержанно замечает, что свои замыслы Никита Трубецкой заимствовал из «французских книг».
Живой интерес к идеям просветительства, нравственного совершенствования человека, а отсюда к вопросам всеобщего образования захватывают и следующее поколение в доме Трубецкого – его пасынка и трех родных сыновей, каждый из которых отдал более или менее значительную дань родной литературе. Екатерина – скорее всего, здесь сказалось и личное пожелание Трубецкого – назначает его помощниками наиболее близких ему людей. Херасков, работающий с момента основания в Московском университете и в начале 1760-х годов ставший его директором, вводит в дом отчима Ипполита Богдановича. Он заметил его еще десятилетним мальчиком, зачисленным на службу в Юстицколлегию, помог устроиться в университет и поселил у себя. К моменту коронации Екатерины «армейских полков прапорщик» Богданович продолжает жить у Хераскова, печатается в его изданиях и разделяет с ним увлечение музыкой и живописью. Со временем, в годы наибольших своих поэтических успехов, написав вызвавшую единодушные восторги «Душеньку», он посвятит не менее восторженные строки картине Левицкого «Екатерина-Законодательница». Интерес к живописи в доме Трубецкого поддерживается и родным племянником хозяина, только что вернувшимся после многолетнего пребывания за границей И. И. Бецким, назначенным президентом Академии художеств.
С Бецким самая тесная дружба связывает старшего сына Трубецкого, Петра, поэта, переводчика и в дальнейшем почетного вольного общника Академии художеств. При всем своем формальном характере это звание в XVIII веке говорило о действительном интересе его обладателя к искусству. Петр Трубецкой к тому же становится непосредственным помощником Бецкого по управлению порученной ему Канцелярией от строений, где живописная команда занимала его явно больше, чем собственно строительные дела.
Литературные увлечения тем более свойственны младшему сыну, Николаю Трубецкому. Его стихи и проза печатаются в «Московских ежемесячных сочинениях». Он приобретает известность среди современников переводом комедии «Расточитель» и особенно отрывков из французской энциклопедии. Но здесь уже самый подбор переводов свидетельствовал о совершенно своеобразной направленности интересов литератора. Это утверждение необходимости всеобщего просвещения народа, без которого человеку никогда не удастся освободиться от уз рабства, утверждение единых для всех людей прав и правового положения в государстве, наконец, обязательного нравственного самоусовершенствования человека. Взгляды Николая Трубецкого, разделявшиеся передовой частью русского общества, вскоре приводят его, однако, в ряды масонов, и это еще одна сторона деятельности связанных с Н. Ю. Трубецким лиц.
На стороне масонов симпатии Хераскова, автора масонского гимна «Коль славен», и его жены, писательницы Елизаветы Херасковой, получившей от современников прозвище «русской дела-Сузы» по имени модной французской беллетристки рубежа XIX века. Не ограничиваясь сочувствием зарождающемуся движению, Николай Трубецкой становится и деятельнейшим его участником. Он возглавляет одно из московских объединений – Ложу Латоны (его сменит в этой должности Н. И. Новиков), а затем Ложу Озириса, нося самое высокое масонское звание «мастера в степени теоретического градуса». Со временем того же звания достигнет и Левицкий. Николай Трубецкой именуется и так называемым генерал-визитатором в капитуле московских масонов, где должность казначея занимает ставший его ближайшим другом Новиков.
Каковы бы ни были отношения, возникающие в 1762 году у безвестного «вольного малороссианина» с этим кругом лиц, они определят в дальнейшем всю его жизнь и сохранятся до самых последних дней Левицкого. И неизбежный вопрос – что могло выделить Левицкого из общей массы работавших художников для Никиты Трубецкого и его окружения? Талант живописца ему еще не на чем было показать. У Левицкого могли быть соответствующие рекомендации, но была и высокая образованность, отличавшая его с юношеских лет и, возможно, поддержанная влиянием Теплова. Идеи просветительства – к ним Левицкий оказывается подготовленным всеми ранними годами своей жизни. Но в эти первые годы работы в старой и новой столицах для него решающим становится знакомство с одним из членов семьи Трубецких, а именно Бецким.
В представлении историков, Иван Иванович Бецкой – это Академия художеств, Смольный институт, Московский Воспитательный дом, Канцелярия от строений, множество благотворительных учреждений, образовательных, связанных с искусством. Это причастность к многим страницам культурной жизни России, независимо от того, насколько в действительности значительной или даже просто положительной была роль Бецкого. Бецкой не занимает высоких государственных должностей, не получает титулов и значительных орденов, но в своей достаточно своеобразной деятельности он не подчиняется никому, кроме самой императрицы, – исключительные права при полной неопределенности официального положения. Постоянно присутствующий при дворе, накоротке общающийся с самыми значительными лицами в государстве, он меньше всего может быть назван сановником. И не эта ли явная необычность положения Бецкого становится почвой, питавшей ходившие о нем слухи.
Жизнь Бецкого в первой своей части напоминает самый фантастический приключенческий роман. Сын попавшего в плен к шведам фельдмаршала Ивана Юрьевича Трубецкого и шведской баронессы, он воспитывается и начинает службу за границей. Положение побочного ребенка не открывало перед ним никаких возможностей в России. Неудачное падение с лошади заставляет Бецкого оставить службу в кавалерийском полку. Он путешествует по Европе и в Париже встречает жившую в фактическом разводе с мужем Ангальт-Цербстскую принцессу Иоганну. Как бы ни складывались их отношения, они прерываются беременностью Иоганны. К моменту появления на свет будущей Екатерины II принцесса возвращается к мужу, Бецкой столь же спешно уезжает в Россию. Участие в дворцовом перевороте, возведшем на престол Елизавету Петровну, приносит Бецкому расположение и полнейшую доверенность новой императрицы. Его советы несомненно сказываются на выборе невесты для наследника престола: Елизавета Петровна отдает предпочтение дочери принцессы Иоганны.
Иоганна приезжает в Россию. Бецкой назначается состоять при ней, а после свадьбы будущих Петра III и Екатерины II неожиданно выходит в отставку и вслед за принцессой на целых пятнадцать лет покидает Россию. Он появляется снова в Петербурге только в 1762 году, вызванный Петром III, назначается начальником Канцелярии от строений, и в этой должности его застает очередной переворот. На этот раз к власти приходит дочь принцессы Иоганны. Побочный сын Ивана Трубецкого отныне становится почти обитателем дворца. Екатерина, как успевают подметить современники, предпочитает не видеть Бецкого на официальных придворных приемах, тем более неподалеку от себя (что будешь делать с бросающимся в глаза сходством!). Но она проводит с ним все послеобеденные часы в своих личных комнатах, недоступных никому даже из самых влиятельных лиц в государстве.
«Я сажусь обедать; по выходе из-за стола является гадкий генерал [прозвище, данное Екатериной Бецкому] с своими наставлениями; он берется за книгу, я – за работу», – пишет в ноябре 1764 года Екатерина госпоже Жофрен. Уютная семейная картинка, продолжающаяся и в доме Бецкого, единственном, куда Екатерина приезжала запросто. Только здесь она разрешает проводить свободное от учебы время своему побочному сыну, А. А. Бобринскому. Только дочери Бецкого (снова побочной!), Настасье Соколовой, она доверяет на первый взгляд неприметную должность своей камер-юнгферы, доверенной полунаперсницы, полугорничной. Секреты императрицы тщательно сохраняются в узком семейном кругу. И когда встает вопрос о том, как поступить с Иосифом де Рибасом, неаполитанским проходимцем, оказавшем императрице слишком большую услугу – он был одним из похитителей княжны Таракановой в Италии, – Настасья Соколова навсегда привязывает его к России, став госпожой де Рибас.
Но какие бы силы ни стояли за спиной Бецкого, в первые месяцы своего пребывания в России после многолетнего отсутствия он не может не ориентироваться на мнения и подсказки людей, которым доверяет и с которыми у него складываются дружеские отношения. Рекомендация Никиты Трубецкого, по той или другой причине обратившего внимание на молодого Левицкого, вряд ли была для него безразлична. Бецкой несомненно принял ее к сведению и в свое время использовал, только время это наступает далеко не сразу.
Назначение Бецкого президентом Академии художеств произошло по окончании коронационных торжеств – 3 марта 1763 года, но оно последовало и за утверждением «генерального плана императорского Воспитательного дома в Москве», которое состоялось 10 января того же года. Реализация этого плана сначала занимает Екатерину гораздо больше, чем деятельность Академии художеств.
На первый взгляд чисто благотворительное предприятие, Московский Воспитательный дом, по замыслу его организаторов, должен был служить пополнению «третьего чина и нового рода людей» – третьего сословия, нехватка которого сильно дает о себе знать после правления Елизаветы Петровны. Отсюда для питомцев Дома устанавливаются значительные привилегии. Все они признавались свободными от рождения и не могли быть закабалены в крепостное состояние. Больше того. Крепостная, вышедшая замуж за питомца Воспитательного дома, сама получала свободу, а питомица того же дома, став женой крепостного, сохраняла личную свободу. Питомцы Дома вместе со всем своим потомством получали право приобретать недвижимую собственность, заниматься производством, организацией мануфактур и торговлей, записываться в купеческое сословие. Именно так понималась Екатериной и ее окружением та новая порода людей, создание которой сложившимся в литературе мифом приписывалось Академии художеств.
Но имея в виду распространить систему воспитательных домов по всей стране, Екатерина хотела обойтись без использования государственных средств. Московский дом вообще организовывался на «доброхотных даяниях», за которые дарителям предоставлялись определенные привилегии. Основным же средством поощрения оставалось удовлетворение тщеславия. Каждому из благотворителей уделялось особое внимание. Поэтому Бецкой сразу после открытия Московского дома 21 апреля 1764 года начинает заботиться о портретах опекунов, которые должны были на вечные времена занять почетное место в парадной зале.
Заботы о Воспитательном доме оказываются чрезвычайно трудоемкими. Высокая смертность среди «шпитонков» сводит почти на нет все далеко идущие планы организаторов. В 1767 году она и вовсе достигает апогея: из 1089 принятых детей в живых остается 16. Только коренные реформы ближайших двух лет позволили Бецкому относительно выправить положение и потом уже заняться непосредственно Академией художеств. В ней начинаются перемены, которые приводят, между прочим, и к приглашению Дмитрия Левицкого.
Работы, связанные с коронационными торжествами, по-новому перерешили жизнь Левицкого. Он становится лично известным широкому кругу людей, связанных с Никитой Трубецким, но он завязывает знакомства и среди московских товарищей по профессии, вольных художников, которые постоянно привлекались Канцелярией от строений для очередных работ. Возвращается ли в конце концов Левицкий в Петербург и когда именно? Исповедная роспись Рождественской церкви на Песках в 1764 году уже не называет его среди домочадцев Антропова. В Москве ли, в Петербурге ли Левицкий явно работает уже без Антропова. И это не было результатом ссоры или так часто возникающего между учителем и учениками недовольства, непонимания. Левицкий до конца сохраняет самое теплое чувство к Антропову, семейную связь с его домом. Просто как живописец он перестал нуждаться в его имени и положении. Именно с этого времени можно говорить об известности Левицкого хотя бы в узкопрофессиональной среде.
Левицкого нет в 1764 году в доме Антропова. Его имя всплывает только двумя годами позже опять в Москве в связи с предложением на большую живописную работу. Рель идет о все тех же обветшавших триумфальных воротах, которые нуждаются в срочной и капитальной починке. Особенно значительными были повреждения живописи, выгоревшей, местами покрывшейся плесенью, а то и вовсе смытой дождями и снегом. По существу, ее надо было переписывать заново, что и брался сделать во главе группы московских живописцев Дмитрий Левицкий.
Производивший осмотр ветхостей архитектор Иван Яковлев, знакомый художнику по работе над Никольскими воротами, явно поддерживает предложение Левицкого, сообщая при этом: «А в приобщенных при тех описях скасках от разных живописцев объявлено: в первой малороссиянина Дмитрия Левицкого с товарищи, которой требует во всех воротах за ветхостью картин писание по полотну вновь написать прежними изображениями своими материалы в отведенных казенных покоях, с топлением ево дровами возьмет он 6000, а вперед торговатца не будет». Несмотря на значительность запрошенной суммы, архитектор не высказывает по поводу нее никаких сомнений. Она представляется ему вполне допустимой, учитывая объем и степень ответственности работ.
Поддержка местного московского архитектора сама по себе говорила о многом. Левицкий уже вполне освоился в московской обстановке и главное в среде многочисленных московских вольных живописцев. Конкуренция в городе очень велика, и если приезжий художник не испытывает трудностей ни в получении преимущественной поддержки со стороны строителей, ни в подборе помощников, значит, он сумел зарекомендовать себя работой.
Левицкий подробно объясняет, как и с кем предполагает восстанавливать триумфальные ворота: «1766 году сентября… дня при описи исправлением починок триумфальных четырех ворот живописец малороссиянин Дмитрей Григорьев сын Левицкой с товарищи первым господ стацкого действительного советника и кавалера Михаила Григорьевича Собакина служителем Иваном Петровым, вторым генерал порутчика действительного камергера и кавалера Ивана Ивановича Шувалова служителем же Александром Никифоровым объявили, ежели повелено будет за ветхостию картины писанные по полотну написать вновь прежними изображениями они приемля обязуютца оные со своими принадлежащими материалами в отведенных казенных покоях с своими же дровами исправить при первых Тверских за 1350, при вторых за 1250, при третьих за 800, при четвертых за 600, итого у всех за 6000 рублей, из оной суммы ничего не уменьшая и торговатца с протчими не желают, в чем и подписуюсь. К подлинной скаски рука приложена тако: к сея скаске вместо себя и товарищей живописец малороссианин Дмитрий Левицкий руку приложил».
Смысл документа – он всегда выходит далеко за рамки изложенных в нем фактов. Казалось бы, в данном случае разговор идет о ремесленных поделках, которые ничего не могли добавить к творческому портрету художника. Скажем иначе, положить основание этому портрету, поскольку никаких черт для него еще не удавалось уловить. Но как раз сухая «скаска» и позволяет непосредственно подойти к характеристике художника.
Левицкий берется восстанавливать всю живопись – не только некогда написанные им вместе с Антроповым портреты Екатерины. Его не останавливают ни орнаментальные росписи, ни сложнейшие многофигурные композиции аллегорического характера, сочиненные по «французским книгам». Об этих картинах можно судить по сохранившимся описаниям: «Картина первая. Три грации спускаются с неба со щитом, на котором изображено имя ее императорского величества окруженного фестонами розами лилеями оной вручается России, погруженной в печали, которую ободряет сие светлое видение… Картина третия. Благоразумию сидящая возле древа в руке имеющую минервин в ней жезл дает российскому юношеству средствы к ним благополучию, то есть спокойство и удовольствие со множеством инструментов художеств манифактуры и земледелия». И не менее характерно, что Иван Яковлев уверен в широте профессиональных возможностей Левицкого.
Левицкий представляет себе, как справиться с сюжетными композициями и с большим объемом работ, назначая при этом одну из самых высоких для тех лет цен. И снова для того, чтобы рассчитывать на согласие заказчика, надо было обладать соответствующим профессиональным авторитетом. Наконец, Левицкий останавливает свой выбор на очень примечательных помощниках.
Роль Канцелярии от строений в истории русского искусства заключалась, между прочим, и в том, что она включает крепостных мастеров в число своих исполнителей. Вызовы Канцелярии были обязательны для всех помещиков, а ввиду того, что повторялись они очень часто, многие из используемых ею крепостных художников фактически больше не возвращались к своим владельцам. К тому же руководители Канцелярии принимали все меры, чтобы освобождать от крепостной зависимости наиболее способных и профессионально подготовленных живописцев. Профессия художника, как ни одна другая, позволяла крепостным рассчитывать на относительно свободную жизнь и уважение окружающих.
Левицкий так же обращается к помощи двух крепостных художников, предполагая именно с ними выполнить заказ на починку триумфальных ворот. Но оба живописца, которых он называет, никогда не использовались Канцелярией от строений – первое доказательство, что их профессиональный уровень не был высоким. Если Шувалов в пору своего фаворитизма мог защитить собственного крепостного от вызовов Канцелярии, то для М. Г. Собакина, несмотря на все чины и ордена, это не представлялось возможным. Значит, дело было не в протекции со стороны владельцев, а в действительных возможностях художников. Отсюда вывод, что Левицкий нуждался только в чисто технических исполнителях, в основной части работ рассчитывая на собственные силы.
Но самый факт заявки Левицкого на работу, оцененную в 6 тысяч рублей, позволял очень четко себе представить положение художника в среде товарищей по профессии. Сложившаяся в России, и в частности в Москве, в течение XVII–XVIII веков цеховая организация художников предполагала, что заключение каждого договорного подряда гарантировалось несколькими другими членами цеха – поручителями. Поручители отвечали личным имуществом за соблюдение сроков, качество работ и безусловное выполнение каждого пункта договора. Это была своего рода коллективная ответственность, защищавшая интересы и заказчика и художника, права которого в случае возникавших недоразумений поддерживал от лица цеха городской магистрат.