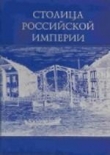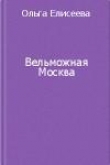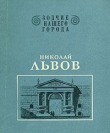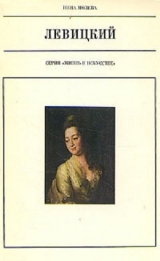
Текст книги "Левицкий"
Автор книги: Нина Молева
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 20 страниц)
Вместе с новым направлением в опере пробуждается особый интерес и к драматическим спектаклям – перемена тем более легкая, что Екатерину отличало редкое безразличие к музыке. Она и не пыталась скрывать, как отчаянно боролась со скукой на любом концерте, и просила доверенных приближенных, вроде А. С. Строганова, подсказывать места и меру восторгов, какие следовало проявлять. Времена Елизаветы Петровны, увлекавшейся симфонической и вокальной музыкой, отошли. «На клавикортах играл и оркестром управлял нововыезжий славный в Европе капельмейстер Г. Боронелли-Галуппи, – записывает С. Порошин. – Ее величество изволила между тем играть в ломбер… Музыку слушали все с крайним услаждением».
Вольтер живо заинтересовывается репертуаром для смолянок. Ему незнакомы колебания: конечно, классические пьесы, конечно, трагедии лишь с самыми незначительными необходимыми сокращениями. Он вызывается заняться этими вариантами сам, подобрать и произвести необходимую переделку. Екатерина растроганно благодарит и оставляет советы без внимания, тем проще, что Вольтер не торопится с выполнением щедро данных обещаний. Через несколько лет, уезжая из России, Дидро со своей стороны пообещает: «Комедии для девиц будут написаны, и притом прежде, чем я достигну преклонного возраста Вольтера». Но первоначальное безразличие Екатерины к рекомендациям Вольтера объяснялось не только иными тенденциями внутри русского театра, по и тем, что императрица была настроена на приезд Дидро, обладавшего прямо про́тивоположными взглядами на будущее сцены.
Дидро далек от сцены, но в год своей петербургской поездки он выступает с «Парадоксом об актере», теоретическим рассуждением о смысле и содержании актерской игры. Бытовые сюжеты в полотнах Шардена и Грёза – бытовая направленность зарождающейся так называемой буржуазной мещанской драмы. В этой тенденции времени, чутко подхваченной Дидро, неизбежно должна решиться и судьба актера. Можно, возбуждая в себе отзвуки заложенных драматургом страстей, стать безотчетным орудием их воспроизведения. Физиологическую подлинность ощущений актера легче всего выдать за выражение чувств его сценических героев, внутреннюю возбужденность перелить во внешнюю форму любой человеческой страсти. Но можно проявление тех же чувств внимательно изучить на людях и научиться воспроизводить, используя весь точно отлаженный механизм актерского мастерства. «Теория нутра» – «теория школы». Дидро отдавал безусловное предпочтение последней. Да и на каком безотчетном возбуждении, потере самоконтроля удалось бы показать обыденные чувства обыкновенных людей, о которых думал он в мещанской драме. Но это и к тому же вопрос точного прочтения авторской мысли и умения владеть зрителями: «Власть над нами принадлежит не тому, кто в экстазе, кто – вне себя: эта власть – привилегия того, кто владеет собой».
В Париже Дидро должен отстаивать свои принципы, в Петербурге в этом нет необходимости. К драматическому театру склоняется русская публика и тяготеет сама императрица, пробующая даже «шутить пером». Принципы «теории школы» уверенно утверждает И. А. Дмитревский, в чьи руки исподволь переходит все дело обучения актеров. Говоря в конце жизни, что не было русского артиста или артистки, которые не пользовались бы его наставлениями, Дмитревский имел все основания присоединить к ним и своих смольненских выучениц. Уроки исполнителей французских трагедий, итальянских комедий, вокалистов и танцовщиков объединялись для смолянок тем истолкованием, которое давал им Дмитревский.
С этим актером и учителем актеров трудно спорить. За его плечами поездки по Европе в 1765 и 1767 годах, дружба с великим английским трагиком Гарриком и личное знакомство с реформаторами французской сцены Лекеном и прославленной актрисой Клерон, сумевшей настоять на полном изменении театрального костюма – от пышного великолепия неподвижных одеяний до простоты почти современной, не стесняющей движений одежды. Но по натуре своей Дмитревский не способен к бездумному подражанию. У него редкий дар чувствовать границы способностей исполнителя, но и пределы возможностей восприятия зрительного зала. Для Смольного он не собирается отказываться от выходящих из моды комических опер. Несложная мелодичная музыка, небольшой, заменяющий оркестр музыкальный ансамбль, несколько не оставляющих все время действия сцены исполнителей, нехитрая интрига и текст, близкий к текстам драматических спектаклей, давали слишком много возможностей для девочек. В каждом выступлении они могли блеснуть всеми гранями своей не уступавшей профессиональному обучению выучки.
На втором портрете смолянок Левицкий изображает воспитанниц третьего возраста – Екатерину Хрущеву и княжну Екатерину Хованскую – именно в сцене из комической оперы. Скорее всего, это Кола и Нинетта из оперы Киампи «Капризы любви, или Нинетта при дворе». В этих партиях девочки выступали партнершами. Этим партиям соответствует и описание костюмов, сшитых театральным портным X. Бичем.
Портрет в роли – XVIII век обращается к этому приему достаточно часто. Необычное, театральное платье, иногда прическа, атрибуты роли и привычные черты лица. Что, собственно, отличает изображение Камарго на сцене кисти Ланкре от портрета балерины? Балетная пачка, танцевальная поза и обстановка сцены – внутренний образ человека остается неизменным, никак не связанным с этой внешней стороной. Для Левицкого все выглядит иначе. Уже в первом портрете младших смолянок он объединяет девочек общим действием, которое для художника важнее простого портретного сходства. В портрете Хованской и Хрущевой то же действие захватывает героев пьесы, которых играют девочки.
Обе исполнительницы очень молоды – Хованской – Нинетте одиннадцать, Хрущевой – Кола и вовсе десять лет, – но выражение их лиц, позы, мимика, жесты говорят не о возрасте исполнительниц, а о ролях, которые они уверенно и точно ведут. В плутовской усмешке лихо подбоченившегося Кола, уверенно взявшего за подбородок растерявшуюся Нинетту, нет и тени смущения. Кола явно доволен собой и растерянностью своей партнерши. В институтском театре, где никогда не выступали мальчики, Хрущева считалась непревзойденной исполнительницей мужских ролей. Некрасивая живая смуглянка, она сумела произвести такое впечатление на шведского короля Густава III своим сыгранным под уродливой маской Азором из оперы «Семира и Азор», что, завзятый театрал, он прислал ей в подарок бриллиантовое сердечко.
Но и стыдливая застенчивость Нинетты, ее отведенный в сторону взгляд, скованные кажущейся неловкостью руки вписываются в рисунок роли. По характеру Екатерина Хованская даже девочкой далека ото всех этих черт. Со временем об ее дочери, восхищавшей воображение В. А. Жуковского, Аграфене Оболенской, будут говорить, что она вылитый портрет матери: «Смесь простосердечия и веселости, несколько насмешливой». После окончания института и замужества с неким фон Ломаном Хрущева перестанет привлекать к себе общее внимание. Театральные успехи легко уходят в небытие. Зато Хованская окажется в центре придворной и литературной жизни столицы. Вокруг ее мужа, талантливого поэта Ю. А. Нелединского-Мелецкого, «русского Анакреона», по выражению современников, ореол создателя первых по-настоящему популярных песен «в русском вкусе», и многие готовы признать, что лучшая их исполнительница, особенно песни «Выйду ль я на реченьку», – Екатерина Ивановна. Нинетта давно забытой оперы, она до конца своих дней сохранит врожденную грациозность и поражавшую еще в детстве преподавателей танца выразительную гибкость рук.
Впрочем, в практике Смольного была одна особенность, позволявшая всегда добиваться хорошего исполнения. Девочек на роли не назначали, но каждой исполнительнице приходилось проходить обязательный конкурс. Как рассказывает Екатерина Вольтеру, «девицам объявляют, что будет играться такая-то пиеса; их спрашивают, кто желает играть такую-то роль; часто случается, что целая толпа заучивает одну и ту же роль, а потом для представления выбирается та из девиц, которая лучше других ее исполняет».
Левицкий представляет маленьких актрис в ходе диалога и в обстановке сцены. Перед ними так называемая малая выдвижная кулиса, изображающая покрытый травой холмик. В театре тех лет она служила обычно экраном у дополнительного источника света – плошек, которыми подсвечивали исполнителей помимо рампы. За девочками одна из наиболее распространенных форм декораций – «ширмы или кулисы задвижные» с перспективным, в данном случае «садовым представлением». Они были особенно необходимы при отсутствии специально оборудованной стационарной сцены. Несмотря на регулярный характер спектаклей и постоянно растущую их популярность, Смольный такой сцены не имел. Мостки сооружались заново для каждого представления и разбирались сразу же после него – своеобразный прием отвести обвинение Дидро в том, что школа готова превратиться в театральное училище. Но достаточно Дидро уехать из Петербурга – о втором приезде философа никто не думал, – и Смольный получает превосходно оборудованный зрительный зал.
Первым среди русских художников Левицкий пишет театральные сцены и едва ли не единственный среди современников не работает в театре. И все же смолянки говорят о том, насколько театр Левицкому близок и знаком – увлечение, зарождающееся, по всей вероятности, еще в московские годы. Если Петербург – это прежде всего придворный театр, то Москва 1760-х годов – настоящий цветник театров общедоступных. Со времен Комедийной хоромины Петра I город не жил без театра. Театру на Красной площади с его тремя тысячами мест наследует открывшийся в 1742 году Оперный дом в Лефортове на пять тысяч зрителей. Просуществовавшему более двадцати лет Публичному театру при Московской гошпитали с его драматическим репертуаром наследует открывшийся в 1758 году театр при Московском университете с актерами-студентами и собственно школой, откуда вышел знаменитый Плавильщиков.
Одновременно в Москве существует антреприза русского театра, которую держит полковник Титов в деревянном театре Головинского дворца. Титова сменяют в этой роли итальянцы Чуди и Бельмонти и даже московский губернский прокурор П. В. Урусов. Позднее Урусов передает антрепризу М. Е. Медоксу, который строит специальное каменное здание на месте нынешнего Большого театра. Екатерина делает замечание московскому главнокомандующему Прозоровскому о недостаточном внимании к театральному делу в то время, когда старая столица насчитывает 15 частных театров, в которых занято в общей сложности 226 актеров, музыкантов и певцов. Получая антрепризу русского театра, Медокс берет при этом на себя обязательство обучать танцам, музыке и декламации 104 питомцев Московского Воспитательного дома. Потребность в актерах была исключительно острой.
Левицкий не мог остаться в стороне от театральных увлечений Москвы еще и потому, что оказался в большей или меньшей степени связанным с окружением Н. Ю. Трубецкого. Именно Н. Ю. Трубецкой становится «крестным отцом» волковского театра. Он сообщает Елизавете Петровне о появившейся в Ярославле труппе, помогает ее членам и среди них И. А. Дмитревскому попасть для получения образования в Сухопутный шляхетный корпус.
В серии первых смолянок Екатерина Нелидова последняя и старшая. Она только что перешла в четвертый возраст и давно утвердила за собой славу самой талантливой исполнительницы театра в Смольном. В канун выпуска о ней будут писать стихи, не жалея восторгов, поэты и даже сам Сумароков, но и теперь у начальницы института хранятся подаренные ей императрицей за великолепную игру тысяча рублей и бриллиантовый перстень. У зрителей нет разногласий: можно спорить о достоинствах других смольненских артисток, но невозможно превзойти маленькую Нелидову в искусстве танца, пения и особенно актерской игры, живой, выразительной, темпераментной, иной в каждой новой роли. Это о ней прежде всего скажет Дидро как о достойной сопернице французских актрис, ее будет иметь в виду в письме Вольтеру Екатерина, говоря, что профессиональным актерам Петербурга далеко до смолянок. И коронная на протяжении нескольких лет роль девушки – Сербина в «Служанке-госпоже» Д.-Б. Перголези, той самой первой опере-буфф, которой итальянский композитор еще в 1733 году заявил о рождении этого нового жанра.
Через двадцать лет «Служанка-госпожа» дойдет до Парижа, став причиной ожесточенной «войны буффонов» – сторонников и противников этой формы в искусстве, а спустя еще двадцать лет засверкает в Петербурге в исполнении Екатерины Нелидовой. В конце концов комическую оперу повсюду защищали представители третьего сословия, которое приобретает к этому времени большое значение и в государственной жизни России. Отсюда тот исключительный интерес, который опера вызывает среди петербуржцев.
«Как ты, Нелидова, Сербину представляла,
Ты маску Талии самой в лице являла,
Приятность с действием и с чувствиями взоры,
Пандольфу делая то ласки, то укоры,
Пленила пением и мысли и сердца.
Игра твоя жива, естественна, пристойна;
Ты к зрителям в сердца и к славе путь нашла;
Не лестной славы ты, Нелидова, достойна,
Иль паче всякую хвалу ты превзошла!»
Нелидова Левицкого – сама юность. Она весела, насмешлива, задорна. Ее миловидное личико светится лукавством и уверенностью в себе. Она готова на все одновременно – смеяться, упрямиться, капризничать, стоять на своем и снова веселиться. Для зрителей танцевальное и вокальное мастерство девушки полностью сливаются с характером, который она представляет. При всей условности оперного сюжета они воспринимают убедительность драматического воплощения. А между тем в жизни Нелидова совсем иная.
Не она умеет расшевелить ровесниц, вызвать их на шутку и проказы. При всей живости и непосредственности своей натуры Нелидова с детства отличается серьезностью, скромностью, непритязательностью и простотой. Она может от души рассмеяться, но не любит кокетничать. Она боготворит сцену, но старается не бросаться в глаза в жизни. Ей не свойственна хитрость, и она не способна ни к какой расчетливости. Долгие годы близости с Павлом не принесут ей никаких богатств или преимуществ – Нелидова упрямо будет отказываться от каждой попытки упрочить ее положение, которые делает сначала наследник престола, потом император. Едва ли не единственная в многолюдном окружении Павла она действительно привязана к нему, способна огорчаться его огорчениями и радоваться его скупым и редким радостям ненавистного сына, всегда опасного самим фактом своего существования как наследника.
«Нет! Как хотите, не верю вам, государь! вы хотите меня обмануть. Вы хотите уверить меня, что мои речи для вас музыка, и вы так часто заставляете меня молчать». Другое письмо, адресованное из одной комнаты дворца в другую: «Извещаю вас, государь, о чуде! Вы, быть может, сами ему не поверите, хотя оно касается вас. Оно поразит вас без дальнейших подробностей: вот уже неделя, как я ежедневно получаю от вас письма!!! Моя нескромность, может быть, навсегда прекратит чудо». Легкий, стремительный почерк, безукоризненная французская речь, точные образные обороты.
Для Павла, издерганного постоянной слежкой и унижениями «большого двора», пережившего смерть первой горячо любимой жены и оказавшегося связанным новым браком с женщиной, которую он никогда не сумеет увидеть близким человеком, в Нелидовой действительное чудо человеческих отношений и чувств. И лишнее доказательство искренности вчерашней любимицы смольнинской сцены – тот риск, которому ради него она подвергает себя. Нелидова бедна, не может рассчитывать на поддержку влиятельных родственников, а каждое проявление симпатии к наследнику – безотказный способ вызвать недовольство, если не ненависть со стороны его коронованной родительницы. Екатерина опасается каждого преданного наследнику человека, тем более женщины, всегда способной на любую крайность поступков и прямую самоотверженность.
«Связи, существующие между нами, их свойство, история этих отношений, их развитие, наконец обстоятельства, при которых и вы, и я провели нашу жизнь, все это имеет нечто столь особенное, что мне невозможно упустить все это из моей памяти, из моего внимания в особенности же в будущем» – слова Павла, казалось, стоили всей горечи пережитого среди презрения и ненависти двора. Не случайно в момент тяжелой болезни он будет просить Екатерину позаботиться только о Нелидовой. И все же слова будущего монарха – только слова. Павел на престоле. После стольких лет ожидания наконец самодержец, хозяин всех своих желаний и поступков. Но случайная встреча с юной красавицей Лопухиной, и старая дружба становится надоевшим и тягостным грузом. Счастье, что Нелидова и здесь остается верна себе – без объяснений, без ставших ненужными слов. За это в Смольный, куда она возвращается, чтобы кончить в знакомых стенах свои дни, можно прислать письмо со всеми снисходительными выражениями монаршьего благоволения: «Михайловский дворец 1 марта 1801 года. Мне было весьма утешительно, сударыня, отплачивая вашим племянникам тем, на что дают им права их заслуги, тем самым сделать вещь, лично вам приятную. Не менее отрадно было мне получить от вас ваше одобрение, ибо это дало мне повод засвидетельствовать вам те чувства и то уважение, с коими пребываю преданный вам Павел». Речь шла о родителях внучатого племянника Нелидовой, поэта Евгения Баратынского.
Вряд ли Левицкий не увидел и не угадал настоящего характера своей модели – он ставил перед собой и решал иную задачу. Слова современника «всяк действие твое за истину считал» могут быть обращены и к портретисту. Левицкий писал сценический образ, который на этот раз и представлял для него истину.
Спустя девять лет Левицкий напишет портрет другой, теперь уже профессиональной актрисы, итальянки Анны Давиа Бернуцци. «Первая певица комической оперы и вторая певица серьезной оперы», как будет оговорено ее положение в контракте, Бернуцци приедет на гастроли и задержится в России на несколько лет. Она сумеет обворожить самого всесильного статс-секретаря Екатерины А. А. Безбородко, и современники торопятся с подробностями – во что обошлось неосторожному сановнику его театральное увлечение. По мнению молвы, только вмешательство императрицы, собравшейся выслать ловкую итальянку, положило конец безумствам готового разориться Безбородко.
Правда, даже в результате самого пылкого романа расчетливому и хитрому статс-секретарю куда как далеко до разорения. Верно и то, что после имевшего место, но невыясненного в подробностях инцидента с императрицей Бернуцци заключает новый контракт на пребывание в России на еще более выгодных условиях. Не менее Безбородко расчетливая, мелочная, знающая цену и цель каждого шага, певица не слишком разбирается в способах достижения своих целей. У Бернуцци хороший голос, превосходная актерская выучка и полное безразличие к ролям, которые приходится исполнять. Это всегда безукоризненно разученные вокальные партии – не роли. Бернуцци можно восхищаться на сцене – ее нельзя переживать. Такой она и предстает на холсте Левицкого.
Бернуцци Левицкого великолепна в упругом, будто на мгновенье задержанном развороте полного тела, скользящем движении сильных рук, каскаде перехваченных бантами, отороченных дымкой кружев, блестящих и матовых, плотных и прозрачных тканей, густых смоляных волос, цветов, чудом удержавшихся у края перевитой лентами шляпки, падающих в кисею передника. В ее напряжении не столько темперамент артистки, сколько уверенность в себе женщины, сознание своих женских возможностей и своей власти. Недобрый взгляд темных под припухшими веками глаз, властный разлет широких бровей, хищно изогнутый кончик длинного носа, сложенные в подобие улыбки неулыбающиеся губы стирают ощущение молодости. Таким характером не могла быть наделена ни одна из сценических героинь актрисы. За этим характером для художника перестает существовать даже пресловутая красота певицы, которую охотно или неохотно признавали за ней все петербургские зрители.
Нелидова – Сербина захвачена наслаждением игры, упивается собственной ловкостью, изобретательностью, очарованием. У певицы Бернуцци все просто – она показывает себя и утверждает себя, спокойная, самоуверенная, не признающая неуспеха. Этой цели служат и приобретающий условный характер костюм и тяжелое движение рук, повторяющих жесты Нелидовой. За прошедшие годы изменится характер художника – останется все то же ясное видение цели: роль, сыгранная подростком, и портрет женщины с атрибутами сцены.
Но девять лет – немалый срок и для русского театра этого времени. И успех смолянок, которых пишет на первых трех портретах предполагаемой серии Левицкий, определяется не только несомненной одаренностью девочек и хорошей их выучкой – иначе ни одна из них не привлекла бы к себе внимания патриарха и многолетнего руководителя русского театра Сумарокова. Для русской сцены редкостью была женщина-актриса. Большинство женских ролей даже в придворной профессиональной труппе продолжали исполнять мужчины. Поиски актрис представляли бесконечные сложности, и когда в том же, 1773 году умирает от чахотки восторженно любимая публикой Татьяна Троепольская, труппе приходится менять репертуар. Ни о втором составе, ни о замене нельзя и мечтать. И Нелидова в глазах современников была прежде всего актрисой.
Подобно портрету Дидро, первые три портрета смолянок закончены к приезду французского гостя. Дидро не может не знать об их существовании, не может не видеть их, и тем не менее ни словом не упоминает о холстах. Секрет молчания был, по-видимому, скрыт в самом Смольнинском театре. Дидро – убежденный поборник драматического представления, заключающего в себе неизмеримо большие возможности реалистического воспроизведения жизни, чем давно пережитая французским театром комическая опера. Для Дидро опера-буфф – безделица для придворных развлечений, лишенная той поучительности, без которой он себе не мыслит сцену. Поставленные с большой пышностью спектакли Смольного ему претят так же, как безудержная роскошь екатерининского двора. Декорации, которыми философа старательно окружают на каждом шагу, не могут противостоять начинающемуся разочарованию, хотя Дидро и старается по возможности свои действительные настроения скрыть. Его обращенные к императрице шутливые стихи пока еще полунамеком напоминают о несдержанных обещаниях, не осуществившихся планах, высоких целях, к которым никто так и не стал идти в государстве просвещенной монархини.
Дидро уезжает, безукоризненно вежливый, чуть ироничный, Екатерина знает – во многом он охладел к их общим мечтаниям. Но императрицу теперь больше интересует Д. Гримм, признанный знаток искусств, приобретший известность обзорами, которые составлял для коронованных особ. Екатерина не хочет отставать от моды. Вслед оставившему Петербург Гримму летит приглашение вступить в переписку с русской императрицей – «откровенный обмен мыслей», в котором Екатерина рассчитывает заново сыграть не слишком удавшуюся в отношении Дидро роль. К тому же Гримм несравненно снисходительнее к монаршьим отступлениям от великих целей. Ему доступны коррективы к принципам, которых даже в мыслях не допускал Дидро, и именно ему Екатерина будет годами поверять все, даже интимные подробности своей жизни – от ссор с фаворитами до капризов любимой левретки.
Но, так или иначе, с отъездом Дидро и Гримма смолянки явно перестают занимать мысли императрицы. Конечно, спектакли продолжаются – теперь уже в специально оборудованном зале. Публика может с неослабевающим энтузиазмом восхищаться, но пройдет около двух лет, пока Левицкий получит новый заказ, связанный со Смольным, и к тому же на единственный портрет. Никакого продолжения серии задумано не было: размер холста в новой картине иной, да и композиционно портрет не связывается с первыми полотнами.
Александра Левшина, «черномазая Левушка» – предмет совершенно необъяснимой привязанности императрицы, далекой от каких бы то ни было сантиментов. Десятки писем, записочек, шутливых, ласковых, заботливых – все долгие годы институтского курса Екатерина не оставляет девочки. Кажется, к ней одной расчетливая на слова и поступки императрица обращает те чувства, в которых раз и навсегда отказала собственным детям, будь то Павел, сын ненавистного Петра III, дочь Потемкина – Елизавета Тёмкина, или сын Григория Орлова – граф Алексей Бобринский. Там Екатерина выражает только недовольство, делает замечания, читает нотации, здесь готова смеяться, шутить, даже растрогаться. Куда дальше, если для портрета «Левушки» находится место в личной комнате императрицы. «Ты должна также справиться у него, – пишет в 1773 году Екатерина Левшиной о Бецком, – зачем он поставил в моей комнате в Зимнем дворце турецкий диван. Он обыкновенно ставит в мою комнату все, что захочет, только твое личико работы Молчановой я сама поставила. Это – любимая вещица, которая не покидает местечка, мною для нее назначенного, или, лучше сказать, которое ты сама ей дала».
Что привлекало Екатерину в «Левушке»? Откровенная влюбленность (не слишком ли откровенная?), пылкость многословных излияний (не слишком ли частых?) или умение говорить о своих чувствах на бумаге (Екатерина сама не замечает, как нужно ей именно написанное слово)? Подозрительная к другим, в письмах «Левушки» она неспособна отличить правды от позы, да и не пытается искать этого отличия. «Что до меня, то я все такая же, какою ваше величество видели меня в тот день, когда вы удостоили нас своим присутствием, то есть прыгаю, скачу, бегаю, смеюсь, играю в волки по вечерам. Но какая разница против того вечера, когда мы имели честь держать прекрасные руки вашего величества, играя в эту игру: по крайней мере мне так хотелось поцеловать их, но я не смела» – записка Левшиной императрице в 1771 году. Екатерина отзовется спустя год о характере своей любимицы: «Та большая девица из белых со смугловатым лицом, с попугаячьим носом, которая некогда выпускала такой запас гласных, когда я приезжала в монастырь и уезжала оттуда, пишет столь же натурально, сколько письма ее полны игривостей».
Восторженность «Левушки» в конце концов оправдывает себя. Единственную из выпуска Екатерина возьмет ее в число своих фрейлин, поселит рядом со своими апартаментами во дворце. Благосклонность императрицы – не она ли позволит «Левушке» найти одного из богатейших женихов, князя П. А. Черкасского. В 1779 году комнаты «Левушки» во дворце передаются под библиотеку Вольтера. Екатерина перестает поминать имя былой любимицы, никак не отзовется на ее раннюю смерть: «Левушка» умерла двадцати четырех лет.
Но все это в будущем, а пока как совместить легкий, непоседливый, склонный ко всяким проказам нрав «Левушки» с образом, который возникает в портрете? Левшина Левицкого много старше своих едва исполнившихся семнадцати лет. И художник словно подчеркивает ее «взрослость»: серьезность крупного бледного лица, неулыбчивый взгляд темных глаз, внутреннюю сосредоточенность, которой так противоречит нарочито кокетливая поза. Впрочем, эта поза связана с совершенно определенной условностью – театральной. Подобно Хованской, Хрущевой, Нелидовой, «Левушка» представлена в театральном платье.
Костюм – если для современного нам платья совершенно очевидны его особенности: эволюция моды, изменение характера силуэта, разработки деталей, смена цветов, наконец, связанность определенных решений с определенными условиями, то относительно прошлого те же особенности перестают восприниматься. Во всяком случае, подобная направленность анализа не присуща исследователям. Рассматривается общий характер моды XVIII столетия, ее особенности в отдельные десятилетия, но не тонкости воплощения внутри этих отдельных периодов.
В литературе можно найти отличие костюма придворного и дворянского, но гораздо труднее ориентироваться в отличиях костюма театрального и маскарадного, среди собственно театрального платья, между костюмом балетным и просто сценическим, оперным или драматическим. Между тем эти градации существовали и самым строгим образом соблюдались. Маскарадное платье, платье для менуэта, костюм для пасторали – понятия, которыми широко пользуются те, кто писал о смолянках, начиная от А. Бенуа и до наших дней. Но маскарадный костюм 1760–1770-х годов в России не имел ничего общего с платьями на полотнах Левицкого, делался из иных тканей, а главное смолянки, согласно принятым в институте принципам воспитания, ни в каких маскарадах участвовать не могли. Что же касается некоего платья для менуэта, которое хотят видеть на Нелидовой или Левшиной, то такого рода платья просто не существовало, а менуэт сам по себе не служил сценическим номером.
Менуэт был «обичайным» танцем, танцевавшимся на балах. На нем не показывали достигнутого мастерства – с него вообще начинали обучение. В танцевальных классах этого времени, имевшихся во всех без исключения учебных заведениях, после «постановки позиций» изучали «купе» и дальше все многообразие менуэтов – «ординарной», «амуре», «британской» и «немецкой». Затем шли более сложные танцы, как «паспие», «старое паспие», «ланжу». Лишь постигшие все их тонкости ученики могли рассчитывать «танцевать балет», то есть композиции, которые одни только и считались допустимыми для сценического исполнения. Смолянки могли исполнять балет или танцевальные номера, но не выступать с «обичайными» танцами, которые в глазах современников не представляли никакого интереса. О сложности исполнявшихся танцев свидетельствовало, между прочим, то, что сценическая площадка в Смольном посыпалась, как и в профессиональном театре, мокрым песком. «Обичайные» танцы танцевались на навощенном до зеркального блеска паркете.
К тому же на всех смолянках, представленных Левицким в так называемых танцевальных позах, нет собственно балетных костюмов. Юбки смолянок укорочены значительно меньше, чем того требовали условия балета, но ровно настолько, чтобы танцевать в опере или драматическом спектакле – до щиколотки.
По-видимому, предлогом для написания портрета Левшиной, причем именно в театральном костюме, должно было послужить одно из ее выступлений. Действительно, в начале 1775 года «Левушка», отличавшаяся вообще в драматических спектаклях, с выдающимся успехом сыграла заглавную роль в «Заире» Вольтера. Одна из ранних и наиболее романтических трагедий писателя – парафраз на «Отелло» Шекспира, – «Заира» оказалась наиболее близкой складу дарования девушки со всей напряженностью действия, яркостью представляемых страстей и большой внутренней темпераментностью. Память об удаче «Левушки» осталась в строках Сумарокова: «Под видом Левшиной Заира умирает». Любопытно и то, что среди описаний костюмов театрального гардероба Смольного платье Левшиной соответствует описанию костюма Заиры. Екатерина писала Вольтеру: «нам легко облечать наших героев в одежды, одинаково приличные и их ролям, и их… положению».