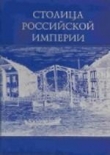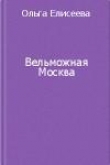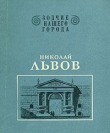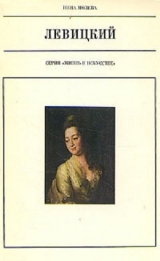
Текст книги "Левицкий"
Автор книги: Нина Молева
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 20 страниц)
Но решение Строганова в отношении Левицкого опоздало. События, развертывающиеся после заключения в том же, 1807 году Тильзитского мира, не оставляют сомнений в изменении отношения Александра I ко всем видам свободомыслия, обвинение в котором тяготело и над Новиковым и над Левицким. К тому же развертывающаяся подготовка к Отечественной войне делала все предпринимаемые императором меры безусловными, исключая самую возможность их обсуждения или смягчения. К тому же в самый канун Отечественной войны Строганова не стало: простудившись на торжественном освящении Казанского собора в Петербурге, он скоропостижно умер. Александр I не хочет повторять былых ошибок с выбором руководителя Академии, как и не хочет упустить возможности полностью подчинить ее бюрократической администрации. Смерть Строганова давала повод сразу же приступить к намеченным планам.
Академия должна стать проводником официального искусства – а это последнее начинает все больше разниться от поисков и стремлений передовых художников, – ей предстоит превратиться в департамент, подчиненный всем тем бюрократическим условиям, которые распространялись на имперских чиновников. Поэтому наблюдение над ней передается министру народного просвещения.
Период либеральных настроений Александра – «дней александровых прекрасное начало», по выражению Пушкина, оказывается слишком недолгим. Тильзитский мир, разрядив до известной степени международную обстановку, создал большие затруднения в экономике страны. Популярность нового императора среди дворянства начала быстро падать вплоть до идей нового дворцового переворота. Перед лицом подобной опасности Александр предпринимает решительные шаги для укрепления своей власти. Он назначает военным министром Аракчеева и одновременно начинает наступление на те небольшие уступки, которые были им ранее сделаны.
Самоубийство только что возвращенного из ссылки Радищева послужило предвестием зарождающейся реакции. Перед лицом опасности, которую таила в себе по отношению к крепостнически-самодержавному строю независимая общественная мысль, проявлявшаяся и в литературе, и в искусстве, и в самой постановке народного образования с его официально признанным уклоном в сторону философских и естественных наук, Александр предпочитает со всей определенностью выступить на защиту существующего порядка. Борьба за укрепление позиций самодержавия развертывается под знаменем уничтожения «богопротивной философии» так недавно превозносимого французского просветительства, которое провозглашается повинным в распространении «вольнодумства и разврата».
Еще в годы правления Павла реакционно настроенные круги отмечали как одну из наиболее значительных заслуг императора введение им строгого контроля над идейной жизнью общества. «Мудрую прозорливость свою император Павел, – писал профессор И. Гейм, – доказал в споспешествовании истинному преуспеянию наук чрез учреждение строгой и бдящей цензуры книжной. Познание и так называемое просвещение часто употреблено во зло чрез обольстительные нынешних сирен напевы вольности и чрез обманчивые призраки мнимого счастья. Европейские правительства, спокойно взиравшие на разврат сей, возымели наконец правильную причину сожалеть о своем равнодушии: возвратились в Европу мрачные времена лютейшего варварства. Сколь счастливою должна почитать себя Россия, потому что ученость в ней благоразумными ограничениями охраняется от всегубительной язвы возникающего всюду лжеучения».
По существу разделяя подобную точку зрения, Александр понимал, что в новых условиях методы Павла стали неприемлимыми. Он прибегает к более тонким приемам, задавшись целью регламентировать и ввести в надлежащее русло все проявления культурной жизни. Цензурный устав 1804 года продолжает оставаться в силе, но в нем приводятся в действие все те многочисленные пункты, которые позволяли создавать непреодолимую преграду для передовых идей. Как из своего непосредственного окружения Александр удаляет членов кружка «молодых друзей», так и в государственном аппарате вообще начинается постепенное замещение руководящих должностей лицами, свободными от либеральных увлечений. Проекты реформ, над которыми работал М. М. Сперанский, были заранее обречены. Смысл их создания сводился в конечном счете к тому, чтобы отвлечь внимание общества и смягчить происходивший переход от первоначальных широких реформаторских замыслов к реакционной идеологии «Священного Союза». Даже те немногие из предложений Сперанского, которые были осуществлены, правительственные круги сумели обратить на укрепление реакционного курса. Сам Сперанский в 1812 году был отправлен в ссылку.
Борьба с Наполеоном, по словам Белинского, «пробудила дремавшие силы России и заставила ее увидеть в себе силы и средства, которых она дотоле сама в себе не подозревала. Чувство общей опасности сблизило между собой сословия, пробудило дух общности и положило начало гласности и публичности». Но этим новым веяниям противостоял весь аппарат самодержавной власти. Русский царь становится во главе международной реакции, и именно его усилия приводят к тому, что Венский конгресс знаменует собой начало эпохи реставрации, принявшей особенно тяжелые формы в самой России. Поняв в полной мере роль идеологии в общественной жизни, Александр стремится создать официальное ее направление, противостоящее каким бы то ни было проявлениям свободной мысли. Теориям противопоставлялась теория, доказательствам – доказательства. Другой вопрос, что официальная идеология получает все условия для того, чтобы стать всесильной.
Утверждение новых ее положений начинается снова с окончательного искоренения традиций философского просвещения XVIII века. В противовес ему выдвигается формула «постоянного и спасительного согласия между верою, ведением и властью». Это означало установление непререкаемого авторитета церкви, с точки зрения догматов которой рассматривается все построение специального и общеобразовательного обучения и содержание преподаваемых дисциплин вплоть до естественных наук и математики. «Науки не составят без веры и без нравственности благоденствия народного, – откровенно заявлял министр А. С. Шишков. – Они сколько полезны в благонравном человеке, столько же вредны во злонравном. Сверх того науки полезны только тогда, когда, как соль, употребляются и подаются в меру, смотря по состоянию людей и по надобности, какую всякое звание в них имеет. Излишество их, равно как и недостаток, противны истинному просвещению. Обучать грамоте весь народ или несоразмерное числу оного количество людей принесло бы более вреда, нежели пользы. Наставлять земледельческого сына в риторике было бы приуготовлять его быть худым и бесполезным, или еще вредным гражданином. Но правила и наставления в христианских добродетелях, в доброй нравственности нужны всякому». «Министр народного просвещения, воспитания юношества и распространения наук» стал отныне именоваться «министром духовных дел и народного просвещения», и сама по себе перемена титула давала достаточное представление о том курсе, какой правительство отныне собиралось осуществлять.
Естественно, что насаждение официального искусства начинает вестись прежде всего через Академию художеств как государственное учреждение. Над Академией устанавливается строжайший бюрократический контроль. Ограничиваемая и мелочно руководимая в своей практике административными предписаниями, Академия неизбежно теряла связь с передовыми направлениями в искусстве, хотя у их истоков стояли почти исключительно ее преподаватели и воспитанники, и тем самым лишалась своей былой роли идейного центра национального искусства. С октября 1811 года и вовсе, издается указ, «чтоб Академия впредь до повеления управляема была вице-президентом под ведением г. министра народного просвещения». Былая автономия Академии подошла к концу, и желание Левицкого вернуться в ее стены теперь тем более могло встретиться только с отказом.
Казалось бы, частный эпизод в жизни художника, который к тому же мог быть вызван чрезвычайными обстоятельствами военного времени, в действительности определяет то положение, в котором отныне и до конца своих дней останется Левицкий. Никаких упоминаний его имени в делах Совета, ни в печати, никакого участия в выставках, которые будет достаточно регулярно проводить Академия художеств. Но ведь и Новиков будет оставаться в те же годы в своем Авдотьине, только теперь уже Лабзин не посредничает в его сношениях с Левицким и – почем знать! – начинает им препятствовать. Склонность Новикова к масонам в той мере, в какой последние представляли оппозицию официальной идеологии, становится все более неприемлемой для Лабзина, который, все глубже уходя в проблемы мистицизма, старается вообще исключить проблемы современности. И не потому ли его журнал с точно определяющим свою внутреннюю тенденцию названием «Сионский вестник» читается в тех домах и теми, кто представлял антипод освободительным настроениям будущих декабристов и тех, кто им сочувствовал. И если известный своими реакционными установками А. Н. Голицын в первые годы XIX века входит с представлением о закрытии изданий Лабзина, то непосредственно после Отечественной войны он же выхлопатывает своему, казалось бы, идейному противнику орден Владимира. Другой вопрос, что после Венского конгресса Александр готов отказаться от любой формы «идейных неясностей», если даже они исходят от людей типа Лабзина. В декорациях, сооружаемых пусть вполне благонадежными руками, нет необходимости. Любые «умствования» представляются одинаково ненужными, нарушающими казарменный распорядок имперского существования.
Общепринятая точка зрения о неизменной связи Левицкого в последние годы его жизни с Лабзиным явно нуждается в пересмотре. Левицкий действительно становится членом организованной Лабзиным в 1799 году ложи «Умирающий сфинкс» и по своему положению в ней занимает второе место после Лабзина. Однако художник не был так «тверд» в своих масонских убеждениях, как бы того хотелось руководителю ложи с его безмерным честолюбием и стремлением подчинить своей власти всех «братьев». Категоричность позиции Лабзина сравнительно скоро вызывает первые недоразумения между членами ложи, все более острые конфликты, кончающиеся уходом отдельных «братьев». Здесь переплеталось воедино и нежелание признавать достаточно тяжелую и безоговорочную ферулу Лабзина и чисто идейные расхождения, поскольку постулаты масонства в интерпретации Лабзина слишком явственно противостояли идеям широко развившегося свободомыслия и гражданственности.
Уже после своего возвращения в состав академического Совета Левицкий фигурирует в протоколах «Умирающего сфинкса», сохраняя по-прежнему свое второе по значению место среди ее членов. Здесь присутствует и другой художник – воспитывавшийся в Академии еще во времена Левицкого И. П. Чернов, который в 1800 году получил звание академика живописи исторической. С 1803 года он становится учителем рисования старших классов, и гравер Ф. И. Иордан пишет о нем: «Иван Потапович Чернов был хороший художник, учитель и как человек был примерный, примерная личность, к тому же мягок был и очень набожен. Высокого роста, деятельный учитель был всеми уважаем». Остальные члены ложи были из дворян, причем занимавших немаловажные места на государственной службе. Одним из наиболее влиятельных был А. Г. Черевин, в доме которого в Двадцатой линии Васильевского острова происходили собрания «Умирающего сфинкса» часто под предлогом любительских спектаклей, к которым выпускались специальные афишки: «Ее превосходительства притворными актерами представлено будет…» В 1809 году Черевин женился на сестре известного «мартиниста» Д. П. Рунича, находившегося под особым покровительством Новикова, очень дружного с их отцом. Левицкий в это время продолжает работать как художник, о чем свидетельствует уважительное упоминание в «Санкт-Петербургской адресной книге»: «Левицкий Дмитрий, надворный советник и Советник при императорской Академии художеств. Васильевская часть в собственном доме».
Остается неизвестной причина, по которой Левицкий выходит из состава лабзинской ложи. Впрочем, к 1818 году, достаточно подробно описанному в дневнике А. Е. Лабзиной, исчезает весь первоначальный состав «Умирающего сфинкса». Последним оказывается Черевин, о «бунте» которого она вскользь упоминает. «Бунт» Левицкого явно произошел значительно раньше – дополнительный предлог, отрезавший для художника всякие связи с Академией. Непримиримость Лабзина относительно каждого, кто хоть в какой-то мере уклонялся от его властной руки, общеизвестна. Левицкого «забывают» приглашать присутствовать в Совете, и одновременно из окружения Лабзина начинают ползти слухи о недомоганиях художника, неспособности работать, доходящей до фанатизма религиозности. А. Е. Лабзина ни разу не называет имени Левицкого, тогда как видевшая все происходящее только глазами своей суровой воспитательницы С. Лайкевич, если что-то и отмечала в своих многими годами позже написанных записках, то так, как это виделось обоим Лабзиным.
Однако внимание к Левицкому, проявленное при поддержке Строганова, находит отклик и в том отношении, которое испытывают к художнику представители молодого поколения живописцев, в том числе академических преподавателей. Тогда как С. С. Щукин неизменно остается в стороне, вернувшийся из заграничной пенсионерской поездки А. Г. Варнек ищет способа поддержать старого мастера и выразить ему уважение молодых портретистов. За отсутствием штатных мест Варнек не зачисляется в Академию и выражает желание начать преподавать бесплатно. Предложение Строгановым принимается, и по его указанию новому педагогу выделяется самостоятельный класс из числа учеников портретного и исторического классов. Это сразу же уравнивает Варнека в правах со Щукиным, и одним из первых его жестов в отношении Левицкого становится предложенная И. Яковлеву программа на звание академика – портрет Левицкого, в котором Варнек, согласно академическому преданию, сам проходит лицо. Тогда же появляется и своеобразный групповой портрет, свидетельствующий, что Левицкий ценился наравне с историческими живописцами, – объединенные на одном холсте погрудные портреты Левицкого, Егорова и Шебуева, послужившие оригиналом гравюры Ф. И. Иордана. Все обрывается сразу после Отечественной войны.
Возможно, для чиновничьей администрации обращение к Левицкому послужило лишним доказательством влияния художника на молодежь и собственно Академию, что при его неизменной подозрительности, с точки зрения политического надзора, было крайне нежелательно.
Кстати, произошедший после смерти Строганова переход Академии в ведение министра народного просвещения на первых порах, пока эту должность занимал А. К. Разумовский, означал укрепление позиций Лабзина. Чрезвычайно независимый по характеру, А. К. Разумовский за год до смерти Екатерины вышел в отставку, категорически отказавшись одобрить в качестве сенатора один из предложенных императрицей проектов. Его возвращение на государственную службу состоялось только в 1807 году в качестве попечителя Московского университета, после чего в 1810 году он занял пост министра народного просвещения. Навязываемые правительством в этой области меры были приняты им враждебно, и сразу же после Отечественной войны он снова и окончательно ушел в отставку. Но в своей недолгой деятельности А. К. Разумовский полностью доверял именно Лабзину, с которым его объединяли масонские увлечения. В связи с его уходом Академия передается под непосредственное начало «управляющего министерством просвещения» А. Н. Голицына. С апреля 1817 года ее фактическим единовластным хозяином становится назначенный президентом А. Н. Оленин.
Неплохо разбиравшийся в задачах Академии, причастный к проблемам искусства, Оленин, как ни парадоксально это звучит, во многом именно поэтому нанес Академии непоправимый урон. «Алексей Николаевич был слишком самонадеян в своих познаниях и слишком много верил в непогрешимость своих взглядов и убеждений», – отзовется о нем Ф. П. Толстой. Личные вкусы и убеждения нового президента совпадали во многом с общими взглядами на искусство правительственных кругов, и это обусловливало особенную активность Оленина в проведении отдельных официальных установок.
«Я не знаю, на что господин президент, – писал по этому поводу Лабзин, – отнимает и у себя, и у Академии право посылать или не посылать в чужие края воспитанников? На что подвергать себя стеснению или зависимости от другой власти в том, на что вы имели полное право и разве лишили себя оного тем, что стали представлять о сем государю? На что нам связывать себе руки в отношении приема вольных пенсионеров, платящих за себя?» Вопросов возникало множество. Но то, что справедливо представлялось Совету ограничением прав Академии, на деле полностью отвечало желаниям нового президента. Ограничивая все действия Академии властью министра и самого императора, Оленин за этим прикрытием фактически приобретал полную независимость от Совета и возможность неограниченно предписывать ему. Всякое возражение академических преподавателей как нельзя легче и проще снималось предписанием свыше. Конфликт Оленина с Лабзиным приводит не только к его увольнению, но и к последующей ссылке.
Впрочем, ни новый президент, ни лишенный должности Лабзин уже не могли иметь никакого значения для Левицкого. Достаточно давно отстраненный от академической жизни, он уже относится к ушедшему поколению, и Оленину представляется вполне естественным вообще не замечать факта его существования. Левицкий должен быть доволен, что ретивый начальник не обращается к пересмотру его жалованья, как то Оленин делает в отношении других заслуженных лиц в Академии. На открывающихся академических выставках нет его работ, в письменных годовых отчетах – сведений о нем. Творческое небытие или неприятие – что стояло за этой непреклонной позицией академической администрации, чиновников, печати?
Ссылка Лабзина, формально вызванная непочтительным отзывом об очередном кандидате в почетные вольные общники – если выбирать по принципу близости к его императорскому величеству, то надо начинать с царского кучера, – в действительности означала запрет на всякое проявление «мартинистских» увлечений. Какими бы ни представлялись к этому времени отношения Левицкого с Лабзиным, всякое обращение официальных кругов к живописцу было отныне предрешено. Тень «подозрительности» становилась клеймом отвержения.
Молчали академические отчеты, молчали «независимые» критики, но мастер жил и продолжал работать – это безоговорочно признавали его первые биографы. В споре с ними последующих историков основным камнем преткновения становился подписной и датированный 1818 годом портрет Николая Адриановича Грибовского. Версия некого «П. Левицкого» выдвигалась в отношении портрета из Познани. Она появилась еще раньше в отношении портрета Н. А. Грибовского. В последнем варианте эта версия основывалась на письме полтавского губернского прокурора Грибовского к местному же генерал-губернатору Репнину о приезде в Полтаву портретиста Левицкого, берущего за портрет по сто рублей ассигнациями. Именно этому безвестному и со «сходным» гонораром художнику и приписывался принятый Дягилевым, Грабарем, Скворцовым портрет, который тем самым становился портретом или самого губернского прокурора, или кого-то из членов его семьи.
Художник Левицкий – не Дмитрий! – в эти годы действительно существовал и подвизался на Украине. Подписанные полным его именем – Петр Левицкий – портреты дошли до наших дней: датированный 1820 годом портрет генерал-губернатора Малороссии Н. Г. Репнина, находившийся до последнего времени в городе Лебедине, и датированный 1826 годом портрет Г. П. Митусова в собрании Русского музея. По профессиональному уровню они несопоставимы с портретом Грибовского – здесь повторяется история с упорно приписывавшимся Ивану Никитину «Древом государства Российского», беспомощной ремесленной поделкой его московского тезки и однофамильца. Не менее существенно и свидетельство современных источников.
Знакомство Левицкого с семьей Грибовских, точнее, с его главой Адрианом Моисеевичем, относится еще к восьмидесятым годам XVIII века. Выходец из Малороссии, студент Московского университета, тот обратил на себя внимание Державина своими переводами, легкими, непринужденными, отмеченными тонким чувством языка, – в 1784 году в Петербурге выходит в его переводе идиллическая повесть Д’Арно «Опасности городской жизни». Назначенный в Петрозаводск, Державин забирает вчерашнего студента с собой, но здесь слишком быстро раскрывается другая сторона натуры Грибовского. Азартный игрок, он проигрывает казенные деньги, чтобы выйти из положения, находит себе нового покровителя в лице Потемкина, необъяснимым вольтом переходит затем из походной канцелярии «светлейшего» к его злейшему врагу фавориту Зубову и с помощью последнего занимает место статс-секретаря Екатерины вместо окончательно отошедшего от двора Державина.
Грибовский едва успевает заявить о себе в столице неслыханной даже для екатерининских времен роскошью, мотовством, оркестром, куда собирает лучших музыкантов и где сам неплохо играет на скрипке Страдивариуса – предмет его невероятной гордости, как наступает расплата. С приходом к власти Павла он лишается всех должностей, высылается из Петербурга, а через несколько месяцев оказывается под следствием в Петропавловской крепости по обвинению в краже картин и имущества из Таврического дворца и к тому же в переселении казенных крестьян на свои земли. Огромный выкуп, ценой которого Грибовский возвращает себе свободу, еще не может разорить его. Но через год он оказывается на этот раз в Шлиссельбургской крепости по обвинению в продаже в Малороссии казенных земель.
Обвинения в полной мере оправдываются, но вступление на престол Александра I приносит Грибовскому прекращение следствия. Свобода не означает в этих условиях оправдания. Путь на государственную службу для него закрыт. Грибовский переезжает в Москву, и здесь, проматывая остатки былого состояния, примыкает к «мартинистам» – фрондерство, в котором находят выход его личные разочарования. После событий 1812 года он вынужден и вовсе скрыться в единственном сохранившемся от распродажи имений селе Щурове под Коломной, но и живя там, объявить себя в 1817 году банкротом. Впрочем, в этом последнем шаге кредиторы усматривают способ избавиться от нарастающих долгов. Грибовскому до конца своих дней приходится судиться, защищаясь от обвинения в так называемом злостном банкротстве. Незадолго до смерти бывший статс-секретарь напишет свои воспоминания о Екатерине, естественно, очень приблизительные по сообщаемым в них фактам, – ничья память не способна выдержать тридцатилетнего разрыва во времени, – и позаботится оставить потомству свой портрет кисти модного миниатюриста двадцатых годов XIX века Фюгера.
Единственный сын Грибовского, Николай, унаследует от отца способности к языкам – после участия в Отечественной войне 1812 года он работает переводчиком – и связь с «мартинистами», симпатии к которым носят у него глубокий и искренний характер. Его-то портрет и пишет в 1818 году Левицкий – факт, подтверждаемый родным племянником Николая Адриановича, сыном его единственной сестры, вышедшей замуж за В. Губерти. Если трудно полагаться на семейные предания вообще, то утверждения Н. В. Губерти представляют исключение. Один из крупнейших русских библиографов, автор отмеченного Уваровской премией классического трехтомного труда «Материалы по русской библиографии» (XVIII век), он обладал тем методом установления фактов, который позволяет с доверием относиться к сообщаемым им сведениям. При этом характерно, что портрет Н. А. Грибовского несет на себе совершенно такую же формулу подписи: «Р. Lewizky pinxit А. 1818». Двойное повторение буквы «р» не вызывало никаких сомнений ни у кого из первых исследователей, начиная с С. П. Дягилева и И. Э. Грабаря. Не вызывало сомнений и написание фамилии, отличное от ранних работ художника. Почему? Но, прежде всего, с тех пор прошло полвека, и мастер вполне мог подписаться по-иному. Подобно своему отцу, Левицкий мог допустить изменения в написании фамилии, потому что в латинской транскрипции оно оставалось для него чужим: русский художник переводил здесь свое имя с родного языка. Такая необходимость в данном случае диктовалась, скорее всего, прямым желанием заказчиков. Было еще одно обстоятельство, говорящее о высокой культуре Левицкого: на рубеже XVIII – начала XIX веков в польской грамматике были приняты новые правила, которым и отвечала подпись 1818 года.
И все же – кем был «Дедушка с золотой кофейной чашкой» или из кого складывался круг заказчиков художника в эти поздние годы? Предполагать иностранное происхождение изображенного мужчины, по-видимому, не приходилось. Об этом свидетельствовали детали щегольского его костюма, принятые в русском и столичном обиходе, и награды – орден Владимира IV степени и дававшаяся на гражданской службе памятная медаль 1812 года. Наконец, на полке стояли русские книги. Ни орден – слишком низкой степени, ни рядовая медаль не давали оснований для установления имени изображенного. Едва ли не единственной посылкой могли здесь служить две книжки с надписью «Valerie» в сочетании с изображенными рядом словарями и тот факт, что в семье владельцев портрета достаточно молодо выглядящий мужчина был известен под именем дедушки – возможное, хотя далеко не обязательное свидетельство родственных отношений портретируемого.
Под титулом «Valérie» известен некогда нашумевший роман «Valérie, ou lettres de Gustave de Linar», изданный в Париже в 1803 году и принадлежащий перу Юлии Криденер. Именно это парижское двухтомное издание в серых бумажных переплетах и представлено на портрете. Необычайно популярный в момент своего выхода в свет, роман, однако, быстро забылся. И если в недолгий период успеха его единственным и притом очень злым критиком оказался едва ли не один Наполеон – вина, которой автор не простила ему до конца своих дней, став ярой антибонапартисткой, – то после 1812 года упоминания о романе исчезли. Присутствие книги на портрете позволяло предполагать существование личного отношения к ней изображенного лица, по крайней мере об особенностях его вкусов. Изданный на нескольких европейских языках, роман не дождался перевода на русский, хотя подобная попытка была в свое время сделана и принадлежала чиновнику Министерства иностранных дел А. А. Стахиеву. Но это составляло очень любопытную страницу его жизни.
Внук придворного священника и духовника Екатерины I, сын дипломата, Стахиев родился в Стокгольме и с самого рождения был предназначен к дипломатической службе. Но первый же шаг на ней оказался для молодого человека на редкость неудачным. Личная протекция Никиты Панина позволяет Стахиеву получить место секретаря у русского посла барона Криденера. Бурный роман с женой последнего вынуждает его оставить службу и вернуться в Россию. Для баронессы окончание этого эпизода совпадает с рождением в 1787 году ее дочери, Жюльетты. Полная романтических приключений жизнь Юлии Криденер коснулась в дальнейшем биографии многих европейских знаменитостей – от академика Суарда до прославленного певца Гара и гусара де Фрежвиля, и все же, обращаясь после сорока лет к литературным опытам, баронесса использует в качестве канвы для своего наиболее удачного романа историю отношений со Стахиевым. Впрочем, Ю. Криденер никак нельзя заподозрить в неопытности и неумении устраивать свои дела. Во многом она собственными силами создает моду на роман: покупает журналистов и критиков, платит модисткам за фасон шляпок «а la Valérie», за шарфы и ленты того же выдуманного цвета. Женская мода явно опережает моду на героиню романа, которой она якобы порождена.
Вряд ли им довелось снова встретиться. Мысли Ю. Криденер целиком поглощены политикой и мистицизмом. Она добивается близости с Александром I и во времена Венского конгресса даже оказывает на него известное влияние, хотя в дальнейшем император достаточно категорично ограничивает баронессу в ее мистических увлечениях. Только в 1818 году она оказывается снова в России вместе со своей недавно вышедшей замуж дочерью Жюльеттой фон Беркхейм, муж которой поступает на русскую службу.
За прошедшие годы Стахиев не устроил своей жизни. Он холост, ничего не добился по службе – изображенные Левицким награды соответствуют тем, которые он приобрел, – тяжело болен и знает об этом. Среда, с которой он многие годы связан, – «мартинисты» (о принадлежности к их кругу говорит вколотая в его галстук булавка). Решив заказать портрет, он, естественно, обратился к художнику, с которым постоянно встречался в доме Черевина. Идея предсмертного портрета при отсутствии семьи и детей оправдывалась только дальнейшей судьбой полотна – оно становится собственностью Жюльетты фон Беркхейм, а в дальнейшем ее родственников Фиттингофов и Мирбахов. Стечение всех этих обстоятельств и позволяло предположить, что «Дедушка с золотой кофейной чашкой» представлял именно А. А. Стахиева. Среда, в которой продолжал вращаться Левицкий, была средой «мартинистов» из числа тех, которые сохраняли верность идеям просветительства, не приняли усиливавшихся год от года тенденций, представленных деятельностью Лабзина. Лишнее доказательство тому – различие дорог, по которым расходятся Левицкий и Боровиковский.
Левицкий порывает с Лабзиным, Боровиковский неоднократно пишет портреты его самого, его жены и воспитанницы. Добрые отношения портретиста с этой семьей сохраняются вплоть до самой ссылки Лабзина. Продолжающееся увлечение мистицизмом приводит Боровиковского после этого в кружок Татариновой, тогда как Левицкий совершенно отходит от мистиков. В начале двадцатых годов имели право существовать, по идее Александра I, только самые крайние реакционные мистики, вроде Татариновой, – недаром на протяжении стольких лет ее кружок собирается в самом Михайловском замке, унылой резиденции Павла и месте его гибели. Александр одно время даже посещает эти собрания. Достаточно долгое время их негласно поддерживает и Николай I: слишком надежно уводили от современных вопросов подобного рода мистические умствования. Иное дело «мартинисты», с которыми связан Левицкий.
Их неортодоксальное истолкование религиозных догматов было обращено на утверждение человеческих прав, осознание практической их реализации, которое неизбежно становилось помехой в распространении доктрины официальной идеологии. Позиция Левицкого здесь слишком определенна, и таким же определенным становится отношение к нему государства. Смерть члена Академии, советника должна быть отмечена если и не некрологом, то по крайней мере строкой в годовом академическом отчете. Но смерть Левицкого проходит совершенно незаметно. Пройдет без малого полтораста лет, пока внимание исследователей обратится к архиву все той же приходской церкви Андрея Первозванного на Васильевском острове, чтобы с изумлением обнаружить, что до последнего дня жизни перед художником была все та же Линия, привычная перспектива охватившей улицу Невы, силуэт Академии художеств. В метрической книге церкви, давно поступившей в фонды Государственного исторического архива Ленинградской области, под 7 апреля 1822 года стояла запись о смерти художника и о том, что похоронен он на Смоленском кладбище. Похоронами не занимались ни родственники – иначе для них не было бы неразрешенной загадкой место смерти и погребения Левицкого, ни Академия – вдова не получает даже обычного для этой цели пособия, правда, что и не просит специально о нем.