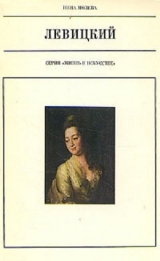
Текст книги "Левицкий"
Автор книги: Нина Молева
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 20 страниц)
Его завязавшиеся связи с академистами вряд ли могли устраивать нового императора, хотя административные распоряжения президента вполне укладывались в намечавшуюся схему официального искусства. Мусин-Пушкин начинает с назначения директора Академии по своему усмотрению, хотя этот вопрос всегда составлял прерогативу Совета. Бюрократизация художественной школы сказывается и на изменении взаимосвязи учебных классов. Вместо той самостоятельности, которой каждый из них в большей или меньшей степени обладал, отныне все живописные классы передаются в руководство профессора живописи исторической, тогда как все остальные – профессору исторической скульптуры. В этом новом методическом соотношении частей обучения Левицкому рассчитывать на былое его место не приходилось.
И все-таки несомненно выбор кандидатуры для заместителя Мусина-Пушкина не носил характера случайности. Граф Шуазель-Гуфье, еще недавно видный французский дипломат, с 1791 года живет в России, укрываясь от событий французской революции. Он вернется на родину через одиннадцать лет, когда революционные волны окончательно уступят место упорядоченности наполеоновской империи. А пока Павел намеревается использовать его действительно недюжинные познания в области искусства древности. Около пятнадцати лет граф совмещал свои дипломатические обязанности с художественными увлечениями, совершал поездки по Греции, гомеровским местам вместе с археологами, художниками, сам участвовал в раскопках и написал широко известную трехтомную «Живописную историю Греции». У него широкий круг знакомых среди французских художников, и директор Французской академии в Риме Ф.-Г. Менажо, которого он хочет пригласить для руководства классом исторической живописи и, значит, практически всей живописью в Академии, обладает европейской известностью. На сопротивление Совета Шуазель-Гуфье отвечает знаменательными словами ведомственного самодержца: «Я есмь и буду впредь лично порукою во всех данных мною приказаниях». Подобная категоричность позиции в отношении подчиненных нисколько не мешает ему безоговорочно выполнять в академических мастерских заказ супруги Павла – фиговые листки, которыми затем были обезображены находившиеся в Павловске античные статуи. Правда, Шуазель-Гуфье помогает Совету Академии осуществить чрезвычайно важную реформу – ввести институт вольноприходящих учеников, сказавшийся на всей системе академического обучения, но в остальном конфликтная ситуация лишала всякой свободы действий и Совет, и назначенного в 1799 году (впрочем, почти сразу умершего) В. И. Баженова – вице-президента, и конференц-секретаря А. Ф. Лабзина, не обладавшего к тому же сколько-нибудь ясным представлением о делах и положении Академии.
Появление Лабзина на горизонте Академии еще во время президентства Шуазель-Гуфье никак не свидетельствовало о проявлении императором либерализма. Лабзин с давних пор, еще со времени своих занятий в Московском университете, знаком с Новиковым, несомненно испытал на себе его влияние и долгое время сохранял уважение к деятельности замечательного просветителя. Но практические выводы, которые он делает из этих уроков лично для себя, слишком далеки по существу от действительных стремлений Новикова. Поэтому для Новикова его издательская и просветительская деятельность кончается заключением в крепости, Лабзину увлечение Новиковым не мешает в те же самые годы, без малейшего пятна на его политической репутации, стать высоким чиновником в секретной экспедиции Петербургского почтамта. Последующее недолгое пребывание в Коллегии иностранных дел послужило последней ступенькой перед назначением его конференц-секретарем Академии. Павел не видит в нем сотрудника и единомышленника Новикова, как то случилось с Левицким, но человека доверенного, которому он может поручить написать «Историю ордена святого Иоанна Иерусалимского» – мальтийских рыцарей, этих крестоносцев вольтерьянства и просветительства. Лабзину нисколько не повредит и продолжающаяся после выхода Новикова из крепости переписка с освобожденным, но не избавленным от подозрений просветителем. И не было ли своеобразной формой контроля то, что основная переписка и пересылки от Новикова к Левицкому и обратно производились именно через руки Лабзина? Лабзин своим именем гарантировал их безопасность для обеих сторон, но, может быть, и для императора.
При всех своих возможностях Лабзин не вступится за Новикова, не приложит усилий к тому, чтобы вернуть Левицкого в Академию и тем самым обеспечить ему официальное положение. Конечно, можно думать о том, что Академия и ее дела в действительности слишком мало занимают Лабзина. Он мало поднимается по служебной лестнице, и былое доверие Павла нисколько не помешает совершенно исключительному к нему доверию Александра I: в 1804 году Лабзин, никогда не имевший никакого отношения к армии, назначается директором Департамента военных и морских сил, и это в преддверии становящейся день от дня все более реальной войны с Наполеоном. Годом позже серьезность его назначения подтверждается тем, что он назначается еще и членом Адмиралтейской коллегии. В свою очередь, все эти назначения не лишили Лабзина места конференц-секретаря Академии художеств, не помешали и его оживленной издательской деятельности.
Лабзин совсем не простой человек и в личном общении. Суровый до жестокости, не знающий снисхождения к человеческим слабостям и вместе с тем толкующий эти слабости только по-своему, не допуская никаких иных точек зрения, кроме его собственной. Он резок в обращении до грубости, и эта резкость истолковывается его сторонниками как проявление откровенности и прямоты, не мешающей ему, впрочем, в эти ранние годы быть угодным коронованным особам. И при всем том Лабзина действительно трудно заподозрить в неискренности мистических увлечений, стремлений к усовершенствованию духовного мира человека ценой отказа от мирских благ.
Непосредственно после портретов дочерей Павла Левицкий пишет одну из своих интереснейших работ – двойной портрет супругов Митрофановых. Историки относили его к середине и даже первой половине восьмидесятых годов, но эта датировка опровергается фасонами костюмов. Наброшенная на плечи Митрофановой шаль с топкой лиственной каймой характерна для английского производства середины девяностых годов, когда в России вообще впервые появилась мода на шали. О том же времени говорит и покрой платья и прическа «а ла Титус» с мелкими кудряшками на лбу и широкой лентой – парафраз на римские мотивы.
Насколько фиксированы позы в детских портретах Левицкого, настолько портрет Митрофановых производит впечатление случайно бросившегося в глаза художнику кадра. Немолодая женщина непринужденно остановилась, доброжелательно приглядываясь к художнику, ее супруг случайно вошел в кадр, заинтересованный объектом внимания жены. В этой непринужденности движения, поз есть та подсмотренная художником непосредственность человеческого поведения и чувств, к которым обращается в эти годы сентиментализм. Такими можно себе представить героев Карамзина – мыслящими, чувствующими и обращенными к окружающему миру в своем непреходящем ощущении живого контакта с ним.
Кем были эти люди, явно внутренне близкие художнику? Семейное предание готово предположить, что существовала родственная связь между ними и женой Левицкого, как всегда, ничем не доказанная. Скорее, здесь можно говорить о том круге лиц, с которыми особенно тесно сходится Левицкий после своей отставки из Академии. И не один ли это из тех портретов, которые художник писал по договоренности с Новиковым и пересылал ему по мере того, как их удавалось закончить, – загадочный заказ, тайны которого не выдал ни Новиков, ни сам портретист. «Ежели есть у него еще оконченные портреты, то он бы весьма бы утешил меня присылкою их» – из письма Новикова Лабзину от 27 марта 1798 года.
Портрет Митрофановых не несет ни подписи Левицкого, ни указаний на изображенных на нем лиц. Определение последних – традиция, берущая свое начало в конце прошлого века, когда портрет, находившийся постоянно в частных собраниях, начал появляться на выставках русского исторического портрета. В нем много необычного – и композиционное построение и возрастное соотношение супругов. Женщина намного старше мужчины и занимает более значительное, чем он, место в изображении: не она дополняет портрет мужа, как то было принято в XVIII веке, а он сопутствует ей. В ее немолодом и некрасивом лице гораздо больше воли и определенности, чем в облике настороженного и, скорее, капризного ее спутника.
Но есть и еще одна особенность в этом двойном портрете Левицкого. По чертам лица изображенный на нем молодой человек напоминает А. Ф. Лабзина, которого пишет в эти годы для конференц-зала Академии художеств Боровиковский. Есть сходство с А. Е. Лабзиной и у его спутницы. Кстати, Лабзин был на десять лет моложе своей жены. Поженились они в 1794 году и познакомились с Левицким, насколько можно судить по письмам Новикова, в конце 1796 – начале 1797 года. Впрочем, знакомство Левицкого с Лабзиной могло возникнуть и гораздо раньше. Отец Лабзиной был тесно связан с семейством Воронцовых, и в частности с Семеном Воронцовым. Сама она со своим первым мужем, известным специалистом по горнорудному делу Карамышевым, жила в доме М. М. Хераскова в Петербурге, пользовалась особой симпатией и покровительством последнего, через мужа знала и Львова и Хемницера. Овдовевшую Лабзину сблизило с ее вторым мужем увлечение «мартинизмом» в его мистическом варианте – она была одной из немногих, если не единственной женщиной, пользовавшейся полной их доверенностью и даже присутствовавшей на собраниях ложи, что в принципе было для женщин категорически запрещено. Эта серьезность, увлеченность общим делом, полнейшее пренебрежение к условностям светской жизни резко отличали Лабзину от ее современниц. Так не они ли были изображены Левицким – ошибка в именах здесь тем более возможна, что карьера Лабзина закончилась «жестокой ссылкой» и полной опалой. Пока всего лишь предположение, но позволяющее прочитать еще одну страницу в жизни художника.
БЕЗВРЕМЕНЬЕ АЛЕКСАНДРОВСКИХ ЛЕТ
Из мучительства рождается вольность…
А. Н. Радищев
Этого художника я глубоко уважаю.
И. Н. Крамской
Писем было много. Скупых на слова. Не предназначенных для чужих глаз. Полных намеков и недомолвок. И повсюду повторялось все то же имя – Левицкий. В переписке с Лабзиным Новиков возвращался к имени художника постоянно.
Сразу по выходе из заключения – благодарность за память и помощь. Чуть позднее радость, что между Лабзиным и Левицким завязались дружеские отношения. В том же, 1797 году упоминание, касающееся тайной литературы «мартинистов»: «Прошу Вас сообщите ему первые три градуса и о сем меня уведомьте. Ему очень хочется».
1798 год: «Любезному другу Дмитрию Григорьевичу прошу, если найдете за нужное, сообщить и теоретический градус: пусть он будет иметь все, что теперь иметь можно». Увлечения художника можно назвать мистическими настроениями, но гораздо вернее – увлечениями философскими, стремлением разобраться в морально-нравственных нормах человеческой жизни и человеческого общежития. В том же году: «Любезнейшему другу Дмитрию Григорьевичу прошу вручить обещанный подарок, переписанный братом, время от времени буду сам кое-что пересылать. О прежде посланных к нему двух пиесах прошу уведомить». Письмо Новикова непосредственно предшествует открытию основанной А. Ф. Лабзиным масонской ложи «Умирающий сфинкс», в состав которой войдут и сам Новиков и Левицкий под псевдонимом Вилетского. Ложа находилась в Петербурге, и сохранившиеся протоколы ее свидетельствуют, что Левицкий постоянно, а Новиков время от времени посещали заседания.
К этим годам относятся написанные Левицким портреты отца и сына Билибиных, из которых последний был непосредственно связан с просветительской деятельностью «мартинистов».
«Весна девяностых годов» – определит последнее десятилетие XVIII века А. И. Герцен. Несмотря на ссылку Радищева, заключение в крепости Новикова, несмотря на обманутые надежды после вступления на престол Павла. Павел – наследник, десятилетиями ждущий власти, стареющий около престола, готовый на союз с любой оппозицией, и Павел – самодержец – разница между ними слишком велика. А между тем рост и могущество империи совершенно очевидны. Доступ к Черному морю, открывшийся в результате успешных турецких войн, не только упрочил ее положение крупнейшей европейской державы, но во многом определил и экономическое развитие России. В стране складывается всероссийский рынок, развивается промышленность, появляются вместо отдельных фабрик и мануфактур целые промышленные районы. Но обратной стороной того же процесса было обострение внутренних противоречий крепостнической системы, которое становится особенно ощутимым все в той же «весне» конца века.
Правительству Екатерины совсем не просто далась победа над Пугачевым, которая оказалась и не окончательной и не полной. К концу столетия волна крестьянских восстаний снова начинает нарастать, так ощутимо перекликаясь с эхом французской революции, которому живо отвечает новая формирующаяся в стране сила – общественное мнение. В его создании принимают участие и передовая часть дворянства, и представители третьего сословия, и научная и художественная интеллигенция. Безоговорочное признание прав самодержца отошло в далекое прошлое. На смену ему приходит все более острая критика, требование решения тех проблем, которые возникают перед государством и обществом, и прежде всего проблемы крепостничества. Как бы категорически ни старалась Екатерина в последние годы своего царствования положить конец собственной игре в «вольтерьянство» и просветительство, как бы ни пресекала «вольнодумство» и «соблазны рассуждений», они уже существовали. Строки Державина стали знамением своего времени:
«Цари! – Я мнил: вы боги властны,
Никто над вами не судья;
Но вы, как я, подобно страстны
И также смертны, как и я.
И вы подобно так падете,
Как с древ увядший лист падет!
И вы подобно так умрете,
Как ваш последний раб умрет!»
Екатерина могла выносить поражавшие даже ее непосредственное окружение своей жестокостью приговоры, могла выдвинуть на первый план Шешковского с его нечеловеческими методами «доследования истины», но ни она, ни обратившийся к откровенно реакционным действиям Павел не были в состоянии противостоять нараставшему общественному подъему. Именно поэтому Герцен и мог сказать об этом времени: «Никогда человеческая грудь не была полнее надеждами, как в великую весну девяностых годов: все ждали с бьющимся сердцем чего-то необычайного; святое нетерпение тревожило умы и заставляло самых строгих мыслителей быть мечтателями».
Никак не отозвавшись на вступление на престол Павла, Левицкий, подобно его ближайшим друзьям, возлагает совершенно исключительные надежды на приход к власти Александра I. Об этом говорит выполненный им рисунок коронационного портрета нового императора – преддверие официального заказа. Но набросок остается всего лишь наброском: заказа на портрет так и нет, и это также симптоматично, как и мгновенно решившаяся судьба Радищева. Александр снимает с бывшего ссыльного всякие запреты. Радищев оказывается в Петербурге и даже назначается членом Комиссии для составления законов. Но достаточно ему с его неизменным упорством вернуться к вопросу об уничтожении крепостной зависимости, о полном освобождении крестьян, да еще к тому же с землей, чтобы состоялся нешуточный разговор с руководившим делами Комиссии П. В. Завадовским. Завадовский недвусмысленно дает понять так и не унявшемуся «бунтовщику», что состоявшийся над ним суд и приговор легко могут быть повторены, да еще в более суровом варианте. Предупреждение оказывается для Радищева роковым. Мера его разочарования так велика, что он предпочитает покончить с собой – символическое начало еще радужных Александровых дней: «Жизнь несносная должна быть насильственно прервана». А ведь это всего лишь 12 сентября 1802 года.
Смерть Павла, воспринятая передовыми представителями русского общества как гибель тирана, и начало правления Александра I с его широкими политическими обещаниями, казалось бы, вели к осуществлению надежд, о которых говорил Герцен. Вопросы государственного переустройства становятся предметом всеобщего обсуждения.
Рождаются многочисленные проекты реформ, основной смысл которых, как бы они ни отличались друг от друга, сводился к необходимости законодательного ограничения самовластья. Вместо господствовавшего еще совсем недавно понятия «повелевать» относительно монаршьей власти выдвигается понятие «управлять», связанное с представлением о гражданских правах каждого человека, на какой бы ступени социальной лестницы он ни стоял. В этом же, хотя и более ограниченном плане разрабатывает ряд политических реформ и кружок «молодых друзей» Александра, пытавшихся претворить в жизнь программу дворянского либерализма.
В первые годы своего правления Александр усиленно создает видимость близости с этим кружком, готов всячески поощрять его деятельность. Он не отвергает в принципе идеи реорганизации государственного управления, но и не торопится переходить в этом отношении к практическим действиям. Видимость с первых же самостоятельных шагов устраивает его гораздо больше, чем действительность. Правда, общая обстановка в стране вынуждает императора в чем-то подкреплять обещанные воздушные замки. В 1802 году последовала реформа государственного управления, в результате которой был преобразован Сенат и введены вместо коллегий министерства. Здесь не было и речи о принципиальных переменах. Исполнители и деятели остались неизменными и с неизменными установками в полном соответствии с более ранними, но пророческими строками басни Капниста:
«Законы новые народу даны были,
И перемена вся была бы хороша;
Но скоро новые по-старому судили,
Понеже старая была в судьях душа».
Практически единственную уступку времени представляло создание нового министерства – народного просвещения. В его ведение поступили Академия наук, Российская академия, университеты, число которых значительно увеличилось, Главное управление училищ и соответственно все училища, цензура, издание периодических сочинений, народные библиотеки, музеи. Цели министерства определялись тем званием, которое было дано его руководителю, – «министр народного просвещения, воспитания юношества и распространения наук».
В общем ряду назревших реформ вопрос «распространения наук» имел совершенно особое значение. Создание системы широко доступного образования было неотделимо от назревших социальных преобразований.
Еще в 1760-х годах А. С. Строганов приводил в Законодательной комиссии как основное доказательство необходимости создания училищ для простого народа то соображение, что лишь когда крестьяне «из тьмы невежества выйдут, тогда и достойными себя сделают пользоваться собственностью и вольностью». Русские просветители противопоставляли деспотизму просвещение как главное средство, дающее человеку осознать и отстаивать свои права. Такая зависимость была ясна и для правительства Александра I, который, с одной стороны, соглашаясь на ставшую необходимой реформу, с другой – старался всячески ограничить ее действие. Введенные в январе 1803 года предварительные правила народного просвещения, объявляя школы доступными для всех лиц свободного состояния, в тоже время сохраняли в них неизменной старую сословную систему просвещения.
Но какими бы ограниченными ни были уступки Александра «духу времени» в эти первые годы его царствования, они делались под влиянием увлечения просветительскими идеями и давали свои несомненные результаты. Первое десятилетие нового века отмечено появлением многочисленных литературных и научных обществ, охотно обращавшихся к обсуждению политических проблем, разнообразных периодических изданий, активизацией литературной деятельности, к которой возвращаются многие писатели и среди них Карамзин, отошедшие от нее под влиянием реакционной политики Павла. Этому немало способствовал цензурный устав 1804 года, самый либеральный из всех издававшихся в XIX столетии, подчеркивавший лояльную позицию правительства.
Вместе с расширением круга читателей и зрителей происходит процесс общей демократизации литературы и искусства. Пробуждается независимая общественная мысль, среди представителей которой первенствующее положение занимают радищевцы – группа писателей и публицистов, следовавших идеям великого просветителя, хотя и без революционных выводов. Обращая свое творчество на пропаганду революционно-просветительских идей, радищевцы утверждают новую роль литературы как средства общественного и культурного преобразования страны. Те же возможности признаются и за изобразительным искусством, самый интерес к которому растет. В понимании передовых представителей русской культуры искусство находится в тесной зависимости от политической деятельности и идейной жизни общества. Художник – прежде всего гражданин, а его творчество – определенный гражданский долг, предполагающий постоянное и активное вмешательство в события окружающей действительности. На первый взгляд, эти тенденции служили прямым продолжением выдвинутых еще в XVIII веке положений, тогда как по существу во многом противостояли им. Само по себе понятие гражданственности в XVIII веке было сословно ограниченным. Права и обязанности человека, самый строй его душевных переживаний ставились в прямую зависимость от его сословной принадлежности, предопределявшей точное и неизменное место каждого в общем государственном строе. Изменив сословному долгу, человек переставал быть истинным гражданином и сыном отечества.
Но теперь представление о человеке и его правах начинает освобождаться от сословных пут. Появляется понятие Человека с большой буквы, действительно равноправного и прежде всего свободного, как о том мечтал Радищев. Вместе с растущим протестом против крепостнической системы растет и интерес к отдельному человеку. Вне зависимости от сословной принадлежности за каждым человеком признается право чувствовать, мыслить, служить образцом для других. И в этом смысле портреты Левицкого были провидением, тем проникновением в душевный мир человека, который только теперь становился средоточием интереса для искусства.
Новое понимание задач искусства, предполагавшее его активную роль в жизни общества, обусловливало рождение новых тем и образов. Но что было особенно характерным – оно побуждает художников участвовать в идейной борьбе не только своими произведениями, но и своими личными действиями как граждан. Не удовлетворяясь тем, что они могли сказать в живописи или скульптуре, передовые мастера широко обращаются к публицистике и общественной деятельности.
Для начала века было очень типичным участие художников в кружках и обществах, так или иначе занимавшихся рассмотрением политических проблем. Их имена связаны с постановкой актуальнейших вопросов экономического и политического переустройства страны, с созданием проектов государственных реформ. Такие труды, как «Трактат о состоянии России в отношении внутреннего быта» Ф. П. Толстого, доказывающий необходимость уничтожения крепостного права, или «Речь о просвещении человечества» А. X. Востокова, сыграли определенную роль в общем процессе развития независимой общественной мысли в России. Причем тот же Толстой был одним из ведущих членов декабристского «Союза благоденствия», а Востоков – «Вольного общества любителей словесности, наук и художеств».
Созданное при непосредственном участии радищевцев и отразившее в своей первоначальной программе их взгляды и установки, «Вольное общество любителей словесности, наук и художеств» включает в себя почти весь политический кружок, возникший в стенах Академии художеств. Вопросам искусства здесь отводилось место, одинаковое по значению с вопросами науки и литературы. Сознание значительности вставших перед изобразительным искусством задач и полного их своеобразия относительно литературы и тем более науки наводит в 1802 году художников на мысль об организации совершенно самостоятельного общества, которое только «имело бы сношение с Обществом словесности».
Возникновение подобной идеи также было вызвано тем, что в образовавшемся к тому времени в России большом отряде художников всех специальностей уже начинала зарождаться потребность в определенных профессиональных объединениях. Выдвинутый Андреем Ивановым, Репниным и Востоковым проект этот, однако, не осуществился, и передовые художники продолжали группироваться вокруг самого «Вольного общества». Хотя последнее организационно объединило немногих мастеров, влияние его на художественную жизнь страны было очень существенным в смысле утверждения новых принципов в искусстве, и это влияние распространялось прежде всего на Академию художеств. Когда В. В. Попугаев в 1803 году предложил создать при «Обществе» институт почетных членов, то первыми кандидатами наравне с Державиным, Херасковым, Дмитриевым и Карамзиным оказались академические преподаватели Г. И. Угрюмов, И. П. Мартос, Г. Ф. Дойен и президент Академии художеств А. С. Строганов. Обращение именно к этим лицам не было простой данью уважения к наиболее прославленным и известным именам, оно обусловливалось прежде всего объективной целенаправленностью их деятельности, которая перекликалась с установками «Общества».
Вместе с этими именами было названо еще одно, по-видимому, не получившее в конце концов высочайшего одобрения и потому забывшееся имя – Левицкий.
Нет, это вовсе не было глухое двадцатилетие, последнее в жизни художника. Скорее, наоборот – годы, оставившие по себе память, наполненные напряженной, хотя и невидимой для постороннего наблюдателя борьбой. Левицкий не отказывается от надежды вернуть своему искусству официальное признание, возможность получать заказы и преподавать, друзья – от попыток ему помочь. И все время остается ощущение близкой победы: еще немного, еще один шаг, но снова художник отбрасывается в небытие обстоятельствами государственной жизни, новой проводимой правительством политики, личными расчетами тех, кто только что, казалось, принадлежал к самым верным и надежным друзьям. В то же время только частные письма Новикова говорят о том, какие трудности приходилось преодолевать художнику и в семейной жизни. Какое-то, едва не кончившееся трагедией обстоятельство в 1804 году – Новиков горячо надеется, что, может быть, все обойдется и больше, не дай бог, не повторится. Это не смерть зятя, как предполагали некоторые историки, – она наступит в 1805 году, когда Левицкий и окажется вынужденным принять на себя заботы об овдовевшей дочери. Впрочем, считалось, что у Агафьи Дмитриевны двое дочерей, но академический документ тех же лет определенно говорит «о внуках и внучках», значит, настоящее число прямых потомков художника пока еще не установлено.
Но дело не в одних материальных заботах. Одно неразрывно сплетается с другим: официальное, освященное авторитетом императорской Академии художеств положение означает возможность получения заказов от лишних заказчиков, в ином случае опасающихся или перестающих ценить «подозрительного» художника. Пришедший к руководству Академией А. С. Строганов не только помнит свой некогда написанный мастером портрет. Левицкий явно близок ему по своим взглядам, увлечениям, кругозору, и он делает тот решительный шаг, о котором и не помышлял считавшийся близким другом художника Лабзин, – о восстановлении портретиста в Академии.
Трудно себе представить два настолько противоположных характера, какими были Лабзин и назначенный в январе 1800 года на президентскую должность А. С. Строганов. Строганова нельзя отнести к собственно дворянской фронде, но он в течение всей своей жизни высказывается за человеческое отношение к крестьянам, за необходимость скорейшего и всестороннего просвещения народа. Последнее не устраивало Екатерину так же, как не будет устраивать ни Павла, ни Александра, какие бы формальные шаги они в этом направлении ни предпринимали. К тому же Строганов – человек, обладающий исключительно широким образованием и глубокими познаниями, в частности в области изобразительного искусства. У него редкое собрание художественных произведений и единственная по своей полноте в России библиотека. Это настоящий вольтерьянец XVIII века, с умом проницательным и скептическим, рациональным мышлением и способностью с полным уважением отнестись к каждой точке зрения, в какое бы острое противоречие с его собственными взглядами она ни вступала. Строганов поддерживает, а точнее, инспирирует ходатайство, с которым обращаются к нему конференц-секретарь и вице-президент Лабзин и известный теоретик искусства П. П. Чекалевский (кстати, если бы это была их собственная инициатива, они, давно находясь на академической службе, имели возможность ее проявить много раньше). Речь идет о возвращении Левицкого в состав Совета, «посколько по его искусству и долговременному упражнению в живописном художестве, может и ныне полезен быть своими советами и опытностью».
При этом всплывают подробности и семейного положения художника: «Г. Левицкий находится ныне, как известно многим членам Совета, весьма в нужном состоянии, потому что по слабости его преклонных лет он не может уже столько работать и не может столько находить себе работы, как прежде; семейство же его умножилось содержанием внуков и внук, которых по смерти отца воспитывать должен он». И то, что двадцать лет назад послужило основанием для увольнения на нищенскую пенсию, теперь становится достаточным поводом для фактического восстановления художника на академической службе. Строганов санкционирует назначение мастеру оклада в полтора раза большего, чем тот, который он получал, будучи руководителем портретного класса, – 600 рублей в год. Все это должно служить «ко обеспечению состояния художника, способствовавшего некогда славе Академии». Та же тенденция находит свое отражение и в появляющейся литературе по искусству. Первые же издания подобного рода обращаются с полным пиететом к имени портретиста, будь то «Журнал изящных искусств», издававшийся Буле, или монографический обзор Реймерса «Императорская Академия художеств в Санкт-Петербурге (со времени своего основания до царствования Александра I)». Обе книги выходят в свет в одном и том же, 1807 году.
И снова разговор о старости художника носит чисто риторический характер. Левицкий появляется в Совете. Он, по-видимому, мечтает и о более деятельных связях с Академией, потому что, в связи с предполагавшейся эвакуацией Академии в Петрозаводск перед лицом событий 1812 года, ходатайствует о включении его в число отправляемых с воспитанниками преподавателей.








