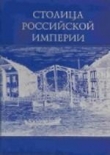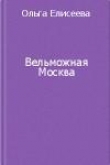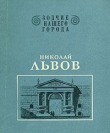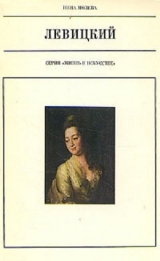
Текст книги "Левицкий"
Автор книги: Нина Молева
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 20 страниц)
Конечно, в этом рекламном описании мысль о возможно более скором браке. Перед правительством Екатерины разворачиваются события французской революции со всеми ее последствиями, встает во весь рост фигура Наполеона. И отсюда острейшая необходимость заключения союзов, поиски и укрепление отношений с возможными союзниками. В отношении Александры Павловны существует проект брака с совсем юным королем Швеции Густавом IV Адольфом. И какой же разной возникает Александра на всех написанных одновременно холстах Левицкого. Девочка, играющая во взрослую в Камероновой галерее. Девочка, внутренне повзрослевшая, – из Павловского дворца. Наконец, самое взрослое, словно предугадывающее будущую внешность Александры лицо портрета в Киевском музее.
Семь лет – не возраст для свадьбы, но уже в 1793 году, спустя два года после написания портретов, начинается официальное сватовство со шведским королем, а в 1796 году оно приводит к назначению свадьбы, которая должна состояться тогда же в Петербурге. Все распалось буквально перед самым венчанием, и какими бы дипломатическими причинами ни объяснять случившееся, Павел прав, говоря, что его дочь оказалась «жертвой политики». Неудача вызывает взрыв отчаяния у великой княжны – как же она мечтает вырваться из нарочитой идиллии своего многочисленного семейства! – и легкий апоплексический удар у Екатерины – предвестие наступившего вскоре конца. Но Александра и останется жертвой дипломатии. Уже отец выдаст ее в 1799 году за австрийского эрцгерцога Иосифа в надежде закрепить отношения России с Австрией против Наполеона. Брак оказывается неудачным. И дело не в характере супругов. Перед лицом разворачивающихся событий венский двор слишком быстро приходит к выводу, что поторопился связать себя с Россией, и когда Александра Павловна умирает в 1801 году от родов в Пеште (ее муж носил титул палатина венгерского), ее смерть воспринимается австрийским правительством с откровенным облегчением.
Вряд ли позже 1793 года Левицкий пишет следующую дочь Павла – Марию: на портрете ей около семи лет. Девочка перенесла в детстве оспу, сильно огрубившую черты ее лица, и только в юности облик Марии исправился настолько, что стало возможным говорить о миловидности ее внешности. В отличие от сестер у нее к тому же мальчишеский нрав и замашки. Екатерина напишет о четырехлетней внучке: «Она настоящий драгун, ничего не боится; все ее склонности и игры напоминают мальчика, и я не знаю, что из нее выйдет; самая любимая ее поза подпереться руками в бока и так прогуливаться». И даже в парадном портрете Левицкий приметит эти черты ребенка.
У Марии твердая посадка головы, резкий поворот, лишенный той мягкости, которая была в старшей сестре, чуть косящие глаза без тени улыбки. За условной позой с отведенной в сторону рукой – Левицкий одинаково ее использует и у девочек Воронцовых и у великих княжон – грубоватая живость и независимость нрава. Они сохранятся у Марии Павловны и в будущем. В 1804 году она станет женой наследного принца Саксен-Веймарского и совершенно неожиданно для женщины ее положения начнет брать уроки у профессоров Иенского университета. Ее знаменитые на всю Европу литературные вечера привлекут Шиллера, Гердера, Виланда, ставшего ее близким другом Гёте. Со временем она создаст в Веймаре музей связанных с городом литераторов. Ей же будет принадлежать идея привлечения в Веймар Франца Листа. Сдержанный на похвалы Шиллер отзовется, что у нее «большие способности к музыке и живописи и действительная любовь к чтению», а Гёте назовет Марию Павловну одной из наиболее выдающихся женщин своего времени.
Левицкий пишет не всех дочерей Павла и даже не по старшинству, если не считать Александры. Выбор моделей для портретов неожидан с точки зрения «большого двора», но он вполне объясним, если предположить, что в нем принимал участие «малый двор». Если Александра была потенциальной невестой и речь шла о скорейшем сватовстве, то Мария не следующая за ней по возрасту. Зато Мария – любимица отца так же, как следующая модель Левицкого, Екатерина, – любимица матери и старшего брата, будущего Александра I. Самая живая из детей Павла, веселая, общительная, она никак не сторонилась и придворной жизни и государственной политики, в чем ее поддерживал старший брат. На портрете Екатерина ближе всего к Прасковье Воронцовой – в том же возрасте, почти в таком же платье, еще не украшенном никакими придворными регалиями. Живое детское личико, которому придает необходимую значительность главным образом пейзажный фон – художник берет девочку в перспективе клубящегося облаками неба – и в какой-то мере улыбка, которую можно назвать условной, не относящейся ни к настроению, ни к характеру ребенка.
Сейчас трудно себе представить, в какой мере личная жизнь этой девочки могла бы оказаться связанной с судьбами всех европейских государств, но Екатерина Павловна – одна из первых кандидатур, которую намечает для своей повторной женитьбы после развода с Жозефиной Наполеон. Во время свидания императоров в Эрфурте в 1808 году Талейран осторожно делает подобное предложение Александру I – такого рода брачный союз положил бы прочную основу союзу государственному. Кому принадлежала инициатива отказа? Одни историки и современники утверждают, что самой невесте и ее матери, другие – одной матери, вдовствующей императрице Марии Федоровне. Но есть и иные свидетельства современников – Екатерина Павловна никак не возражала против перспективы переселения в Париж. Она не отличается в этом отношении от Александры, стремясь вырваться из характерного для семьи Павла почти бюргерского (мещанского?) круга отношений, и охотно предпочла бы столицу Франции Твери, куда она попадает, наспех выданная замуж в начале 1809 года за живущего в России принца (по титулу!) Георга Ольденбургского.
Правда, Екатерина Павловна сумеет и в Твери создать интересный литературный салон, привлечь в него многих культурных деятелей тех дней, начиная с Ю. А. Нелединского-Мелецкого и кончая особо опекаемым ею Н. М. Карамзиным. Почти сразу овдовев, она будет сопровождать Александра I в походах после отступления Наполеона из России и сыграет определенную роль в событиях Венского конгресса. Только вторичное и, кстати сказать, крайне неудачное замужество уведет ее из России. Она умрет в Штутгарте в 1819 году.
В этих портретах гораздо больше светской условности, чем в предыдущих работах Левицкого, но разве можно хоть в одном из них угадать то физическое увядание мастера, которое якобы вынудило его оставить Академию художеств! Все они написаны легко, с блестящим артистизмом, который помогает художнику одинаково совершенно и передавать внешнее сходство, и намечать черты характера, и воспроизводить все бесконечное многообразие материалов, которыми словно любуется Левицкий и которое создает своеобразный цветовой букет каждого отдельного портрета.
Вместе с портретами дочерей Павла Левицкий получает заказы и на другие монаршьи портреты. В 1794 году он пишет портрет Екатерины в рост с оригинала Лампи, который находился над царским местом в соборе Александро-Невской лавры. Для той же лавры он пишет и портрет Петра I с оригинала Амикони, отказавшись от изображенной на нем фигуры Славы, – живописные его достоинства отмечает такой знаток искусства, как бывший польский король Станислав Понятовский. Размер обоих холстов был необычайно велик для художника – около трех метров высоты на два метра ширины. Еще один заказ на портрет Екатерины исполняется им для Государственного банка – императрица на фоне занавеса около колонны с бюстом Петра I и надписью «Начатое совершает» – официозный триумф состарившейся самодержицы.
Портретист «малого двора» – разве не стал им Левицкий после серии великих княжон? Пусть такого звания никогда не вводилось, но по существу именно Левицкий оказался тесно связанным с семейством Павла и от восшествия последнего на престол мог с полным основанием ждать перемены своих жизненных обстоятельств. Так выглядит все с позиций сегодняшнего дня, но события тех далеких лет никак не укладывались в подобную логичную схему.
Заказ на портрет Павла получает Боровиковский. Левицкий в числе других достаточно многочисленных портретистов приглашается Академией художеств для срочного выполнения портретов остальных членов царской семьи: для Павла это форма утверждения своих прав, с которым он очень спешит. Впрочем, на этот раз речь шла не об императорском дворце, а всего лишь о вновь образованном Департаменте уделов. Но даже здесь портрет императора достается не Левицкому – Щукину, который запрашивает за него 2 тысячи рублей. Боровиковского ограничивают портретом великой княжны Елены Павловны, Левицкий берется за портрет новой императрицы, Марии Федоровны, и назначает за него цену 2500 рублей. Цены для Департамента оказываются слишком высоки, и в результате затянувшихся переговоров следует заключение художников, «что есть ли воля его императорского величества есть повелеть им написать вышеупомянутые портреты, то они полагают никакой своим трудам цены. А поелику предоставлена им свобода от Департамента Уделов объявить такую цену, какую каждый из них за труды свои полагает, то и не соглашается из них никто взять менее просимой цены».
Трудно себе представить подобное единомыслие и решительность со стороны безукоризненно исполнительного Щукина, слишком молодого для высказывания собственных взглядов Угрюмова или и вовсе не известного при дворе Жданова. Зато весь эпизод слишком напоминает историю с иконостасами московских церквей Екатерины и Кира и Иоанна, выигранную непреклонностью позиции Левицкого. После стольких лет славы и признания Левицкий снова оказывается одним из исполнителей группового заказа и остается неизменным в своем умении отстоять права художников перед заказчиком.
В конце октября того же года Совет Академии просматривает девять представленных эскизов. Три из них утверждаются, остальные возвращаются на доработку. Но ни в этот раз, ни позже Левицкий не примет участия в выполнении портрета императрицы. Скорее всего, художник решил не подвергать себя унижению, которое ждало его в Совете Академии.
Да, немедленно по вступлении на престол, в первый же день, Павел отдает приказ освободить Новикова из крепости. Над просветителем формально не тяготеет больше никаких обвинений, и если он отправляется на жительство в свое крохотное родовое сельцо Авдотьино, не следствие ли это всего лишь расстроенного здоровья. Современники не скрывают тяжелейшего впечатления: сорокашестилетний полный сил и энергии мужчина через четыре с половиной года выходит из крепости «стар, дряхл и согбен», хотя его заключение добровольно разделял врач, последователь новиковских идей. Пребывание в Авдотьине выглядело естественным. Но ведь новый император, со своей стороны, не выказал никакого желания привлечь Новикова к какой бы то ни было деятельности, просто видеть его в Петербурге. Освобождение как одно из многих: Павел спешил избавить двор от былых приспешников Екатерины, он должен был не соглашаться с нею и во всех ее политических приговорах – обязательный залог новой политики нового монарха.
Но уже с Радищевым все выглядит иначе. Он возвращается из илимской ссылки не сразу (предписание Павла последовало только в конце ноября 1796 г.) и с какими же строгими ограничениями. Бывшему ссыльному назначено для жительства сельцо Немцово Калужской губернии. За его переписку и поведение несет личную ответственность калужский губернатор, и нужно высочайшее разрешение, чтобы Радищев мог съездить в Саратовскую губернию навестить больных и престарелых родителей. Для Екатерины Новиков хуже Радищева. Павел почти игнорирует деятельность Новикова – лишь бы он сидел в своем сельце! – и безошибочно сосредотачивает свое внимание и подозрительность на Радищеве. Понадобится еще одна смена царствования, чтобы Радищев получил наконец действительную свободу. Павел признавал, что обвинения, выдвинутые против Радищева в 1790 году, имели первостепенное значение и опасность тем более после событий французской революции. Эти обвинения гласили, что Радищев преступил должность подданного изданием книги, «наполненной самыми вредными умствованиями, разрушающими покой общественный, умаляющими должное к властям уважение, стремящимися к тому, чтобы произвести в народе негодование противу сана и власти царской».
В 1798 году Капнист непредусмотрительно выступит со своей комедией «Ябеда», с ее образами взяточничества, лихоимства, попрания всех человеческих прав и законов, с вошедшей в поговорку песенкой одного из главных героев – Хватайко:
«Бери, большой тут нет науки.
Бери, что только можно взять.
На что ж привешены нам руки,
Как не на то, чтоб брать».
Комедия выдерживает всего четыре представления и не просто снимается со сцены – Капнисту грозит ссылка в Сибирь со всеми теми мерами строгости, на которые было способно правительство Павла. И нужны чрезвычайно влиятельные и самоотверженные покровители и друзья, чтобы дело ограничилось простым запрещением пьесы. Направление действий правительства Павла не вызывало никаких сомнений: никакого «вольтерьянства», «мартинизма», никаких «умствований» вне границ государственной официальной догмы. Но в этих границах места для Левицкого и его единомышленников не оставалось. Положение мастера со всеми его убеждениями, связями, совместными с друзьями «умствованиями», несмотря на состоявшиеся придворные заказы, не только не улучшилось – оно становилось безнадежным.
Левицкий не порывает с Новиковым, встречается с сыновьями Радищева – разве это не сигнал опасности для его бывших покровителей вроде Безбородко. Скорее всего, заказ на портреты великих княжон был организован именно им, тем более, что он играл немаловажную роль и в выборе женихов для царственных невест. О его продолжающихся контактах с художником свидетельствует то, что Левицкий пишет портрет зятя Безбородко, Г. Г. Кушелева, к которому вскоре перейдет знаменитая галерея смотрителя и реставратора этого собрания живописца Иоганна Гауфа. В отличие от других царедворцев Екатерины, Безбородко не только не утрачивает былого положения при дворе, наоборот – он наконец-то назначается канцлером, знак особого доверия и признательности нового императора.
Молва – опять молва! – утверждала, что именно Безбородко Павел был обязан престолом. Екатерина якобы передала будущему канцлеру завещание в пользу старшего своего внука, будущего Александра I, но Безбородко никак не склонен рисковать. Должность одного из опекунов при малолетнем императоре явно не стоила в его глазах расположения настоящего императора: завещание было им передано Павлу еще тогда, когда Екатерина доживала свои последние минуты. Впрочем, даже не передано. Считалось, что должность канцлера была куплена одним выразительным жестом: Безбородко бросил на глазах Павла бумагу в горевший камин и тут же по его поручению сел писать манифест о вступлении на престол нового императора. Все вместе взятое не заняло и нескольких минут.
Но Безбородко и раньше умел не раздражать Павла. Он не относился к числу тех, кто строил свои жизненные расчеты на одной Екатерине. В 1785 году Екатерина дарит Безбородко московский дом А. П. Бестужева-Рюмина, приобретенный в казну от его наследников. Но достаточно Павлу двумя годами позже выразить желание обладать именно этим дворцом, как Безбородко безоговорочно передает его великому князю, несмотря на все стоившие немалых денег усовершенствования и переделки. Предусмотрительная уступчивость увенчивается историей с завещанием. Но даже такая услуга не могла уверить Безбородко в прочности его положения при дворе. Ему легко убедиться, что старые слуги все равно доверием не пользовались, да и особенности характера Павла, его полнейшая неуравновешенность никому никаких гарантий не давали. Безбородко не склонен помогать никому из старых друзей. Очень скоро он начинает искать способа удалиться от двора и избавить себя от рискованных перемен настроения самодержца. Существовала ли здесь прямая связь, но и Левицкий больше не получает никаких связанных с царским двором заказов.
В непосредственной близости к императору стоит еще и Нелидова. Но она, вспоминая о художнике, если бы даже и захотела, ничем помочь Левицкому не могла. Кстати, после смолянок Левицкий писал ее еще один раз, в 80-х годах. Но дни слишком давней фаворитки при новом дворе сочтены. Романтика старой дружбы никак не устраивает наконец-то дорвавшегося до власти Павла, и он тем охотнее меняет ее на открытый роман с молоденькой Лопухиной.
Никаких перспектив не открывается перед Левицким и в отношении Академии художеств, хотя его имя как мастера приобрело настолько безусловный вес, что из русских портретистов его одного называют все справочники по Петербургу, все первые появлявшиеся в печати 90-х годов обзоры культурной и художественной жизни столицы. В 1790 году Георги в немецком издании «Опыта описания русского столичного города Санкт-Петербурга» называет Левицкого среди проживающих в столице художников (лишнее доказательство ошибочности предположения, что художник уезжал после отставки на Украину) как «профессора Академии и прославленного портретиста». Во втором издании книги, появившемся четыре года спустя уже на русском языке, автор с претензией на исчерпывающую полноту приводит всех сколько-нибудь значительных подвизающихся в Петербурге художников. Здесь Гине, Гонзаго, Грот, Губерти, Гутт, Михаил Иванов, Кнапп, Майр, Миттенлейтер, Тишбейн, Карл и Петр Скотти, из портретистов миниатюрист Гутт, Крейцингер, Лампи, Деляпьер и «Дмитрий Левицкий, профессор Академии художеств, славный живописец портретов». Георги добавляет, что произведения Левицкого находятся на почетном месте в музее Академии художеств и в собрании портретов Екатерины II в Эрмитаже наряду с Росленом и Лампи. Для всех характерно «изящнейшее письмо», а Левицкий к тому же «отличается наиболее прекрасной живописью платья».
Появляющееся в том же году в Риге «Описание Петербурга» на немецком языке Г. Шторха свидетельствует, что «нелегко найти род живописи, в котором бы Санкт-Петербург не имел одного или нескольких первоклассных мастеров». К их числу Шторх относит Грота, Гине, Кнаппе, Мейса, Тишбейна, Майра, Миттенлейтера, Гонзаго и Левицкого – «русского, профессора Академии, прославленного портретиста», а также «рано умершего исторического живописца Козлова».
Они уходят один за другим, может быть, и не связанные с Левицким таким духовным родством, которое объединяло художника с Новиковым, но все равно очень близкие, отметившие своей дружбой и сердечным отношением целые куски его жизни. В мае 1791 года не стало Гаврилы Ивановича Козлова – профессору живописи исторической не успело исполниться пятидесяти трех лет. В «Санкт-Петербургских ведомостях» появляется объявление, что вдова коллежская советница Козлова продает с аукциона в собственном доме на Васильевском острове под номером 53 в Седьмой линии «живописные картины оригинальные и копии, гравированные, для чтения служащие книги, также от прежнего аукциона оставшиеся вещи». Последнее было явным преувеличением. Назначенный на 11 октября первый аукцион вообще не состоялся из-за отсутствия народа. Наследие одного из первых профессоров русской исторической живописи в девяностых годах уже никого не могло заинтересовать. Коллежской советнице Козловой остается возлагать все надежды на следующие аукционы, назначенные на всякий случай сразу на два дня подряд – 17 и 18 октября.
Четырьмя годами позже не станет и Антропова – в июне 1795 года. Его похороны состоятся на том же ставшем некрополем русских художников Смоленском кладбище. С наследством Антропова все обстоит гораздо проще. Еще в 1789 году он предоставит Приказу общественного призрения свой дом для устройства сиротского училища. По завещанию художника, этот дом переходит в собственность Приказа: у Антропова были очень ясные представления о своих гражданских обязанностях и обязательствах по отношению к осиротевшим детям своих товарищей по мастерству.
Ушли в далекое прошлое времена, когда первые питомцы Академии были еще только ремесленниками, для которых очень постепенно открывался мир знаний и сознание собственной значимости как художника и гражданина. Но это Академии времен Козлова и Левицкого обязаны своей увлеченностью не просто миром литературы и истории, но и живейшими политическими интересами те, кто занимается в академических классах в девяностых годах. В 1798 году только что переведенный в старший, пятый, возраст А. И. Ермолаев пишет своим товарищам, будущему академику Востокову и книжному иллюстратору и архитектору А. И. Иванову, адресуясь к последнему: «Политическая твоя статья весьма хорошо написана, и я тебя за нее весьма благодарю, а особливо за выписку об экспедиции и характера генерала Буонапарте. Я никак не могу всему верить, что о нем пишут в Лондонских известиях, и для многих причин. Мне нет времени представить тебе их по порядку, а скажу только то, что если бы Буонапарте не имел тех талантов, чрез которые он сделался столь известен, то я уверен, что Директория Французская не поручила бы ему главного начальства над такою армиею, какова Итальянская, на которую Директория положилась в произведении главнейших своих планов против Римского императора; притом Буонапарте должен был бы во всем следовать советам Бертье; но мы напротив того знаем, что во время баталии при Лоди Буонапарте не послушался и – одержал победу. Стало быть Буонапарте имеет таланты, которые доставляют ему верх над неприятелем, в то время когда Бертье не находит в себе и столько искусства, чтоб хоть не проиграть батальи».
Подобному разбору событий внешнеполитических не уступают разборы явлений в современной литературе, авторами которых выступают те же пятнадцатилетние юноши. «Ты хвалишь Нарежного, – пишет в одной из своих записок А. И. Иванов, – а я похвалю тебе князя Долгорукова, коего я читал недавно две или три пиесы в стихах весьма прекрасные, по моему мнению. Штиль его не разнится от Фонвизинова. Его ода к слову авось весьма замысловата… другая пиеса Я, там он с любезною откровенностию себя описывает. Еще недавно узнал я одного, весьма непоследнего из русских авторов Хемницера, хотя я сие имя и знал, что он автор, но не знал, что он русской… Львов собрал и издал его басни, которые мне кажутся весьма прекрасными». Иными словами, весь круг друзей и единомышленников Левицкого прекрасно и во всех подробностях их действительных стремлений известен академистам, причем эта общность взглядов не оставляет молодых художников в бездействии.
Именно в их среде в те же годы образуется кружок, занятый вопросами «устройства политического бытия России», по существу первый политический кружок в стране. Но характерно и само упоминание имени Нарежного. В. Т. Нарежный еще остается студентом Московского университета, и речь идет о его самых первых публикациях в «Приятном и полезном препровождении времени» и «Ипокрене» – свидетельство того, насколько внимательно будущие художники следили за развитием родной литературы. И если в дальнейшем Нарежный станет одним из непосредственных предшественников Гоголя, то в последние годы XVIII столетия он выступает под сильнейшим влиянием «звукописи» Державина в стихах и прозе. В начале девяностых годов будущий академик-филолог А. X. Остенек-Востоков переходит из Сухопутного шляхетного корпуса в Академию художеств, которая поражает его широтой интересов и увлечений своих воспитанников. «Эти товарищи, – напишет он в воспоминаниях, – настроили мой ум на особенные мечтания: согласно с книгами, которые мы читали, занимали нас попеременно приключения Жилблаза, открытие Америки, подвиги Кортеса и Пизарро, Робинзон Крузье и другие подобные предметы». Все это относится к так называемому третьему возрасту, предшествовавшему переходу в специальные классы.
Формально замена одряхлевшего и не способного ни к каким полезным для Академии действиям Бецкого, до конца поглощенного единственной мыслью удержать за собой все те многочисленные административные должности, которые когда-то так щедро отдавала ему Екатерина, А. И. Мусиным-Пушкиным открывала достаточно радужные перспективы. Не столько сановник и чиновник, сколько увлеченный и знающий археограф, знаток древнерусской литературы и источников, новый президент не мог не сознавать ответственности предложенного ему дела и, во всяком случае, обладать необходимым пониманием его специфики. Его речь при вступлении в должность вполне подтверждает это понимание: «Пламенеет сердце желанием и усердием к ревностному звания прохождению; но не равносильны оному ни сведения, ни способности». Правда, резкая самокритичность подобных слов не помешает Мусину-Пушкину уже через несколько месяцев войти в открытый конфликт с Советом Академии. Сами ученики отмечают начавшиеся изменения, подчас и не оставлявшие в академических документах следа. Один из них со временем напишет: «В конце того года умерла Екатерина II и пошли новые преобразования. Между учениками Академии завелась игра в солдаты». «Игра» не имела отношения к настроениям будущих художников и, напротив, способствовала рождению в них внутреннего протеста и самосознания.
Перемены наметились со всей определенностью и до смерти Екатерины, что заметно сказалось не только на среде Академии художеств, но и на ближайших знакомых Левицкого. Из братьев Храповицких остается все тем же Михаил, но Александр после удачно поднесенных императрице стихов, прославлявших ее путешествие в Тавриду, становится статс-секретарем монархини и уже советует Державину воздержаться от критических замечаний в ее адрес – совет безусловно дружеский и имевший в виду пользу Державина. В 1794 году поэт ответит недавнему другу посланием:
«Товарищ давний, вновь сосед,
Приятный, острый Храповицкий!
Ты умный мне даешь совет,
Чтобы владычице Киргизской
Я песни пел
И лирой ей хвалы гремел.
Так, так! за средственны стишки
Монисты, гривны, ожерелья,
Бесценны перстни, камешки
Я брал с нее бы за безделья.
И был гудком,
Давно Мурза с большим усом».
Это еще не основание для исчезновения былой близости, но дороги обоих литераторов явно разошлись, как разошлись они у Храповицкого и с Левицким. Спустя всего четыре года после первого послания Храповицкому Державин напишет другое, еще более откровенно утверждающее незыблемость взглядов поэта:
«Извини ж, мой друг, коль лестно
Я кого где воспевал:
Днесь скрывать мне тех бесчестно,
Раз кого я похвалил».
«Обстоятельства чувствительно увеличивают круг моих познаний», – отмечает в дневнике середины девяностых годов один из воспитанников Академии. Обстоятельства, к которым относилась и атмосфера самой Академии, и политические реформы в стране, и события во Франции. Сама по себе учебная программа их не может удовлетворить. «Предавшись ремеслу архитектурному, я прозябал», – признается один академист. Поэтому к размышлениям о существе искусства присоединяется увлечение только что вышедшей первой книжкой «Аглаи» Н. М. Карамзина, коллективная работа над переводом романа Ж. Дюлорана «Отец Матье», представлявшего острую сатиру на общественные нравы и особенно духовенство. Академисты ограничиваются рукописными экземплярами, тогда как в русском переводе роман будет издан лишь шесть лет спустя. Они увлекаются Оссианом и русской историей.
«…Новгород Великий виделся только из дали. Подъезжая к нему за несколько верст еще открывается золотая глава Софийского собора… Въехав в город, я почувствовал что-то такое, чего тебе описать не умею. История Новгорода представилась моему воображению; я думал видеть наяву, что я знаю по описанию; при виде каждой старинной церкви приводил я себе на память какое-нибудь деяние из Отечественной истории. Воображение мое созидало огромные палаты на всяком месте, которое представлялось глазам моим. Где теперь хоромы посадника Добрыни? думал я сам в себе и сердце мое сжималось; какая-то тоска овладевала оным. Наконец, представилась мне старинная стена крепости (по старинному детинца или тверди). Какой прекрасный вид! Стена уже получила цвет, подобный ржавчине, который гораздо темнее наверху, нежели внизу; и весьма походит на архитектурное построение. Зубцы по большей части обвалились, а на их месте растет трава и небольшие березовые кустики… в некотором расстоянии внутри крепости есть башня, которая по уверению некоторых людей составляла часть княжеских теремов. Не знаю, правда ли это, однако же когда мне о том сказали, то старинная башня сделалась для меня еще интереснее. Здесь может быть писана Русская Правда…Удалось мне окинуть глазом внутренность Софийского собора и найти, что славные медные двери, привезенные Владимиром из Херсона, которые нам столько рекомендовал граф Алексей Иванович Мусин-Пушкин, не суть важны,как говорит Михайлов, потому что они деревянные и сделаны при царе Иване Васильевиче в 1560 году, каким-то Псковитянином и каким-то Белозерцем, это я увидел из подписи, вырезанной на самих дверях…». Строки из частного письма питомца Академии любопытны не только тем, насколько серьезно занимались академисты отечественной историей и искусством ее прошлого, – в этом отношении Мусин-Пушкин неожиданно нашел здесь для себя на редкость благодарную, но и очень требовательную аудиторию, – не менее важен акцент, который делает будущий художник на идее вольности Древней Руси, существовавших в ней законов.
Но что вызвало быстрый уход Мусина-Пушкина с президентского поста – собственное ли желание (он был назначен сенатором), или желание Павла видеть в этой должности человека иных, более определенных политических устремлений? Мусина-Пушкина волнуют древнерусские рукописи, летописи. Свое положение обер-прокурора Синода он сумел использовать для того, чтобы пересмотреть неисчерпаемые в этом отношении сокровищницы отдельных монастырей и епархий. Отказа при своей должности ему опасаться не приходилось, не говоря о том, что духовенство и не дорожило никакими письменными памятниками. К тому же Мусин-Пушкин организовал целую сеть комиссионеров, которые приобретали ему документы в разных городах. Можно по-всякому оценивать подобный способ составления знаменитого собрания, но, так или иначе, именно Мусину-Пушкину принадлежит открытие «Слова о полку Игореве», древнейшего списка Лаврентьевской летописи, новых списков «Русской Правды», о которой с таким волнением пишет молодой художник, и «Завещания Владимира Мономаха». Мусин-Пушкин не останавливается и перед тем, чтобы скупить у Сопикова все бумаги о Петре I.