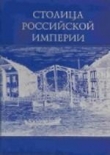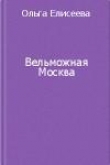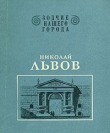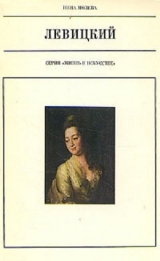
Текст книги "Левицкий"
Автор книги: Нина Молева
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 20 страниц)
Исследователи не располагали документальными доказательствами, что жена Григория Носа, мать будущего портретиста, была урожденной Левицкой. С другой стороны, предполагаемое тщеславие Григория Носа не могло найти своего удовлетворения именно в браке. В списке дворянских родов Носы фигурируют рядом и наравне с Левицкими и не уступают последним в древности происхождения. Хотя не исключено, что связанные с художником семьи и Носов и Левицких были всего лишь однофамильцами дворянских родов. Тем не менее само по себе понятие простонародности первоначальной фамилии гравера, тем более ее благозвучности теряло для XVIII века всякий смысл (как быть в таком случае с русскими Хвостовыми или боярским родом Овчины-Телепневых?).
Версия о перемене гравером фамилии в стенах Духовной академии отпадала, и не только потому, что Григорий Левицкий академистом никогда не был. Сам по себе существовавший среди питомцев Академии обычай никак не мог касаться Григория Носа. Обычай возник среди выходцев из недуховных семей, чтобы символизировать переход в среду священнослужителей, будущий же гравер и так принадлежал к заслуженному поповскому роду. Его отказ от связи с этим родом представлялся тем более непонятным, что Григорий даже сохранил за собой наследственный приход. Поэтому причину его поступка следовало искать не в духовной среде и, во всяком случае, вне нее. Дошедшие до нас гравюры Григория Левицкого свидетельствуют, что он пользовался новой своей фамилией задолго до рукоположения в сан священника и до женитьбы. Фамилией «Левицкий» гравер подписывается за рубежом, в годы своего обучения мастерству. Теперь только вставал вопрос, на какое именно время его обучение приходилось.
По существу, о фактах биографии гравера, особенно в ранний ее период, позволяли судить всего лишь два источника – короткая и единственная запись в исповедной книге Михайловской церкви, где Григорий назван среди других членов семьи отца, и длиннейшая обстоятельнейшая просьба его тетки, вдовой попадьи Пелагеи Мироновны. Вдова родного дяди гравера, Алексея Носа, Пелагея искала управы на племянника, который занял освободившийся после смерти ее мужа приход и отказывал ей и ее сыну Николаю в причитающемся им от поповского дохода пропитании.
Стремясь доказать всю незаконность действий племянника, сомнительность его прав, попадья приводила некоторые подробности из его жизни. Из жалобы следовало, что оставил Григорий Маячку сразу после Полтавской баталии «в малых летах» и исчез в неизвестном направлении, что объявился он в Маячке лишь спустя двадцать лет, когда родные уже «не чаяли его в живых» и, как выяснилось, «из немецких земель». Притом стал Григорий попом только по возвращении и сразу получил кормивший попадью приход.
Из слов Пелагеи биографами был сделан вывод, что родился Григорий Нос в конце 1690-х годов – скорее всего, в 1697 году, – оставил Маячку после 1709 года и соответственно вернулся на родину в конце 1730-х годов. И эта засвидетельствованная родственниками благополучная версия оказывалась полностью опровергнутой единственной строкой в исповедной росписи 1724 года.
Право выбора – дано ли оно исследователю при анализе исторических материалов? Можно ли предпочесть одно обстоятельство другому, включить в складывающуюся концепцию один факт, обойдя или любой ценой стремясь поставить под сомнение другой? Выводы из жалобы вдовой попадьи, несмотря на всю их приблизительность, оказались поддержанными биографами и семейными историками, и в результате критике подверглись не ее сведения, но исповедная роспись, которая была обвинена в неточности, якобы неизбежной во всех документах подобного рода.
Несомненно, каждый вид документов обладает своими особенностями, которых не может не знать и не учитывать в своей работе историк. Обычно это мера и характер возможных погрешностей, требующих соответствующей перепроверки, как бы ни был велик соблазн увидеть в каждом новом сведении открытие. Несмотря на свой церковный характер, исповедные росписи в действительности представляли форму учета и контроля благонамеренности граждан Российской империи. Возраст, который в них приводился, как, впрочем, и во всех документах XVIII века, точностью не отличался, но ошибки колебались в пределах одного-двух лет. Зато факт присутствия отмечаемого человека был безусловным. Отсутствующие, какой бы кратковременной ни была их отлучка, не заносились в исповедную роспись никогда. Григорий Левицкий мог родиться не в 1708 году (согласно росписи, ему 16 лет), а около этого года, но, вне всяких сомнений, в 1724 году он еще оставался в Маячке, а не исчез «безвестно» в «немецких землях», как на том настаивала вдовая попадья. Впрочем, даже ее собственный рассказ по-своему подтверждает данные исповедной росписи.
Из слов Пелагеи следовало, что Григорий Нос-Левицкий появился в Маячке после смерти попа Алексея Носа, которого не стало в конце 1730-х годов, и тогда же был рукоположен в священники, что и дало ему право занять освободившийся приход. Если бы Григорий вернулся еще в начале 1730-х годов, упоминание о его долгом отсутствии и внезапном возвращении в Маячку теряло всякий смысл. Десяти с лишним лет после возвращения вполне достаточно, чтобы человек снова воспринимался местным жителем, каким Григорий еще не успел стать даже в глазах своих родных.
Итак, двадцать лет отсутствия. На какой же временно́й отрезок они приходились? В 1724 году шестнадцатилетний Григорий Нос еще наверняка находится в Маячке, 1737 год застает гравера Григория Левицкого в Киеве. Именно в этом году выходит в Киево-Печерской типографии книга «Деяния святых апостол» с его гравюрами. Каждый гравированный лист нес на себе подпись: «Григорьи Левьцкій Кіев». За тринадцать лет Григорий Нос приобрел профессию гравера и достаточную известность, чтобы получить ответственный заказ в Киеве, но и новую фамилию.
Где же могла произойти эта последняя метаморфоза? Тетка гравера говорит о «немецких землях». То же указание повторяет и одна из первых энциклопедий по искусству – изданный в 1839 году «Kunstlerlexikon» Наглера, а вслед за ним и семейные историки. При этом Наглер имел в виду конкретно Вроцлав, где в первой половине XVIII века работала особенно интересная школа граверов. Польским исследователям удалось установить безусловное сходство между работами Григория Левицкого киевского периода и листами вошедшего в историю польского искусства гравера Гжегожа Левицки. Гжегож уверенно справляется со сложными композиционными построениями, наряду со множеством фигур использует в них детали пейзажей, декоративные мотивы, сюжетные сценки, приближаясь в этом отношении к приемам известной вроцлавской школы гравера Бартоломея Стаховского.
Выводы польских ученых получили развитие в трудах советских украинских историков, которые совсем недавно установили, что Гжегож Левицки из школы Стаховского и Григорий Левицкий из полтавской Маячки одно и то же лицо. Но тем самым получали подтверждение и слова вдовой попадьи и указание Наглера: в условиях правления Августа II Сильного, курфюрста Саксонского, входившие в его владения польские земли очень часто называли немецкими.
И новый неизбежный вопрос: почему Григорий Нос предпочел для обучения и работы зарубежную Польшу, а не соседний Киев? Киевские граверы пользовались не меньшей известностью, а занятия у них открывали перед начинающим художником несравнимо большие возможности в смысле получения работы в родных местах. Кроме того, при занятиях в Киеве не возникало такой значительной дополнительной трудности, как чужой язык. Тем не менее все эти препятствия не помешали Григорию Носу, единственному сыну, получить от отца согласие на отъезд.
Единственный сын священника, меняющий профессию отца на труд гравера, – в этом не было ничего удивительного, особенно если представить себе, сколько братьев-попов имел Кирилл Нос. Даже в самом отдаленном будущем Григорию не приходилось рассчитывать на наследственный приход. Но почему именно Польша и Вроцлав, хотя именно из польских земель семья Носов бежала на Полтавщину? И что в действительности стояло за этим бегством – вопрос, ушедший от внимания исследователей.
Украина XVII столетия. Упорная и не стесняющаяся средствами борьба за влияние на нее соседних могущественных государств. Распря между левобережными гетманами, традиционно тяготевшими к Москве, и гетманами Правобережья, в поисках самостоятельности готовыми на любое предательство интересов своей земли. Петр Дорошенко, ищущий поддержки Оттоманской Порты и добивающийся в 1669 году заключения договора с Турцией, по которому левобережное казачество попадало под власть турецкого падишаха.
Взрыву народного возмущения могла противостоять только сила, и притом огромная сила. Поэтому для власти Дорошенко так важна поддержка турок, которые весной 1672 года под предводительством султана Мухамеда IV вместе с войском присоединившегося к ним крымского хана вторгаются в Польшу, берут Каменец и осаждают Львов. Зверства Дорошенко, жестокость и грабежи захватчиков ведут к тому, что сплошные толпы беженцев направляются с правого берега Днепра на левый и среди них много православных попов. Религиозные притеснения со стороны турок делали их положение совершенно невыносимым, если они чудом и оставались в живых. Сдача Дорошенко и принесенная им в 1676 году присяга на верность московскому царю не прекратили борьбы, продолжавшейся до 1681 года. Но и позднее, согласно заключенному с турками перемирию, Западная Украина оставалась под протекторатом Оттоманской Порты. Религиозные гонения не утихли, если даже внешне несколько и ослабели.
Поповская семья Носов разделила судьбу соотечественников. Но уход с родных мест не означал для нее прекращения поколениями складывавшихся родственных и даже деловых связей. В семье сохранялось знание польского языка наравне с украинским и русским. В XVIII веке решение вопроса профессионального обучения слишком часто зависело от личных связей. Скорее всего, именно они и определили судьбу Григория Носа. Эта судьба и позволяет высказать некоторые предположения относительно перемены им фамилии.
По сохранившимся со времен средневековья обычаям в художническо-ремесленнической среде ученик мог принять фамилию учителя, если по выбору мастера становился его наследником. Такого рода преемственность позволяла сохранить мастерскую со всеми сложившимися ее традициями, кругом заказчиков и деловых связей. Наследование имени учителя допускалось и в случае женитьбы ученика на дочери мастера. Так могло быть и с Григорием Носом, причем характерно, как долго учится гравер русской транскрипции своей новой фамилии. Но здесь возникает еще одно любопытное соображение, связанное с характером самой фамилии.
На первых известных нам гравюрах 1737 года Григорий подписывается в одном случае «Левьцкій», в другом «Левьцскій» – варианты, которые нельзя связать с попытками фонетического перевода фамилии с польского на русский, тем более отнести к неграмотности автора. Восьмью годами позже, уже имея сан священника, гравер отбросит окончательно букву «с» в написании фамилии, но в основном ее написании будет колебаться по-прежнему – «Левьцкий» и «Левицкій». В 1760 году на одном из документов он подпишется и вовсе «иерей Левецкий». Такого рода фамилию, указывавшую непосредственно на место происхождения, носили выходцы из города Левица (в чешско-словенском произношении), или Левец (в немецком варианте, иначе Лева – по-венгерски), расположенного в отрогах Татр на небольшом расстоянии от Львова и Кракова. Во всяком случае, к единообразному написанию фамилии «Левицкий» придут только сыновья Григория.
Так высоко ценимые биографами предания семьи художника снова не выдерживали сопоставления с фактами. Во второй половине 1730-х годов Григорий Левицкий снова на родине, хотя и не торопится в Маячку. Профессия гравера связывала его с Киевом, заставляла оставаться вблизи типографии, и где-то в этот период у Григория Левицкого возникают контакты с Разумовскими. Имели ли они значение для его биографии? По всей вероятности, да.
Фаворит полуопальной и, во всяком случае, находящейся под постоянным подозрением, угрозой ссылки или монастыря цесаревны Елизаветы Петровны, Алексей Разумовский еще не играл никакой роли в придворной жизни. Тем не менее ему уже удается составить кое-какое состояние для себя и своих многочисленных остававшихся на Украине родных. Его положение при цесаревне получает почти официальный характер, и каждый из придворных корреспондентов Елизаветы Петровны не забывает передавать «почтеннейшему Алексею Григорьевичу» свои поклоны и пожелания. Эта мера предусмотрительности оправдывает себя в отношении представителей самых влиятельных семей. Связь с Разумовскими не проходит бесследно и для гравера из глухой Маячки. Не случайно все наиболее значительные изменения в его жизни происходят сразу после вступления на престол Елизаветы Петровны.
Священнический сан – мог ли рассчитывать на него Григорий Левицкий в начале 40-х годов? Он не кончал Духовной академии смолоду, тем более не вправе думать о ней, будучи женатым и отцом троих детей: родившегося в 1735 году Дмитрия, в 1741-м – Марии и в 1742-м – Ивана. Правда, существовали исключения, когда курс Академии заменялся единовременными испытаниями, но они делались только для церковного причта, практически овладевшего всем сложнейшим порядком православного богослужения. Нужна была особенно сильная протекция, причем непосредственно в Синоде, чтобы подобное исключение было распространено на светское лицо, каким стал с приобретением новой профессии поповский сын Григорий Левицкий. Тем не менее гравер получает и иерейский сан, а вместе с ним право на михайловский приход – неожиданность, так поразившая вдову Пелагею.
Григорий Левицкий явно не собирается менять профессии, не думает отказываться от гравирования. Но право на приход было своего рода ленным правом. Гравер мог занимать его сам и самолично собирать в свою пользу поступавшие доходы, но мог уступить право служения другому попу на условии выплаты определенной как бы арендной суммы, формально предназначенной на прокормление семьи. Именно такое решение и принимает Григорий Левицкий. Вместе с тем иерейский сан ставил его в особое по сравнению с другими художниками положение, давал преимущество в получении заказов от лаврской типографии, занятой главным образом церковными изданиями. С этого времени Григорий Левицкий почти безвыездно находится в Киеве.
О сохранявшейся связи гравера с семейством Разумовских свидетельствует одна из капитальных работ Григория Левицкого – гравюры к «Аристотелевой философии», напечатанной в 1745 году во львовской ставропигийской типографии на славянском, польском и латинском языках. Обычное для XVIII века панегирическое издание, снабженное витиеватым и многословным посвящением Алексею Разумовскому от префекта Киевской академии Михаила Казачинского, книга была снабжена гравированными листами с геральдическими сочинениями Григория Левицкого.
Гравер изображает несколько вариантов вензелей Разумовского – один несут амуры, другой рассматривает в задумчивости Гений истории – герб новоявленного графского семейства – и, наконец, сложнейшее генеалогическое древо – лист, несущий на себе наиболее полную из всех известных подписей гравера: «Презвитер Григорій Левицкій полку Полтавского городка Маиачквы в Киеве 1745 Марта выделал». Все эти посылки, казалось, только подтверждали следующее положение общепринятой биографии Григория Левицкого – о его участии теперь уже вместе с сыном в росписи киевского Андреевского собора.
Андреевский собор в жизни Григория Левицкого и творчестве его начинающего живописца-сына, или иначе – загадка Андреевского собора. Хрестоматийные биографии обоих художников вступали здесь в совершенно неприкрытое противоречие с фактами. Обширнейшая строительная документация собора не содержала ни одного упоминания их имен. Исследователи не щадили сил на поиски – результаты оставались неизменными, что не мешало биографам упрямо утверждать правоту некогда сложившейся схемы. Если связи Григория и Дмитрия Левицкого с работами в соборе до сих пор не удалось установить, тем хуже для документов: такая связь должна была существовать.
Только что могло поддерживать подобную уверенность? Художественная практика первой половины XVIII века не дает никаких примеров, чтобы граверы совмещали свою профессию с занятиями живописью. Специфика чисто ремесленнической основы обеих специальностей была слишком велика, чтобы расходовать время и силы на их совмещение. В условиях самых спешных петербургских работ то в связи с «печальной комиссией» – похоронами Анны Иоанновны, то в связи с коронационными торжествами и триумфами, когда дорог был каждый художник, Канцелярия от строений никогда не обращалась к многолюдному Гравировальному департаменту Академии наук. Зато, несмотря на отчаянное сопротивление соответствующих администраций, вызывались и переводчик из той же Академии, и хирург из Петербургской военной гошпитали, и чиновники разных департаментов, которые в пределах программ законченных ими учебных заведений познакомились с основами изобразительного искусства, и в частности – живописи. К тому же работы в Андреевском соборе представляли дополнительные чисто ремесленные сложности – они состояли из так называемых альфрейных росписей по сырой штукатурке.
Упорство, с которым биографы вопреки документам настаивали на связи отца и сына Левицких с соборными росписями, заставляло снова и снова проверять, из чего собственно складывались здесь живописные работы.
Андреевский собор в Киеве, Преображенский в Петербурге, Климентовская церковь в Москве – на первый взгляд они не имеют между собой ничего общего. Разные города, разные архитекторы и художники, разные обстоятельства строительства. Совпадают, и то приблизительно, только годы и повод их сооружения.
Преображенский собор Елизавета Петровна отдает распоряжение построить в петербургских слободах Преображенского полка, на месте той «съезжей избы» гренадерской роты, где ей была принесена первая присяга в ночь дворцового переворота. Собор выражал ее благодарность за восшествие на престол и увековечивал роль в этом событии Преображенского полка. Первоначальный вариант проекта принадлежал пенсионеру Петра I М. Г. Земцову, окончательный – П. Трезини, когда-то состоявшему строителем в штате цесаревны, с поправками начинавшего входить в моду В. В. Растрелли.
Собор был заложен в 1743 году, как и единственная из трех построек, возводившаяся на частные деньги, – Климентовская церковь. Она также посвящалась восшествию на престол Елизаветы, но была дипломатическим ходом в сложнейшей игре А. П. Бестужева-Рюмина. Проект Климентовской церкви принадлежал П. Трезини. К тем же годам относится и сооружение Андреевского собора по проекту В. В. Растрелли, которому было отдано предпочтение перед первоначальным вариантом Г. Шеделя.
Во всех случаях внутренняя отделка церквей строилась по единому принципу – альфрейные росписи в куполе и парусах и колоссальный резной иконостас, заполненный живописными образами. Одинаковым порядком производились и все связанные с их выполнением работы. На иконостас заключался отдельный договор с резчиками. В Преображенском соборе это были москвичи братья Кобылинские, в Андреевском – «резного дела мастер иноземец» Андрей Карловский. Причем в обоих случаях рисунок иконостаса предварительно делался «в большом виде» на сколоченных досках самим Растрелли.
На иконы составлялся Синодом список сюжетов, который опять-таки по подряду передавался вольным живописцам. Они работали под наблюдением живописного мастера Канцелярии от строений И. Я. Вишнякова. В материалах Канцелярии относительно Андреевского собора указывалось: «Приказали живописному мастеру Вишнякову оные иконы и протчее означенному расписанию в те места, каковы на взнесенном в святейший правительствующий Синод ис канцелярии от строений чертеже показаны, писать с наилучшим искусством немедленно и для того рамы по номерам его Вишнякова зделать на здешнем мастерском дворе…» В списке заказываемых икон были: «Стоящий Христос с книгой, Стоящая Богородица с Младенцем, Андрей Первозванный с хартией» и т. д. Интересуясь судьбой и киевского и петербургского соборов, Елизавета Петровна специально оговаривает, чтобы образа для них писались живописным письмом. Однако и в отношении живописного письма уже складывается определенная, своего рода изобразительная формула, которой полагалось придерживаться художникам в церковных заказах. Появляется круг исполнителей, наиболее отвечавших современным требованиям. И. Я. Вишняков в обоих случаях отдает предпочтение одним и тем же проверенным мастерам – Мине Колокольникову и сотрудничавшим с ним художникам. Все иконы пишутся ими в Петербурге и уже в готовом виде переправляются в Киев, причем киевский заказ выполнялся Миной Колокольниковым непосредственно после петербургского.
Последними по очередности шли альфрейные работы. Распоряжение о них делается дважды. Первый раз в 1748 году на Украине было обнародовано приглашение всем местным художникам принять участие в предполагавшихся торгах на подряд. По существовавшему распорядку, Канцелярия от строений договаривалась с теми, кто предлагал наиболее низкую цену за исполнение. Тот же указ был повторен после окончания строительных работ, в 1752 году – «договариваясь, нанимать настоящей ценой без передачи». Вся эта организационная сторона и наблюдение за завершением общего художественного оформления собора поручались живописному подмастерью Канцелярии А. П. Антропову. Ни изменить объема живописных работ, ни взять на себя их исполнение художник уже не мог. Ему негде было бы и использовать неучтенных документацией исполнителей, какими только и могли стать Григорий Левицкий с сыном.
Но была и другая ускользнувшая от внимания сторона вопроса – действительное местопребывание и характер занятий Григория Левицкого в то время, когда шли художественные работы в Андреевском соборе. По счастливой случайности, восстановить эти обстоятельства можно.
Антропов приезжает в Киев в середине лета 1752 года – предписание Канцелярии от строений о его выезде из Петербурга было датировано 14 июня – и отправляется в обратный путь из Киева 10 октября 1755 года. К 1752 году относится одна из значительнейших работ Григория Левицкого – гравюры для «Апостола» Киево-Печерской лавры. Почти непосредственно после них ему поручается выполнение большого сложного листа с портретом Дмитрия Туптало для книги «Летопис келейный преосвященного Дмитрия митрополита Ростовского и Ярославского… его Архиерейскими трудами сочиненный». Экземпляр этой гравюры сравнительно недавно был обнаружен в собрании Волынского музея. А в 1754 году исповедная роспись Михайловской церкви отмечает, что гравер находится в Маячке вместе со старшим сыном, Дмитрием. Иначе говоря, будущий портретист не оставался в Киеве около Антропова. Для его отца это период напряженной работы, ответственных заказов, и Дмитрий находится в семье.
Собранные в своей совокупности, эти посылки давали основание считать, что Левицкие либо вообще не участвовали в живописных работах Андреевского собора, либо участие их было эпизодическим. Не могли они в годы осуществления росписи работать под руководством Антропова. Если вернуться на единственно допустимую в историческом исследовании почву документальных источников, приходится отнести связь Левицкий – Антропов к гораздо более поздним годам, пусть даже знакомство художников и состоялось именно в Киеве.
Левицкий действительно расстался в конце концов с отцом, уехал с Украины, из Киева, действительно оказался в Петербурге и при этом в доме Антропова. Пребывание у Антропова засвидетельствовано документом 1758 года. В это время Левицкому уже 23 года, и он должен обладать достаточными профессиональными познаниями живописца. Таковы условия времени, когда живописи, как и любому другому искусству или мастерству, начинали учить еще в детском возрасте. Антропов не мог быть первым учителем Левицкого ко времени их встречи, им не мог быть в части живописи и Григорий Левицкий. Вопрос Н. А. Львова о первых уроках и первых профессиональных опытах портретиста по-прежнему остается без ответа.