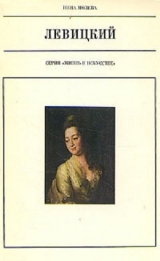
Текст книги "Левицкий"
Автор книги: Нина Молева
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 20 страниц)
Нина Михайловна Молева
Левицкий
Ты хочешь знать: кто я? что я? куда я еду?
Я тот же что и был и буду весь свой век:
Не скот, не дерево, не раб, но человек!
А. Н. Радищев

В. Л. Боровиковский. Портрет Д. Г. Левицкого [1]1
Часть черно-белых иллюстраций заменена на аналогичные цветные (прим. верстальщика).
[Закрыть]
Каждый художник может иметь свою легенду. Каждый большой художник не может не иметь своей легенды. Легенда сплетается из пестрой смеси разрозненных фактов, иногда важных, чаще случайных, из оставшихся невыясненными обстоятельств, бегло просмотренных или несопоставленных друг с другом документов, скороговоркой переданных свидетельств современников, потомков, наследников потомков, из недоделок и недосмотров исследователей и, само собой разумеется, из логических домыслов, возводящих и цементирующих единое целое.
Легенда – концепция, она же и образ. Единожды возникший (продиктованный?) в определенных условиях времени, взглядов, идейных противоречий, как часто такой образ оказывается впоследствии – сознательно или неосознанно – тем главным критерием, по которому примеряются, отбираются или отвергаются новые данные. Это он становится традицией, а вслед затем и аксиомой общепризнанных знаний.
Степень соответствия исторической действительности здесь может быть значительной, незначительной или вовсе ничтожной – все равно легенда обладает большей весомостью и, во всяком случае, живучестью, чем любой вновь устанавливаемый факт. Ведь факт единичен, и ему приходится противостоять той монолитной, еще не существующей (не раскрытой?) или уже переставшей существовать (забытой в своих истоках?) массе доказательств, из которой, как принято предполагать, и должна была в свое время родиться легенда.
Рождение русской живописи. Конечно (как утверждала давняя легенда), в петровские годы. Конечно, в сочетании достаточно примитивных опытов собственных художников с практикой заезжих с Запада далеко не слишком умелых мастеров.
Но в легенде не нашло своего места то обстоятельство, что понятия «живопись» и «живописец» – в противовес «иконопись» и «иконописец» – входят в московский обиход еще в середине XVII века. В 1670-х годах одна только Москва насчитывала десятки вольных, живших заказами горожан, живописцев. В домах не отдельных «европеизированных» бояр, а многих и многих просто состоятельных москвичей наравне с зеркалами висели гравюры и портреты. В обстановке такого жилья преобладали общие с западноевропейскими формы мебели, а живописцы, объединенные, как и во всех средневековых государствах Европы, в цеха, принимали участие и в создании предметов нового обихода и в оформлении интерьеров. Живопись легко подчиняет себе прикладное искусство и через него входит в быт формировавшегося в течение всего столетия человека.
Человек в Русском государстве, как и всякий человек в Европе XVII века, увлекается естественными науками и впервые ищет возможности воздействовать с их помощью на окружающий мир. В Московском государстве развивается агрономия, процветает селекционерство, утверждает себя на практике химия. Год от года растет число дипломированных, выдержавших специальные испытания не только иностранных докторов, но и русских лекарей, появляется государственное аптекарское дело, а вместе с ним сокращаются посевы лекарственных трав на огородах горожан – научная медицина вступает в свои права.
Впервые заявляет о себе практическая механика – механизмы вводятся для поднятия уровня воды в ирригационных устройствах, в шлюзовых системах, для обмолота зерна, обработки льна, иначе говоря, для облегчения труда именно в сельском хозяйстве. Строятся первые фабрики – ткацкие, стекольные, пороховые. Одновременно с развитием техники приходит увлечение гуманитарными науками, трудами по истории, географии, естествознанию, произведениями светской литературы и прежде всего западноевропейской переводной. И если целиком поставленное под контроль государства книгопечатание ограничивается изданиями церковно-богословского порядка, им противостоит рукописная книга, удовлетворявшая все возраставшую потребность в самых разнообразных знаниях. «Тьма сгущается перед рассветом» – ставшее классическим (хрестоматийным?) определение русской культурной жизни в канун петровских преобразований не выдерживает сопоставления с фактами.
И тем не менее легенда вездесуща и кажется всесильной. Она может ограничить музыкальный мир того же XVII столетия звучанием гудков, рожков и гуслей скоморохов вместо подлинной бесконечно разнообразной стихии ставших народными инструментами органов (единственный запрет состоявшегося в середине XVI века Стоглавого собора сводился к тому, чтобы не звучали слишком широко распространившиеся органы в церквах и ограничились народными гуляниями), гобоев, валторн, труб и фаготов, появлявшихся в русском обиходе по мере их совершенствования и введения в состав западноевропейских музыкальных ансамблей.
Легенда может не заметить открывшегося в 1731 году на Красной площади Москвы театра на три тысячи мест, где играл один из первых в Европе по времени появления и многочисленности (девяносто оркестрантов!) симфонический оркестр, гастролировали известные итальянские вокалисты, труппы Комедии масок, театра, ради которого в городе впервые было введено уличное освещение – сначала только в дни спектаклей! Легенда может обойти молчанием и тот факт, что венецианский аббат, прославленный скрипач и композитор Антонио Вивальди, мечтал о контракте с этим театром, наслышанный от возвращавшихся из России музыкантов о высоком уровне исполнительской культуры и восторженных приемах москвичей, до отказа заполнявших на каждом представлении грандиозный театр. И только преклонные годы помешали аббату осуществить свою мечту.
Без малого двести лет, вплоть до наших дней, старательно оберегалась и развивалась легенда «персонных дел мастера», великолепного портретиста, любимца Петра I Ивана Никитича Никитина, будто бы изменившего идеям преобразований, прогрессивной ориентации Русского государства и поплатившегося за то в черное десятилетие аннинской реакции одиночным заключением в Петропавловской крепости и ссылкой в Сибирь. Анна Иоанновна и Бирон в роли завзятых поборников петровских начинаний – явная абсурдность ситуации не поставила под сомнение обвинений художника, не порождала никаких попыток их пересмотра. Факт участия Ивана Никитина в создании и руководстве первой в России политической партии, ратовавшей за конституционное ограничение прав монарха, смысл выдвинутых этой партией – «факцией» – политических программ, идейное родство с взглядами высланного в те же годы из России Антиоха Кантемира – подлинный образ живописца оказался тщательно скрытым под плотным полотном легенды. Ее смысл – прозападнические, как они определялись, тенденции Петра не должны находить поддержки в исконно русском искусстве. Прямое противоречие метода зрелых произведений Ивана Никитина и соотносимых с его именем поздних профессионально беспомощных работ не только не вызывало недоумения историков, но даже представлялось логически оправданным.
А ведь Иван Никитин отправляется в пенсионерскую поездку уже зрелым мастером – об этом говорят его сохранившиеся ранние портреты, – попечениям которого поручаются ученики и среди них родной брат Роман. Таково свидетельство документов. Среди учителей Ивана Никитина на родине были и Михайла Чоглоков, живописец, портретист, строитель Сухаревой башни, и талантливый выученик венецианской школы, портретист и пейзажист, вошедший в историю географии своими путешествиями, Корнелис де Брюин, и мастер из Джульфы Иван Салтанов, на протяжении почти тридцати лет возглавлявший живописцев Оружейной палаты, строивший Арсенал Московского Кремля, занимавшийся всеми видами станковой и прикладной живописи, но особенно отличавшийся в искусстве портрета. На общем с Иваном Никитиным профессиональном уровне работает целая семья живописцев и портретистов Одольских, не связанных ни с каким пенсионерским заграничным обучением. Близки к нему и авторы так называемой Преображенской серии – созданных в течение 1690-х годов портретов соратников Петра.
Живопись петровских лет – в хрестоматийном истолковании представленная по преимуществу портретами и декоративными росписями, сопутствовавшая архитектуре и еще не приобретшая самостоятельного значения. И снова грань истины и легенды. В действительности петровские годы утверждают значение живописи как общеобразовательного предмета, без которого не мыслится формирование современного человека, потому что именно с изобразительным искусством начинает связываться возможность наиболее полного и активного развития в нем творческих начал.
Во всех впервые открывающихся специальных и общих учебных заведениях, будь то Хирургическая школа, Морская академия или так называемая Карповская школа Феофана Прокоповича, единственная с гуманитарным уклоном, ведется обучение рисунку и живописи. Речь идет не о начальных сведениях, а о достижении профессионального уровня, равнявшего будущих хирургов, навигаторов, инженеров или чиновников с профессиональными живописцами. В начале 1740-х годов, например, все они привлекаются наравне с художниками к выполнению наиболее сложных живописных работ по росписям или оформлению траурной церемонии похорон императрицы. О смысле живописи для формирования сознания человека – тема, становящаяся близкой многим художникам, – размышляет Антиох Кантемир и пишет трактат выученик Карповской школы Григорий Теплов.
Во власти легенды объявить двойной портрет талантливейшего живописца первой трети XVIII века Андрея Матвеева автопортретом художника с женой и навязать тем самым русскому искусству то проявление интереса к человеческой личности и человеческого самосознания, какие могут прийти лишь тридцатью годами позже. Панегирик неожиданному взлету русской живописи, еще так недавно занявшей место иконописи, на деле утверждает нарушение естественного органического хода культурной эволюции, за которым в результате остается признавать лишь слепое, нерассуждающее заимствование чужих и неосмысленных образцов.
Общепринятая версия жизни и творчества представляющего следующую ступень развития русской живописи Дмитрия Левицкого, в конечном счете, очень напоминает никитинскую легенду. Автор бездумных, кипящих радостью жизни смолянок, блистательных парадных портретов и редких по точности человеческой характеристики изображений всех крупнейших культурных деятелей своих лет, Левицкий известен только в средний период своей жизни. Первые тридцать пять ее лет раскрываются всего несколькими связанными с чисто ремесленными поделками, вроде артельного писания икон, фактами. Вопрос об учителях художника остается целиком в области домыслов. Последние двадцать лет проходят и вовсе вне искусства, от которого Левицкого якобы уводит религиозный мистицизм и прогрессирующая слепота. В сумме возникает и утверждается в истории искусства образ высокоталантливого, но не перестудившего порога осмысления собственного творчества и собственно живописи мастера.
«Если можно не позволить одну истину, – писал в начале XIX века Иван Пнин, – то должно уже не позволить никакой, потому что истины составляют между собой неразрывную цепь». И это тем более верно применительно к русскому искусству, что легенды складываются здесь в достаточно стройную и последовательную концепцию истолкования национальной культуры, общей тенденции ее развития и соотношения с культурой Запада. По мере раскрытия исторической наукой все большего числа легенд становится все более очевидной некая их взаимосвязь и, во всяком случае, закономерность появления и самого характера построения, начиная от работ официальных историков времен Николая I. В основе здесь лежит печально известная триада «православие, самодержавие, народность», обернувшаяся для русской культуры и науки утверждением изоляционизма, якобы традиционной приверженности к старине, ограниченности подлинного содержания искусства и художественного поиска.
Отсюда утверждение документально установленного факта, скрупулезный и кажущийся совершенно отвлеченным анализ документа неизбежно включаются в спор об образе: как жил художник, что делал, но и каким человеком своего времени был. Вопрос образа – вопрос творческой, а вместе с ней и исторической значимости мастера, его подлинного места в общей перспективе становления национальной культуры.
Обо всем этом можно рассказать как о данности непререкаемой, установленной. Можно иначе – вместе с читателем пройти по всем тропам поиска, открытий, сомнений, научных споров. Пройти через среду, в которой жил художник, сквозь обстоятельства его дней и творений, на первый взгляд связанных только с проблемами живописи, в действительности неотрывных от гражданской и человеческой позиции художника, от всех многогранных проблем современного ему общества. Вместе узнать – вместе пережить. Итак, друг Новикова и Державина, Львова и Капниста, «славный российский портретист» Дмитрий Левицкий…
ПИСЬМО ИЗ ПОЗНАНИ
Страха связанным цепями
И рожденным под жезлом,
Можно ль орлими крылами
К солнцу нам парить умом?
А хотя б и возлегали,
Чувствуем ярмо свое…
Г. Р. Державин – А. В. Храповицкому. 1797
Худо умереть рано, а иногда и того хуже жить запоздавши.
И. М. Долгоруков
Ветер широкими волнами наплывает из глубины пустынной улицы. Солоноватой накипью оседает на стенах домов. Шелестит в неохватных тополях. Растекается за решетками садов. Ветер словно приподнимает низко опустившуюся пелену неба, жемчужно-серую, в чуть уловимых отсветах водной глади.
Вода… Улица начинается в ее могучем и тугом течении и вдали уходит в свинцовую рябь, вспоротую неустающим и бесшумным движением кораблей. Низко осевшие буксиры с алой перевязью тянущихся к небу труб. Привставший на лапах «Метеор», ядром снаряда проскакивающий под тяжело пригнувшимися арками мостов. Парусник с полуприбранными парусами, в тонкой паутине высоко взметнувшихся рей. Громады втиснувшихся среди домов океанских лайнеров. Чайки на захлестанных пеной обломках досок. Река ли, море ли, напружинившимися потоками хлынувшие в город.
Улица расступается простором сонной равнины. Мелькание троллейбусов, стремительный росчерк машин, кажется, не в силах оставить следа в невозмутимом равнодушии ее тишины.
Сквер в сумеречной тени вековых лип. Игла гранитного обелиска – памяти военных побед слишком давних екатерининских времен. Чугунная чаша фонтана. Стайки воробьев, летящих навстречу одиноким прохожим.
Через мостовую – бесконечный простор окон и пилястр, перекрывших кипенной белизной брусничную красноту стен кажется без входов, кажется в застывшем за ними безлюдье. Когда-то знаменитый Меншиковский дворец, когда-то Сухопутный шляхетный корпус.
Дальше дома в одинаковом отсчете этажей, местами отступившие в сады, чаще сомкнувшиеся сплошной стеной. Светло-серые, лиловые, чуть тронутые мягкой желтизной. Они так и назывались – Линии. Не улица – порядок строений, непременно каменных, непременно рисованных архитекторами, как того требовал неумолимый ритуал заново строившегося города. Пилястры, редкие пятна скульптурных вставок и гладь новых стен в безошибочном расчете менявшихся с высотой оконных проемов – щегольская подпись давних строителей.
На перекрестке зелень густеет. Одинокие тополя уступают рядам лип. Раскидистых. Почти черных. Молчаливых. Аллеи застывают вековым бором, чуть припорошенным неярким и пьяным цветом. Сладковатая желтая пыль вьюжит у дверей, скользит в стиснутые стенами проходы, застывает в булыжных буераках дворов.
Есть Петербург Достоевского и Некрасова, Петербург Пушкина и Петра I, Гоголя и екатерининских лет, чаще обозначаемый именами зодчих, чьи работы стали лицом города. Можно себе представить Петербург Ломоносова, Державина, даже Карла Брюллова. Но Петербург Левицкого – существует ли такой? Можно ли отыскать его особенные и отделимые от других прославленных современников художника черты, по-своему отозвавшиеся в полотнах портретиста, ожившие (оставшиеся жить?) в неповторимых оттенках того, что и как он делал, как вел рассказ о людях своих лет, чем и как сам жил?
Полвека в Петербурге. В дни шумной славы и в годы забвения, без попыток оставить ставший недружелюбным город, сменить столицу на Неве на гостеприимную, давно и во всех мелочах знакомую Москву, просто вернуться на родину, если уж что-то в жизни надломилось и нет впереди ни времени, ни надежды исправить случившееся.
Или надо сказать иначе. Полвека на Васильевском острове – несостоявшемся центре задуманной Петром столицы. Это как первая запись мысли об идеальном городе, слишком идеальном, чтобы его можно было создать. Неумолимая прямота безукоризненно расчерченных Линий. Дома, готовые для нового склада жизни. Академия наук. Кунсткамера. Двенадцать коллегий. Забытые дворцы. Зеленеющая даль проспектов. Гавань с кораблями далеких стран. И холодящее горьковатое дыхание моря, невидимого и угаданного, как предчувствие готовой свершиться свободы.
На доме нет никакой доски. Ни о заслугах перед русским искусством («памятник архитектуры… охраняется…»). Ни о событиях истории («жил… работал… умер… охраняется…»). Вздыбившийся над соседними крышами узкий фасад. Тесно пробитые витрины нижних этажей. Разнобой громоздящихся над ними оконных проемов – выше, ниже, шире, уже. Широкий карниз, прошитый колоннами вынесенных почему-то далеко в сторону водосточных труб. Облепленная вперемежку желтыми и красными изразцами стена. Нелепые домыслы начала нашего века, за которыми, кажется, не угадать ясного и строгого почерка первых строителей. Впрочем, почерк зодчего, времени, устоявшегося распорядка жизни – так ли легко их окончательно стереть!
…За вросшей в землю одностворчатой дверью низкий проход с сумеречным квадратом двора вдалеке. Ряд запертых висячими замками дверей. Поворот к лестнице. Зло и крупно изъеденные временем ступени. Очень пологие. Очень старые. На площадке заделанное бесконечными слоями побелки устье камина. В проеме – колодец светового двора. В комнатах остатки былой планировки, следы перебитых заново окон, дверей, куски штучных полов. XVIII век, оживающий в расчете пропорций, мелочах деталей, как написание букв, исправленных чужой и неграмотной рукой.
К такой неказистой на вид двери могли подъезжать кареты. Сквозным проходом проходили на задний, почти усадебный двор. За рядом дверей местилась дворня. В бельэтаже могла быть мастерская, на втором этаже – анфилада парадных комнат, подчеркнутая повисшим на фасаде балконом, наверху – жилые комнаты семьи. Старые ступени обрывались на третьем этаже – дальше шла незнавшая Левицкого надстройка.
Съездовская линия, 23 – пятьдесят лет жизни одного из лучших русских портретистов. О Левицком говорят в годы процветания художника и его баснословных для русских мастеров гонораров – без этого дома. О Левицком, его нуждах рассуждают в период болезней и грозящей нищеты – и снова без дома. Но ведь дом в XVIII веке – это определенный образ жизни и положение, отношение окружающих и состояние собственных материальных средств, а для художника – и условия работы.
План домовладения – его легко угадать в плане столичного города Санкт-Петербурга, который составлял и гравировал в 1750-х годах Гравировальный департамент Академии наук: квартал между Кубанским переулком и Средним проспектом. Почти теми же остались в своем расположении постройки – от вынесенного на Съездовскую (былую Кадетскую) основного дома до подсобных строений у Тучкова переулка. Хозяйство сложное, разное и мало чем уступавшее соседнему дому, который, как уважительно сообщает сегодня бронзовая доска, был построен в 80-х годах XVIII века, а перестроен самим братом «великого Карла» – Александром Брюлловым.
«Любопытно, какой мастерской Левицкий пользовался для своих и, в частности, последних портретов? Что известно о ней, и как сохраняется она? Вы помните мастерскую нашего прославленного Марто в Варшаве, на углу Старого Рынка и Каменных Сходок? Неужели и связанный с императорской Академией художеств Левицкий удовлетворялся обыкновенным жильем? А ведь они оба – Марто и Левицкий – писали королей: Станислав-Август – Екатерина II!» – строки письма одного из руководителей Института истории искусств в Познани, крупнейшего специалиста по портрету XVIII века Еугениуша Иванойко.
Луи Марто, парижанин, нашедший творческую родину в Варшаве, – мастер великолепных, будто тающих в голубовато-серой дымке пастельных портретов, где неопределенность материала подчеркивала нарочитую недосказанность характера человека. Небрежно нарядные, чуть мечтательные, уже усталые и бесконечно ироничные придворные последнего польского короля, равнодушного ко всему, что не касалось искусства. И как всплеск памяти – стиснутые высоко поднявшимися каменными стенами пологие ступени, затерявшееся где-то внизу тихое течение Вислы. На углу рыночной площади узкий фасад дома под черепичной кровлей. Гладь тесно переплетенных рамами невысоких окон. Комната с белеными стенами, дубовыми балками приземистых потолков, заглядевшаяся парой оконных проемов в фасады вплотную придвинувшихся соседних домов.
Бытовые подробности, которых касался Е. Иванойко, представляли интерес, в конечном счете, лишь для узкого круга специалистов. Но его письмо подводило к тому же итог многолетним усилиям исследователей. Речь шла о последних годах жизни Дмитрия Левицкого и одной из его обнаруженных польскими учеными работ.
Портрет был великолепным в безукоризненном мастерстве живописца. Немолодой мужчина с длинными бакенбардами и искусно небрежной прической припорошенных сединой волос. Темный сюртук с расшитым воротом, расшитый жилет, пышный галстук с крошечным бантом – прослеженная в каждой мелочи мода ранних пушкинских лет. За спиной разворот тяжелого темно-зеленого занавеса. Фолианты тронутых золотым тиснением словарей – русско-немецкого, французского. Одинокий томик в дешевом бумажном переплете с надписью «Valérie. 2». Сочные, звучные цвета. Широкая манера. Безошибочное определение каждого материала – фарфор, серебро, сукно, шелковое шитье, игра бриллиантов на еле заметной булавке, обретающая оттенок пергамента кожа рук, жестковатые завитки волос – и удивительная по сложности прочтения характеристика человека.
Возраст – в наплыве начинающих тяжелеть век, путанице залегших у висков морщин. Следы привычных раздумий в глубоких складках лба. Тень горечи, почти растерянности в мягком абрисе безвольного рта, напряженно поднятых бровей. И в неожиданном контрасте с налетом усталости, ушедших лет сосредоточенный, словно обращенный в себя взгляд искрящихся изумрудной празеленью юношеских глаз.
В руке мужчины заложенный пальцем томик «Valérie. 1». У локтя, на краю выдвинувшегося сбоку стола, золоченая чашка с глубоким блюдцем. «Grossvater mit goldene Kaffeetasse» – «Дедушка с кофейной золотой чашкой», как много лет, из поколения в поколение, называли бароны Фиттингоф хранившийся в их семье безымянный портрет. Впрочем, не совсем безымянный. Имя изображенного действительно давно затерялось в памяти потомков – «дедушка» ничего не говорил о родственных связях. Зато исследования, проведенные в Государственных научно-реставрационных мастерских Польской Народной Республики в 1960-х годах, не оставляли сомнений в подлинности подписи. На книжной полке, под корешками раздвинутых томов, стояло «Р. Lewizki», ниже отдельной строкой «pinxit 1818».
На первый взгляд расшифровка подписи не представляла никаких трудностей. История европейского, как и русского искусства первой четверти XIX века знает единственного обладателя подобной фамилии – прославленного русского портретиста. Попытки поисков каких бы то ни было остававшихся до настоящего времени неизвестными однофамильцев мало убедительны: вряд ли автор портрета столь высокого профессионального уровня мог пройти незамеченным среди современников.
Итак, Дмитрий Григорьевич Левицкий, 1818 год. Портрет существовал, но…
Для первых исследователей творчества мастера – С. П. Дягилева, И. Э. Грабаря, А. М. Скворцова, А. А. Рыбникова – Левицкий этих лет, пусть стареющий и больной, работать продолжал. Доказательство тому – датированный опять-таки 1818 годом и, кстати сказать, аналогичным образом подписанный портрет Н. А. Грибовского, в отношении которого авторство Левицкого ни для кого из них не подлежало сомнению. Но есть другая искусствоведческая концепция, согласно которой творчество мастера прервалось много раньше – в первом десятилетии наступающего века. В данном случае последней по времени работой Левицкого признается датированный 1812 годом портрет священника, считающегося братом художника, как пример деградации и неуклонного спада уходящего с течением времени мастерства. Возраст и недуги должны были сделать свое дело – логический вывод, не находивший, впрочем, документальных подтверждений, которых бы не знали и первые биографы портретиста.
Портрет Прокофия Левицкого становился, в таком случае, единственным в своем роде (а разве не бывает в жизни каждого мастера удачных и неудавшихся, блестящих и просто посредственных работ?). Документы заменяло свидетельство девочки-современницы, которой запомнился ползущий через всю церковь Академии художеств к чаше причастия «слепой старик» Левицкий. Пусть подобное свидетельство тоже осталось единственным среди обширнейшей эпистолярной литературы тех лет. Пусть оно противоречило в данном случае и простым житейским соображениям: слепому человеку не проползти сколько-нибудь значительного расстояния в определенном направлении да еще к тому же в толпе. Тем не менее образ дряхлого фанатика-слепца оказался безоговорочно принятым искусствоведами, вероятно, и в силу своей гнетущей выразительности и потому, что становился простейшей разгадкой «пустых» лет в жизни художника.
Портрет Прокофия Левицкого подписан 1812 годом, воспоминания девочки-современницы Софьи Лайкевич относятся не далее как к 1814 году. В пределах этих двух лет – еще один логический вывод – Левицкого и поразила полная или почти полная слепота. Слепой живописец! Разговор о художнике был закончен. Выяснение же подробностей угасания потерянного для искусства человека не входило в круг собственно искусствоведческих интересов: жестокая, но по-своему оправданная позиция.
Художник и человек – исследователи стараются их видеть неразрывно в изменении мастерства, в развитии и взлетах творчества. Но там, где мастерство начинает тускнеть, а то и исчезать, непроизвольно слабеет и сходит на нет интерес к человеку. Художник материализуется в своих произведениях – аксиома, не требующая подтверждений. И стоит ли задумываться над тем, что именно в «пустые» годы, в как бы отрешенном от творчества бытии могут зачастую раскрываться самые важные особенности натуры художника, которые в периоды творческих свершений оставались недоступными для посторонних глаз, – и слабости и сильные стороны характера, грани отношения и к жизни и к искусству, та самая человеческая сущность, через которую преломляется в созданиях мастера его эпоха, современный ему мир. И другое. Чем определяются эти «пустые» годы – всегда ли бездействием художника, или к тому же и незнанием исследователей?
Принятая в отношении Левицкого «формула заката» распространилась на целых двадцать лет. Но если этим годам биографии и было отказано в попытках подробного изучения, то, во всяком случае, круг выполненных во время них работ установлен достаточно давно и определенно. В 1800–1801 годах два портрета камер-фрейлины Екатерины II А. С. Протасовой, портреты калужских заводчиков отца и сына Билибиных, десятью годами позже портрет Прокофия Левицкого – больше историкам до настоящего времени не удавалось узнать. И первым, что обращало на себя внимание в коротком списке, была его трудно объяснимая разнородность.
Вышедший из моды, полузабытый портретист – и Анна Степановна Протасова, двоюродная племянница Григория Орлова. Когда-то «случай» дяди открыл ей дорогу во дворец. Правда, фавор Орлова оказался не слишком долгим. Новоявленный граф и не думал соблюдать верность своей коронованной покровительнице, влюбился, женился по любви и был «отпущен из России» – Екатерина не могла примириться со своим женским поражением. Но Анна Степановна не лишилась при этом царских милостей. Современники знают, что она – поверенная интимнейших тайн императрицы и – злые языки твердят – обязательная их участница.
На редкость некрасивая, недалекая, к тому же сварливого и неуживчивого нрава, она имеет право на любые капризы и настроения. «Королева лото», «королева с островов Гаити», как называет свою камер-фрейлину Екатерина, удостаивается постоянных упоминаний в переписке императрицы даже с ее иностранными корреспондентами. Без Протасовой не обходится ни один стол императрицы, ни один самый узкий круг приближенных. Она живет во дворце, пользуется дворцовым столом, прислугой, выездами и к тому же держит при себе – вещь, немыслимая ни для кого из придворных, – пятерых племянниц, чья судьба составляет предмет ее постоянных забот.
Приход к власти Павла был роковым для всех приближенных Екатерины. Всех, кроме Протасовой. Камер-фрейлина сохранила за собой былые преимущества вплоть до комнат во дворце, а с появлением на престоле Александра I и вовсе удостоилась графского титула, то ли в память оказанных Екатерине не поддающихся огласке услуг, то ли из желания нового самодержца откупиться от слишком осведомленной особы. Так или иначе, портреты кисти Левицкого принято связывать именно с этим событием в жизни А. С. Протасовой.
Но портреты Левицкого были далеко не единственными изображениями камер-фрейлины. За свою долгую жизнь при дворе Протасова пользовалась услугами многих модных художников. Ее портрет в окружении племянниц был написан самой Анжеликой Кауфман и впоследствии гравирован Уокером. Графине Протасовой, само собой разумеется, не приходилось искать, но только выбирать нужного художника. Значит, известность Левицкого в эти годы ее вполне удовлетворяет.
Билибины – иная и к тому же не связанная со столицей среда. Богатейшие коммерсанты и заводчики из Калуги, по своим средствам они могли обратиться с заказом к наиболее прославленному петербургскому мастеру, но именно прославленному. Посредственного портретиста ничего не стоило найти и в родных местах. Правда, Билибина-сына связывают с Петербургом не только коммерческие интересы. Он знаком с Н. И. Новиковым, увлечен масонством и деятельно участвует в его начинаниях. И если бы Билибин-младший стал руководствоваться чьими-то советами в выборе портретиста, то, скорее всего, своих единомышленников, а не моды.








