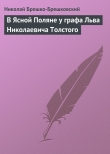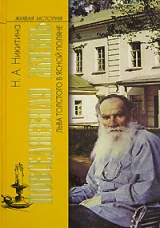
Текст книги "Повседневная жизнь Льва Толстого в Ясной поляне"
Автор книги: Нина Никитина
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 25 страниц)
Но писатель не терял самого главного – самообладания, продолжая поиск одной-единственной. Любовь к дикарке он променял на любовь к провинциальной барыне, чтобы убедиться в очевидном: невежество и простодушие одной надоедает так же, как и кокетство другой, потому что обе далеки от истинного бытия и наслаждения. Истинным наслаждением могло быть только чудо, олицетворявшее божественный покой, соединявшее с вечностью, но удалявшее от вполне земных обольстительниц. Ведь они были ему необходимы и как модели его героинь.
Оставив военную службу, Толстой стал размышлять о вполне реальной мирской жизни, которая ассоциировалась у него с семьей, и «решился ехать в деревню, поскорей жениться». Понятно, что почти сразу подвернулась претендентка на роль жены. Ею оказалась Валерия Арсеньева, жившая поблизости от Ясной Поляны в своем имении Судаково. Толстой думал о Валерии как о своей возможной жене. Она была моложе его на восемь лет. Толстому же шел 28-й год. Мечты о семейном счастье могли бы стать реальностью. Но рассудок превалировал в их отношениях. Обоим явно не хватало стихийных порывов любви. Друзья же Льва Николаевича
настаивали именно на этой кандидатуре, и под их влиянием ему казалось, что «это лучшее, что он мог сделать».
Целых три месяца Толстой посвятил изучению своей избранницы. В результате его «исследования» получилась любопытная «стенограмма чувств»: «мила, болтала про наряды, фривольна, дурно воспитана, невежественна, ежели не глупа, славная, но решительно не нравится, даже детей не может любить, нравится как женщина, совсем в неглиже, просто глупа и аффектирована, фю– тильна, неспособна ни к практической, ни к умственной жизни».
Эта «стенограмма» свидетельствует о том, что избранница совсем не соответствовала его идеальному образу жены. Толстой пытался откорректировать свою «модель», приблизить ее к идеалу. Но она только «гневалась» на его «умение читать нотации», которые для Льва Николаевича были «самыми дорогими мыслями и чувствами». Он желал в нее влюбиться, проводил даже «опыты над собой», но любви так и не случилось.
Однако намерений своих Толстой не оставил. Он продолжал верить в семейное счастье, а если не добьется этого, считал он, то погубит все – талант, сердце, сопьется, наконец, сделается картежником и вором. Когда Софья Андреевна, большая ревнивица, прочитала переписку мужа с Валерией и «перенеслась» в тот мир, в Су– даково с его фортепиано и сонатами, она с пониманием отнеслась к «доверчивой и не злой» хозяйке имения и вовсе не испытала смятения.
Поскольку Валерии Арсеньевой не удалось покорить сердце Толстого, его любовный список стали пополнять новые имена, среди которых оказалась и Александра Дьякова, сестра его друга. Лев Николаевич встретился с ней в Петербурге, а был знаком с Александрой с юных лет. Он увлекся ею и переживал, что она досталась не ему. Александра вызывала в нем сильные чувства, и Толстой был счастлив, что она догадывается о них. Однако не мог довольствоваться адюльтером, как и его литературный двойник Константин Левин: он «прежде представлял себе семью, а потом уже ту женщину, которая дает ему семью. Его понятия о женитьбе поэтому не
были похожи на понятия большинства его знакомых, для которых женитьба была одним из многих общежитейских дел; для него это было главным делом жизни, от которого зависело все ее счастие».
Толстой прошел мимо Дьяковой и вскоре был буквально захвачен ураганом светских увлечений, изрядно пополнивших его любовный список Екатерина Тютчева, Прасковья Щербакова, Александра Чичерина, Елизавета Менгден и другие. Прошел всего год с тех пор, как он расстался с Валерией Арсеньевой.
С Екатериной Львовой Толстой познакомился в Германии. Она нравилась ему. Он считал бы себя дураком, если бы не женился на ней и если бы она нашла свое счастье с другим. Кажется, он был в «наиудобнейшем настроении» духа для того, чтобы влюбиться в нее, в красивую, умную, честную, милую натуру. Порой ему чудилось, что все так и есть, что он изо всех сил влюбился в нее. Но результат – «никакой!» Затем последовала резкая самокритика в собственный адрес: он назвал себя «уродом», которому чего-то «недоставало».
Вскоре Толстой «глупости наговорил» уже ее младшей сестре Александре. Во время своих визитов он чувствовал, как все «поднималось» в нем. После этого ему хотелось «выть», ведь он так надеялся на женитьбу, а вышло – «ребячество». В итоге дневниковые записи запестрели новыми женскими именами, среди которых и Екатерина Трубецкая. Но большинство женских образов пролетели, промелькнули, не оставив следа.
Иная история произошла с Екатериной Федоровной Тютчевой, дочерью прославленного поэта. Любовью к Кити Толстой болел несколько месяцев. Она вызывала в нем разноречивые чувства: то «спокойно нравилась» ему, то вызывала досаду из-за холодности, мелочности, аристократичности. Он называл ее сгоряча «дрянью», потому что она «готова любить, если ей Бог прикажет». А Толстой так «страстно желал ее любви». Спустя пять месяцев он записал: «Я страшно постарел, устал жить в это лето. Часто с ужасом случается мне спрашивать себя: что я люблю? – Ничего, положительно ничего. Такое положенье бедно. Нет возможности жизненного счастья, но зато легче быть вполне человеком духом,
жителем земли, но чуждым физических потребностей». И еще: «Виделся… с Тютчевой. Я почти был готов без любви спокойно жениться на ней, но она старательно холодно приняла меня». Позже, через полгода Лев Николаевич напишет Александрии Толстой: «К. Тютчева была бы хорошая, ежели бы не скверная пыль и какая– то сухость и неаппетитность в уме и чувстве… Иногда я езжу к ним и примериваю свое 30-летнее спокойствие к тому самому, что тревожило меня прежде, и радуюсь своим успехам».
Александрии Толстая занимала особое место в жизни Льва Николаевича. Она была его дальней родственницей и фрейлиной императрицы. Перед Александрии, как мы уже говорили, он непременно мысленно надевал фрак, уверенный в том, что все женщины дотягиваются только до ее колена. Именно она помогала ему быть иным. И лучшее тому подтверждение – его переписка с ней.
Мир мечтаний и абстракции представляла собой для Толстого некая триада – любовь, рассудок и судьба. Это три «карты», которые были так необходимы ему для женитьбы, но что-то не ладилось, не складывалось. То Толстого сильно раздражала «фривольность» или «гадкий франтовский капот» Валерии Арсеньевой, то «моральные конфетки» Кити Тютчевой, то «вселенность» Александрии Толстой.
Вскоре в толстовском любовном списке появилось новое имя: вернувшись из-за границы, он сблизился с местной замужней крестьянкой Аксиньей Базыкиной. Связь эта продолжалась долго, оставив после себя глубокий след. Впервые в нем соединилось чувство оленя с чувством мужа. Дневниковые записи Толстого обнажают экспрессию его чувств к ней: «Чудный Троицын день. Вянущая черемуха в корявых рабочих руках; захлебывающийся голос Василия Давыдкина. Видел мельком Аксинью. Очень хороша. Все эти дни ждал тщетно. Нынче в большом старом лесу. Сноха. Я дурак, скотина. Красный загар, глаза… Я влюблен, как никогда в жизни. Нет другой мысли. Мучаюсь. Завтра все силы». Но вскоре восторг сменился совсем другим чувством: «Она мне постыла». Тем не менее «продолжает видать исключи
тельно». Маятник раскачивается все больше, и писатель констатирует, как она ему «близка». Дальше – больше: «Ее нигде нет – искал. Уже не чувство оленя, а мужа к жене. Странно, стараюсь возобновить бывшее чувство пресыщенья и не могу». Спустя годы связь с Аксиньей будет отрефлексирована Толстым в «Дьяволе», пожалуй, самом страстном его шедевре, тщательнейшим образом скрываемом им от вездесущего ока жены.
Удивительное дело, прочитав в медовый месяц дневник мужа с его откровениями, Софья Андреевна, с безошибочной женской интуицией отреагировала только на эту связь. Аксинья чуть было не стала причиной разлада в семейной жизни Толстого. Через год после замужества жена писателя записала в своем дневнике сон: «Пришли к нам в какой-то огромный сад наши ясен– ские деревенские девушки и бабы, а одеты они все как барыни. Выходят откуда-то одна за другой, последней вышла Аксинья, в черном шелковом платье. Я с ней заговорила, и такая меня злость взяла, что я откуда-то достала ее ребеночка и стала рвать его на клочки. И ноги, голову – все оторвала, а сама в страшном бешенстве. Пришел Лёвочка, я говорю ему, что меня в Сибирь сошлют, а он собрал ноги, руки, все части и говорит, что ничего, это кукла». Этот «неприятный сон» невольно выявил состояние души Софьи Андреевны. Но, к счастью, ей не удалось «разорвать на кусочки» реального ребенка, родившегося у Аксиньи от Льва Николаевича.
Любовь Толстого, действительно, тайна великая. Диапазон ее впечатляющ – от бурных страстных потрясений до тихого созерцания женской красоты в самом возвышенном смысле. Ему, к счастью, не пришлось, подобно Бальзаку, подсчитывать, например, сколько рукописных листов он потерял из-за мига любви. Для него было гораздо важнее, что любовь явилась необходимой матрицей для его гениальных романов, где царила Женщина во всем блеске своих соблазнов. Именно она стала для него радостью, печалью, вдохновением. Он постоянно балансировал между чувственными желаниями и жаждой большой любви.
Василий Розанов, известный как русский фрейдист, как-то поведал о семейной тайне Толстого, сославшись
на разговоры писателя с Тенеромо. Однажды зашла речь о детях Льва Николаевича, что они – не способны. В этой связи тот привел некую философию, вспомнив одного своего ребенка. Толстой сказал, что ему есть что вспомнить о его рождении, но об этом он может рассказать в момент своей смерти, – перед тем, как юркнет под крышку гроба. Эти слова позволили Розанову предположить существование неких «девственных идеалов» великого писателя земли русской, усмотреть в «Крейце– ровой сонате» сплошь рыдающую натуру муже-девы, «осквернявшейся женщиной» исключительно по положению «женатого человека».
Подобная психофизика является андрогинной, то есть с ослабленным чувством половой принадлежности. Андрогинами были многие гениальные люди. Тайну мира Лев Николаевич рассматривал в лунном свете, отраженном в воде, что и вызывало в нем напряженные колебания. Луна и вода вошли в его жизнь в качестве основных символов. Именно они одарили его силой воспоминания, основного прообраза всех его героев. Реальность и воспоминания слились в единое целое, позволив в полный голос зазвучать теме счастья. Но лунный свет, как и любовь, чрезвычайно зыбок, переменчив, волшебен и непредсказуем. Он обольщает обманчивыми надеждами, и, конечно, луна обостряет и поэтизирует сексуальные влечения. Сохранилось прелюбопытное дневниковое признание писателя: «Я никогда не был влюблен в женщин. Одно сильное чувство, похожее на любовь, я испытал только, когда мне было 13 или 14 лет; но мне не хочется верить, чтобы это была любовь; потому что предмет была толстая горничная (правда, очень хорошенькое личико), притом же от 13 до 15 лет – время самое безалаберное для мальчика (отрочество): не знаешь, на что кинуться, и сладострастие, в эту эпоху, действует с необыкновенною силою. В мужчин я очень часто влюблялся, 1 любовью были 2 Пушкина, потом 2-й – Сабуров, потом 3-ей – Зыбин и Дьяков, 4 – Оболенский, Блосфельд, Иславин, еще Го– тье и многие другие… Я влюблялся в мужчин, прежде чем имел понятие о возможности педерастии-,но и узнавши, никогда мысль о возможности соития не входи
ла мне в голову. Странный пример ничем не объяснимой симпатии – это Готье. Не имея с ним решительно никаких отношений, кроме по покупке книг. Меня кидало в жар, когда он входил в комнату. Любовь моя к Иславину испортила для меня целые 8 месяцев жизни в Петербурге. Хотя и бессознательно, я ни о чем другом не заботился, как о том, чтобы понравиться ему. Все люди, которых я любил, чувствовали это, и я замечал, им тяжело было смотреть на меня. Часто, не находя тех моральных условий, которых рассудок требовал в любимом предмете, или после какой-нибудь с ним неприятности, я чувствовал к ним неприязнь; но неприязнь эта была основана на любви. К братьям я никогда не чувствовал такого рода любви. Я ревновал очень часто к женщинам. Я понимаю идеал любви – совершенное жертвование собою любимому предмету. И именно это я испытывал. Я всегда любил таких людей, которые ко мне были хладнокровны и только ценили меня. Чем я делаюсь старше, тем реже испытываю это чувство. Ежели и испытываю, то не так страстно, и к людям, которые меня любят, т. е. наоборот того, что было прежде. Красота всегда имела много влияния в выборе; впрочем, пример Дьякова; но я никогда не забуду ночи, когда мы с ним ехали из Пирогова, и мне хотелось, увернувшись под полостью, его целовать и плакать. Было в этом чувстве и сладострастие, но зачем оно сюда попало, решить невозможно; потому что, как я говорил, никогда воображение не рисовало мне любрические картины, напротив, я имею страшное отвращение».
Луна не раз «отрывала» Толстого от земли, приглашая в мир теней и призраков, иллюзий. Сам ее свет рождал обманчивый мир, являвшийся своеобразным ответом на трагическую невозможность устроить свою личную жизнь с помощью одной лишь женской любви. Писателю помогло то, что он проживал любовь, живую жизнь через слово. Он вслушивался, вчувствовался, размышлял с пером в руке, с помощью очередного чистого листа бумаги. Толстой писал крупным веревочным почерком, в котором его бывший приятель Б. Н. Чичерин угадывал женский почерк. В семантике поведения писателя он не раз наблюдал женские чер
ты и был глубоко убежден в том, что, для того чтобы Толстому от этого избавиться, его нужно непременно выпороть.
Глава 5 Неутомимая Sophie
Сразу же из-под венца, после родительского благословения, опустошенных бокалов с шампанским, слез невесты, ночью, под шум начинавшегося дождя, молодые покидали Москву, чтобы обустроить собственную жизнь в Ясной Поляне. Молодая жена сама приняла решение ехать не за границу, а в деревню.
23 сентября 1862 года новый респектабельный дормез – огромная, дорожная карета с форейтором, приспособленная даже для сна, запряженная шестеркой почтовых лошадей, чинно въехала в Ясную Поляну, знаменуя наступление нового времени в жизни усадьбы. Существующей яснополянской повседневности предстояло породниться с совсем иной, «московско-берсовской» реальностью, образовав впоследствии особый, «кровосмесительный» быт усадьбы. Так, например, по-прежнему в яснополянском парке под липами варили варенье, снимая пышные розовые пенки под жужжание пчел и ос, но уже по иной рецептуре, привезенной Соней от московского медика профессора Анке, суть которой заключалась в том, чтобы не подливать воды: как и раньше, здесь пекли сдобные левашники из раскатанного теста, начиненные вареньем, которые надувались через соломинку поваром Николаем, чтобы тесто «не садилось», за что они получили название «les soupirs de Nicolas» – «вздохи Николая». Их Толстой полюбил с детства, но к ним добавилась еще одна кондитерская причуда – ан– ковский пирог, ставший символом буржуазности, привнесенной женой в яснополянский быт. Семья Берсов, несмотря на скромность, обладала неким «фирменным» шиком, проявлявшимся в сервировке стола, в безупречности подаваемых блюд. Даже в странных увлечениях величавой хозяйки, Любови Александровны Берс, гордо
восседавшей в кресле во главе стола и щипчиками клавшей в рот доставаемые из ящичка черные корочки (березовые угольки), было что-то обворожительное.
Так менялось житье-бытье Ясной Поляны, тесно переплетаясь с совсем иным, образовывая прелюбопытный симбиоз толстовского и берсовского стилей жизни, в котором все так смешалось, как в «доме Облонских». Лишь святой Спиридоний, как в былые времена, оставался покровителем рода Толстых и Ясной Поляны.
В свой медовый месяц, проводимый в милой Ясной, новобрачные наслаждались роскошью общения друг с другом. Их приветливо с хлебом-солью встретили любимые тетушки и брат Сергей, благословившие молодых фамильной иконой. Т. А. Ергольская торжественно вручила Соне связку ключей от многочисленных сундуков, шкафов, кладовой с припасами. Ключей оказалось более тридцати. Она прикрепила их к кольцу и подвесила к поясу своего платья. Позже эту тяжелую связку Софья Андреевна стала хранить в специальном ящике, ключ от которого был только у нее, и она с ним никогда не расставалась.
Восемнадцатилетняя Соня уверенно заняла место хозяйки, без колебаний предпочтя его беззаботной и веселой московской жизни. Теперь она постоянно ощущала на себе груз ответственности «за двух» – за себя и мужа, а потом еще и за всех своих тринадцать детей. Порой «мы алчем жизнь узнать заране, и узнаем ее в романе». О своей совместной жизни с мужем Софья Андреевна многое узнавала из его романов, вынося за скобки романтизированный флер. Лев и Соня зажили «серьезно и умно», но пока «еще – не дельно». «Милый Адольф», как она шутливо называла мужа, занимался ее воспитанием, беспокоился о ее нравственности и ограничивал круг ее чтения. Так, он не позволял ей читать романы Золя и «Даму с камелиями» Дюма-сына, казавшиеся ему слишком эротичными. Он окрестил Соню «фарфоровой куклой». «Твой Лев написал фантастическую штуку Тане, что и немцу в голову не придет… Как плодовито у него воображение и в каких иногда странных формах разыгрывается. Умел же он о превращении женщины в фарфоровую куклу написать восемь стра
ниц. Он напоминает мне Овидия, который превратил юношу-красавца в нарцисс», – писал дочери 27 марта 1863 года Андрей Евстафьевич Берс. Чета Толстых была настолько дружной, что близкие наивно полагали, что это «даже не к добру».
Счастье всегда на стороне тех, кто доволен жизнью. Они казались самыми счастливыми, ведь счастлив только тот, кто счастлив в своем доме. Семья еще не представлялась им самым тяжким испытанием, которое Бог посылает человеку. Лев и Соня были словно прикованы к семье и ежеминутно подвергались всевозможным испытаниям в делах, разговорах, которые порой не каждому из них нравились, но приходилось терпеть, побеждая себя. Здесь помогала, в понимании Толстого, «совесть Иисуса», призывавшая «мириться с собственным гневом». Лев Николаевич старался как можно реже раздражаться. Соня очень не любила, когда он изливал свой гнев в обидных для нее словах. Каждый старался свести на нет возникавшие ссоры, стремился к взаимному умиротворению, понимая, что в совместной жизни необходимы уступки, компромиссы, соблюдение тишины и спокойствия. Толстой любил сравнивать супругов с впряженными в одну упряжку лошадьми – надо тянуть в одну сторону 7. Однако случалось, что Лев не мог совладать с гневливостью, идущей от предков Трубецких, вызываемой грубым вторжением повседневности в гениальное пространство творца. Соня запомнила «бешеный» крик мужа, вызванный ее случайным приходом в кабинет в тот момент, когда он работал над «Войной и миром». Близкие вспоминали, как он кричал «петухом», выражая таким образом свое яростное несогласие с собеседником.
Конфуций проповедовал приоритет семьи перед государством, учил жить не столько для государства, сколько для семьи. Толстой очень рано уверовал в «мысль семейную», которая не раз согревала его в трудные минуты. Не случайно его двойник, Константин Левин, ради сохранения семейного счастья был готов убить гостя, покусившегося на супружеское благополучие.
В детстве Толстому не было дано познать теплоты семейной жизни. Этот дефицит он компенсировал не только в своей супружеской жизни, но и в романах, иде
ализирующих семейное начало, получив за это почетное звание «певца семейного счастья». Он не раз размышлял об особенностях толстовской породы, в которой бушевали сильные страсти, получившие впоследствии такое определение, как «толстовская дикость». Недаром его знаменитый родственник, известный дуэлянт Федор Толстой-Американец «татуировался». Эта «дикость» не раз проявлялась в яснополянском быту. До женитьбы Толстой и его братья спали исключительно на соломе, без простынь. Эта традиция сохранилась отчасти и в семейной жизни писателя. Аромат сена постоянно присутствовал в его доме. Всюду, например в детской, находились тюфяки, набитые сеном так, что трещали. Их каждый месяц набивали свежим сеном.
Толстовская «дикость» проявилась еще и в поразившей Софью Андреевну манере мужа есть за обедом старыми серебряными ложками и железными вилками и ножами, оставшимися еще с прадедовских времен. За всем этим, как и за бурьяном, разросшимся вокруг дома, чувствовались особые фамильные коды предков. Чего стоит, например, знаменитый длинный толстовский халат с пристегивающимися полами, который был многофункциональным, являясь одновременно халатом и ночной рубашкой.
Соня нашла яснополянский быт более чем спартанским. Велико было ее удивление, когда во время сервировки обеденного стола в доме не обнаружилось серебряной посуды. Оказалось, что после смерти отца писателя Воейков, назначенный опекуном малолетних детей, «прибрал» несколько пудов серебряной утвари. Повар Николай хорошо помнил, сколько было в прежние времена отменного столового серебра в Ясной Поляне.
Толстой весьма стоически, с неким героизмом воспринимал вездесущую повседневность, проникавшую даже в его параллельный мир, боролся с плотскими страхами, «арзамасскими» ужасами, телесными невзгодами, с низкими проявлениями духа своего собственного «я». Только уникальная личность, редкая по своему масштабу, способна на это. Для Толстого своеобразной метафорой его обыденного существования явилось не
раз перелицованное серое «безразмерное» пальто, охотно им носимое и, как оказалось, приходившееся всем впору. Свое универсальное пальто он считал счастливым.
Писатель больше всего ценил подлинность, проявляемую вне какой бы то ни было пафосности, он во всем стремился к простоте. Не поэтому ли Толстой так высоко ценил рационалистический подход семьи Бер– сов к повседневности? Эта большая чиновничья семья, состоящая из мужа, жены и восьмерых детей, ютилась в скромной кремлевской квартире. Создавалось впечатление, что эта квартира состоит из сплошного коридора. Дверь с лестницы вела в столовую. Кабинет Андрея Евстафьевича Берса, практикующего врача, был настолько крошечным, что в нем, казалось, негде повернуться. Три его дочери спали на пыльных, просиженных диванах. Трудно представить, но пациенты с риском для жизни поднимались к доктору по хлипкой лестнице, которая могла в любой миг провалиться вместе с ними. Не меньшую опасность представляла люстра, которая висела так низко, что не разбить себе лоб казалось счастливой случайностью.
Семейная колея молодых супругов пролегала вдали от роскошной и праздной жизни. Они довольствовались общением друг с другом и тем малым комфортом, которым их одаривал северо-восточный флигель, предназначавшийся во времена деда и отца Льва Николаевича для немногочисленных гостей Ясной Поляны или гувернеров. Лев и Соня зажили «по-настояще– му» только после того, как с двух сторон к флигелю были сделаны пристройки.
Неутомимая Sophie,как ее называла фрейлина Александра Толстая, была «симпатичной с головы до ног», «простой, умной, искренней, сердечной». В ее голосе близкие слышали интонации мужа. Чем не Наташа Ростова, которая, словно зеркало, отражала своего мужа Пьера? За год до брака Соня благополучно сдала экзамены на звание домашней учительницы при Московском университете, писала повести, играла на фортепиано, серьезно увлекалась живописью и даже мечтала брать уроки рисования в Париже. С особым энтузиазмом и
расчетом она занималась хозяйством в Ясной Поляне, оказавшись во многом предприимчивее своего мужа. «Экой молодец! Софья-то Андреевна. Передайте ей мой душевный привет и скажите, что я в восторге, если только она не играет в кукл…! – виноват, в кассу», – с добродушной иронией писал Льву Николаевичу А А Фет. Толстой же был абсолютно уверен в том, что его «жена совсем не играет в куклы», а становится его «серьезным помощником». Она охотно занималась домом, в котором проживало больше двадцати человек, умело управляла имуществом. Случавшиеся порой разногласия с мужем на первых порах преодолевались легко благодаря их сильной взаимной любви. «Не может быть, чтобы все это кончилось только жизнью!» – не раз восклицал счастливый муж
Он был пленен и очарован женой: «Человек, который краснеет, может любить, а человек, который может любить, – все может… Человек неженатый до конца дней мальчишка. Новый свет открывается женатому… Для счастья нужна плоть и кровь. Ум хорошо, а два лучше, говорит пословица: а я говорю одна душа в кринолине нехорошо, а две души, одна – в кринолине, а другая в панталонах еще хуже. Выйдет страшная нравственная monstruositi из такого брака. Это не брак, а осмеяние двух – не душ, а направлений. Хорошая жена смотрит на все глазами мужа». Толстой, как и каждый влюбленный, считал, что любой человек изначально является одиноким, но потом его разрезают пополам. Свою вторую половину он искал с пятнадцати лет и был счастлив, что наконец нашел ее.
В доме Толстых, как и в доме Облонских, любили произносить, что «все образуется». Обновленный яснополянский быт налаживался. Молодая жена, уверенно подписывавшаяся «графиня Соня Толстая», любила мужа до крайности. Она частенько приходила к нему в кабинет, где он писал «Казаков» и «Поликушку», переписывала, всматриваясь близорукими глазами в крупный веревочный почерк мужа, в котором со временем стала разбираться лучше, чем сам автор. Но этот опыт обретался со временем. А сначала она позволяла себе вольности, исправляя стиль мужа, разбивая длинные много
словные периоды, сокращая «лишние» союзы «что» и «который», заменяя «гордость» «тщеславием», а «апатию» «равнодушием». Свои корректировки она объясняла тем, что муж не дорожил красотой слога. Случалось, что страницы рукописей находили в яснополянских канавах.
Спустя годы она с особой заботливостью стала относиться к автографам Льва Николаевича и в сентябре 1887 года сдала рукописи мужа в рукописный отдел Ру– мянцевского музея, чтобы обеспечить их полную сохранность. Еще восемь ящиков, наполненных бесценными реликвиями, она отвезла туда весной 1894 года. А зимой 1904 года девять ящиков с автографами Софья Андреевна перевезла в Исторический музей, где они хранились до конца жизни Толстого. В 1915 году вдова писателя передала их на хранение в Румянцевский музей, где организовала особый зал, названный «Кабинетом Л. Н. Толстого».
Но тогда, в первые годы замужества, все было иначе! Ее рука, как она выражалась, «не ходила писать; я целыми днями переписывала Лёвочке». Она не успевала переписывать рукописи. Поэтому в Ясную Поляну был приглашен писарь. Переписчик Александр Петрович приходил иногда пьяным и обычно дарил, продавал или отдавал за бутылку водки черновики Толстого. Так произошло и с черновиками «Войны и мира» и «Анны Карениной». Их мало сохранилось по многим причинам, в том числе и потому, что Софья Андреевна, по незнанию, заклеивала ими окна. Мало дорожила ими. Ей никто даже не намекнул, что их нужно беречь. Удалось сохранить приблизительно 8 тысяч рукописных листов «Войны и мира» и «Анны Карениной», переписчицей которых была сама Софья Андреевна.
Между тем Лев Николаевич охотно превращался в семейного человека и только громкие возгласы, раздававшиеся где-то рядом с кабинетом, в соседней комнате или у лестницы – «Корректура!» – напоминали о том, что перед вами не просто муж, отец, хозяин усадьбы, а художник, «машина для писания», которая работала почти без сбоев, олицетворяя неустанное движение мысли.
Софья Андреевна вскоре поняла, что жизнь не театр, а она – не героиня, произносящая торжественные монологи, в ее жизни все переплелось – обыденное, уникальное и неповторимое. Она смотрела на многие события, происходившие в ее семье не с парадной стороны, а изнутри. Ей тяжело достались первые роды, и она мучилась, оттого что муж не мог понять, что она не сможет кормить Сережу грудью.
«Живете вы… без всякого расчета, не умеете смириться перед обстоятельствами, которые сами на себя навлекли своими необдуманными поступками: брать или не брать кормилицу… Будь уверен, Лев Николаевич, что твоя натура никогда не преобразуется в мужичью, равно и натура жены твоей не вынесет того, что может вынести Пелагея, отколотившая мужа и целовальника в кабаке около Петербурга… Лёвочку просто валяй, чем попало, чтобы умнее был. Он мастер большой на речах и писаньях, а на деле не выходит. Пускай-ка он напишет повесть, в которой муж мучает больную жену и желает, чтобы она продолжала кормить своего ребенка: все бабы забросают его каменьями. Требуй, чтобы он вполне утешил свою жену», – писал разгневанный отец Софьи Андреевны 8 августа 1863 года.
Отцовская поддержка оказалась как нельзя кстати. После родов доктора строго-настрого запретили Софье кормить грудью ребенка. И в доме появилась кормилица. Это очень огорчало Льва Николаевича, настаивавшего на том, чтобы жена непременно сама кормила младенца. В «Моей жизни» есть такая запись: «Он озлобился, уходил из дома, целые дни оставлял одну без помощи». А ведь совсем недавно, во время ее страданий в родовых схватках Лёвочка все время находился рядом с ней, у кожаного дивана, на котором родился он сам, жалел ее, был ласков, слезы блестели в его глазах, он постоянно обтирал платком ее горячий лоб. После родов громко рыдал, обнимая ее голову. Теперь же он с нескрываемым раздражением писал в своем дневнике о том, как с каждым днем портится характер жены.
Повседневная жизнь чрезвычайно разнообразна и подчас не соотносится с законами эстетики. Сверхчувственное восприятие – аналог бытового. У Толстого не
было культа любви к своей жене. Он любил ее без всякой театрализации. Вскоре все успокоилось, и Лев Николаевич вновь принялся за свой роман, а о случившемся семейном надрыве оставил такую запись: «Все это прошло и все неправда. Я ею счастлив».Литература и семья по-прежнему оставались для него равнозначными понятиями. Младенец Сережа рос на рассказах о войне 1812 года. Сонин отец припоминал любопытные эпизоды из тогдашней московской повседневности, как горел, например, огромный щит на Тверской, у дома Бекетова, изображавший бегущего Наполеона, преследуемого воронами, которые его щипали и пакостили на него. Народ глядел на происходившее и хохотал от души. Автор «Войны и мира» приходил в полный восторг от подобных рассказов тестя, так же как и от прочитанных им писем Волковой к Ланской, в которых очень живо был передан дух того времени. Не только огромное количество проштудированных им источников, но и инстинктивные влечения, любовь к Соне, хозяйственные заботы, охота – все проявления плотской жизни помогали ему находить силы для творчества. Житейская «дурь» перерабатывалась и преобразовывалась в искусство.