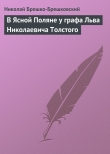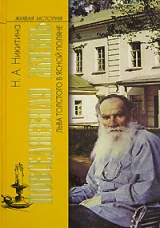
Текст книги "Повседневная жизнь Льва Толстого в Ясной поляне"
Автор книги: Нина Никитина
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 25 страниц)
Глава 16 Страстный пилигрим
Толстой считал, что каждый из нас является в этой жизни пассажиром, с той лишь разницей, что один входит в вагон поезда, а другой – из него выходит. Жизнь любого человека писатель уподоблял путешествию, передвижение в пространстве – событию, позволявшему осознать, «что не мы одни, то есть наше семейство, живем на свете, что не все интересы вертятся около нас, а
что существует другаяжизнь людей, ничего не имеющих общего с нами».
Один мудрец как-то заметил, что свою жизнь человек должен разделить на три части: первую – посвятить познаниям, вторую – путешествиям, а третью – раздумьям о прошедшем. Толстой поступал мудрее, совмещая путешествия с познаниями и творческими размышлениями на протяжении своей 82-летней жизни. Путешествия оказались «питательными» для души и сердца, излечивали от ипохондрии.
«Путешествия вдохновляют», – не раз говорил Толстой. Странствуя, он постигал красоту мира, расширял свой кругозор, убеждаясь, что смотреть налево так же полезно, как и направо – везде перспективы, стоит только глаза раскрыть. Дороги стали для него лучшим лекарством от хандры, целительным средством от тоскливой обыденности, аналогом свободы. Они помогали сконцентрироваться на внутренней жизни, на воспоминаниях о прошедшем, на мечтах о будущем.
Опыт Толстого-путешественника поучителен. Муза странствий, словно обольстительная Цирцея, уносила его порой далеко от дома. Она сопровождала Толстого по грозному Кавказу, наполненному «мрачной прелестью природы», по милому Крыму, в парусной лодке по Волге, по башкирским степям, в пеших прогулках по Швейцарским Альпам. В Европе он с легким сердцем тратил деньги на бесценные фолианты. Ему нужно было, по выражению Тургенева, образовываться не только вглубь, но и вширь. Он не успел побывать на «окраинах мира», однако верил, что когда-нибудь Южная Америка станет «самой прелестной страной», а Северная – примет его как дорогого гостя канадских духоборцев.
В дорогу Толстой отправлялся охотно, желание увидеть новое, дух странничества никогда не угасали. С лошади он пересаживался в дилижанс или пролетку, любил путешествовать пешком, не брезговал и в телеге. Его не пугали ни полноводная могучая Волга, ни ухабы, ни слякоть, ни жара – в любую погоду он наслаждался чувством пространства.
Толстой побывал за границей дважды. В 1857 году, когда ему было 29 лет, он впервые испытал неизъяс
нимое чувство «разлуки-встречи» при переезде российской границы. Три года спустя совершил второе заграничное путешествие, чтобы познакомиться с западноевропейской культурой.
Как и все русские, Толстой путешествовал «не наспех, не лихорадочно, а с толком, с чувством, с расстановкой, всюду заводя знакомства с известными людьми, слушая их лекции, изучая устройство школ, судов, тюрем, богаделен и все занося в дневник с мыслью о России». Любой писатель кочует между двумя реальностями, жадно впитывая увиденное, чтобы впоследствии отобразить его в своих произведениях.
Толстой добрался из Москвы до Парижа за 11 дней и поселился на Rue de Rivole,где оказался в обществе своей «старой няньки» – Ивана Тургенева. За два месяца, проведенных в Париже, он увидел много интересного и приятного: «Лувр, Версаль, консерватория, квартеты, театры, лекции в Сорбонне», посетил музей бытовых древностей, разместившийся в старинном здании XV века, и после его осмотра «поверил в рыцарство». Вместе с Тургеневым побывал в Фонтенбло, осмотрел старинную резиденцию французских королей, где Бонапарт отрекся от престола, съездил в Гренобль.
В Париже общался с Плетневым, Стасюлевичем и с французскими писателями и философами. Проводил время легко и беззаботно, «болтая очень приятно» за ♦бутылкой вина у камина» в одном из салонов, посещал театры, знакомился с артистами, брал уроки английского и итальянского языков, слушал лекции в College de France, ходил на спиритические сеансы к князю Трубецкому и даже сам захотел заняться спиритизмом, испытал «ужас» при виде гильотинирования, посетил кладбище Рёге Lachaise,ездил в Версаль, побывал в «клубе поэтов», Национальной библиотеке. Ему понравился Париж, и он не хотел отсюда уезжать. Но, оказавшись свидетелем казни – гильотинирования, испытал такое сильное потрясение, что спешно покинул французскую столицу.
Большое впечатление произвела на Толстого Германия: Дрезден с его знаменитой галереей; Берлин, где он посетил построенный в 1820-е годы Шинкелем музей
античных памятников культуры; Веймар – город Гёте и Шиллера.
С Германией Толстой был знаком давно, можно сказать, генетически. Его дед, князь Волконский, был чрезвычайным послом в Берлине. Отец писателя участвовал в «Битве народов» при Лейпциге. О Германии он слышал много интересного от своего гувернера– немца – Ресселя. Толстой был воспитан на немецкой культуре. Германия с юных лет стала ему близкой и понятной. Поэтому когда он молодым человеком впервые ее увидел, то воспринял как старую добрую знакомую.
Берлин, Лейпциг, Франкфурт-на-Майне, Эйзенах, Веймар, Дрезден. Путешествие по этим локусам сопровождалось для Толстого вопросом: какова цивилизация на Западе и что она дала миру? Это надо было увидеть собственными глазами, прочувствовать и осмыслить. Германия произвела на Толстого «сильное и приятное впечатление», он хотел здесь пожить вдоволь, «не торопясь поездить», как он выразился в письме к Боткину во время первой заграничной поездки. Это желание исполнилось спустя четыре года. Оказавшись на этой земле, он усмотрел добрый знак справа от него сиял месяц, предвещая, как ему показалось, большую удачу. Толстой очень верил в приметы.
В Баден-Бадене оказался почти случайно, что называется, «нелегкая занесла»: вместо Зинцига свернул в этот город и, казалось, «погиб» навсегда. «Рулетка страшно увлекла» его. Он ощутил себя здесь франтом. Целыми днями напролет азартно играл в рулетку, боясь отвести взгляд от магически вертящегося круга и костяного шарика. Только один раз шарик остановился на цифре, принесшей Толстому выигрыш, и он был «необыкновенно счастлив». Но всего лишь миг длилось это блаженство. Вслед за этим последовал неминуемый проигрыш. Толстой зарекся: больше играть он не будет никогда. Однако не устоял, нарушил клятву, сел за стол. И снова проиграл. Залез в долги – к соседу-французу и к Некрасову и опять проиграл всё «в пух, до копейки». «Пристыженный», обращался с мольбами к Боткину, к брату Сергею. Рулетка вконец «изгрызла» его. Так про
неслась неделя «пошлой» жизни с барышнями и дурными известиями.
Но было и другое: прогулки при лунном свете с Полонским, с которым духовно сошелся, словно с родным братом. Общение с «милым Ваничкой», с Тургеневым, приехавшим навестить, а заодно и «пожурить» его. В Ба– ден-Бадене Толстой испытал томление молодости, «боль одинокого наслаждения», острое желание счастья, выдержал схватку с рулеткой, можно сказать, с Судьбой. Этот швабский город остался в его воспоминаниях как родной «милый Баден» с таинственным силуэтом старого замка на горе при лунном свете.
Он мечтал забыться и не вспоминать о своих неудачах. В поисках любви, сопряженной с образом «бесценной Александрии», он отправился во Франкфурт на встречу с ней. Он пробыл во Франкфурте всего лишь день, изнывая от одиночества. Поверилось вдруг, что счастье «улыбнется» ему. Он навестил в Дармштадтском дворце «бесценную Сашу», «лучшую из женщин», которую называл «чудом и прелестью».
В Веймар Толстой приехал по приглашению российского посланника, родственника Ф. И. Тютчева, фон Мальтица. Этот город-музей эпохи немецкого Просвещения считался центром духовной жизни Германии. Толстой бродил по улицам маленького городка, наполненного таинственной духовной субстанцией двух великих немцев, наслаждался «просто и счастливо» природой, посещал Бельведер, Тифурт; смотрел в театре подражательные рыцарские драмы «с криками» в итальянском стиле; и однажды он осмелился переступить порог дома Гёте на Фрауэнплан, построенного в 1710 году. В то время там жили потомки Гёте и дом-музей был закрыт для посетителей. Но благодаря великому герцогу Саксенвеймарскому, основателю гётевского музея, русскому писателю разрешили осмотреть дом автора «Фауста», его коллекции монет и медалей, камней и античных оттисков, помпезный «зал Юноны» с огромным бюстом богини, скромный кабинет и крохотную спальню, где скончался Гёте, произнеся финальную фразу: «Света, больше света!» Позже, размышляя о Гёте, Толстой с трепетом вспоминал дом поэта:
«"О, великий дух, великий ум", – сказал мне проводник в Веймаре».
Дом Шиллера находился рядом с домом Гёте. Всего через два квартала. Конечно же Толстой посетил и этот жёлто-белый особняк с высокими мансардами, крытыми черепицей, что приютили под своей крышей мятежного проповедника свободы из «Бури и натиска» в последние годы его жизни. Увидел здесь простой стол с бронзовым подсвечником и огарком свечи, небольшой старинный глобус, на который часто смотрел Шиллер, строя несбывшиеся планы дальних морских путешествий, в грезах, как наяву, под шквалом соленого ветра встречавший флибустьеров и шептавший:
Я слышу, как бескрайняя стихия
Волной накатной бьется об скалу…
Шесть дней пробыл Толстой в Веймаре и его окрестностях, слушал здесь «Волшебную флейту» Моцарта, которой дирижировал Лист, размышлял о Боге, о бессмертии, об «эпохе гениев». В гостиных русского посланника фон Мальтица, который был в душе поэтом, «любителем Шиллера и Гёте» и гофмаршала Бодье– Марконе, Толстой слушал рассказы не только о Гёте, Шиллере, но и о Гердере, Виланде, об участниках «Бури и натиска», собиравшихся во дворце Анны Амалии, которая жила, по словам Гёте, «почитая дарования, принимая прекрасное, творя добро».
Место паломничества Гофмана и Шиллера было наполнено для Толстого атмосферой надзвездного счастья. Барочный Дрезден, город «поэтических гофманов– ских ночей», одарил его «совершенно неожиданным» знакомством с Екатериной Львовой, «красивой, умной, честной и милой натурой». Она, «Катенька», «очень нравилась» ему, он ждал от нее хотя бы иллюзии любви. От этих ожиданий он находился в «наиудобнейшем настроении духа». Однако «что-то» мешало любви. Может быть, его излишняя «робость», а может, его вечная спутница – «рефлексия». Не помогли рождению любви ни музыка Мендельсона, ни театр, ни опера, ни даже «обедня» и «всенощная». Поэтому остался привкус «сосущего
чувства недовольства». Но спасла уже упоминавшаяся нами выше Мадонна, представленная в галерее, куда он не раз, по собственному признанию, «бегал».
Берлин оставил Толстого индифферентным ко всему: к университету, к королевскому театру, к музеям, к перга– монским раритетам. Это, пожалуй, единственный город, не удостоенный излюбленного им эпитета – «милый». «Луч света блеснул» с неожиданной стороны: от встречи с «прелестнейшим человеком» – Ауэрбахом, сопровождаемым в дневниковых записях пятнадцатью восклицательными знаками. Знакомство с этим человеком убедило Толстого в том, что дух человечества выше всего на свете. Он был в полном восторге от разговоров с ним о музыке, как о «необязывающем наслаждении».
Путешествие по Германии умиротворило мятежную душу Толстого: помирило с Тургеневым, приблизило к пониманию Гёте («Вот Вы и "Фауста" полюбили»), вернуло к искусству, одарило сонмом воспоминаний, похожих то на Монблан, то на муравейную кочку. К старости оставалось только одно: отрефлексировать увиденное. Припоминалось многое: встречи с Фребе– лем, с «ласковым» Ауэрбахом, стариком-немцем Фридрихом (Федором) Рёсселем. Просматривая коллекции открыток из Дрезденской галереи, он порой восклицал: «"Сикстинская мадонна" – ничего хорошего, а "Мадонна дела Седиа" – прелесть, как и портрет Рубенса "Францисканец"!» Особенно любил вспоминать Германию времен расцвета, когда она представляла собой множество самостоятельных культурных центров. Огорчался, что на переломе двух веков «нет ни одного выдающегося немца», что есть только мелкие критики и беллетристы.
Помнилось, конечно, больше хорошее. Он не разделял точку зрения Шопенгауэра, что воспоминания – «дурны». Для ностальгирующего Толстого в воспоминаниях прошедшее было лучше настоящего. Не поэтому ли ему была близка мысль Лихтенберга о том, что «печаль ушедшая в воспоминаниях приятней»? С годами его память о Германии приобретала эффектные очертания могучего Монблана, стройного, гордого, но доступного.
Толстого привел в восторг Вечный город Рим, именно здесь со всей полнотой он «воспринял красоту античной скульптуры». Писателя чрезвычайно заинтересовали раскопки в Помпее. Рим стал для него «возвращением к искусству». Он обедал с художниками в знаменитом Cafe Greco,где бывал Гоголь, посещал мастерские французских и испанских художников, бродил среди античных руин. В старости говорил, что если и можно было бы где-нибудь жить, кроме России, то только там, в Вечном городе.
Из Парижа, названного им «Содомом и Гоморрой», Толстой по «скучной железной дороге» поехал в Швейцарию, которую почти всю прошел пешком, повторив маршруты Руссо. Часто встречался с Александрии, в которую был готов влюбиться. На пароходе отправился в Кларан. Много читал Прудона, а также «гордые и ловкие» сочинения А. С. Хомякова, слушал рассказы М. И. Пущина о Пушкине. Здесь, как он выражался, его «душила» «любовь плотская и идеальная».
Пройдя горный перевал Мон-Сенис, Толстой прибыл в Северную Италию, где повидался с Василием Боткиным и Александром Дружининым. Путешествовал с друзьями-литераторами по Аостской долине и горным массивам, ночуя в деревушках и осматривая древние монастыри и церкви, водопад Pissevache.
В Англии писатель испытал «отвращение к цивилизации», в Лондоне посетил Кенсингтонский музей – «лучшее высшее образовательное учреждение», слушал речь премьер-министра в палате общин и лекцию Ч. Диккенса. Здесь он каждый день встречался с Герценом и вернулся в Россию с огромным количеством впечатлений и знаний.
Вряд ли можно найти другого художника, который бы столь успешно ассимилировал традиции мировой культуры, при этом оставаясь глубоко национальным. Но истинное счастье он испытал все же в путешествиях по России.
Толстой всегда любил географические карты, они до сих пор хранятся в его мемориальной библиотеке. Интерес к ним передался ему от деда, князя Н. С. Волконского, прапрадеда графа П. А. Толстого. Не от него
ли и страсть к путешествиям?! Она начиналась с пристального изучения карт, планов, а те, в свою очередь, побуждали к движению, к победам над пространством. Вся его жизнь была опутана дорогами, словно «паутиной любви».
Бывало, что в милой Ясной ему порой не хватало воздуха. Тогда прогулки на Горелую поляну, в близлежащие Рудаково или Судаково давали ощущение полноты жизни. Иногда он совершал особыепоездки, по памятным родовым местам, например в Никольское-Вязем– ское.
Старинное поместье раскинулось на берегах живописной речки Чернь. Со второй половины XVIII века оно принадлежало прадеду писателя секунд-майору в отставке Н. И. Горчакову. Красота Никольского настолько покорила писателя, что он запечатлел ее на страницах эпопеи «Война и мир». После этого Отрадное и Никольское стали почти синонимами.
О былой усадебной красоте напоминает здесь многое: церковь, построенная отцом писателя, тенистая аллея, посаженная самим Толстым, и великолепие здешних пейзажей. Он приезжал в Никольское, где всё казалось ему «прекрасным», особенно небольшой дом из пяти комнат: столовой, трех «жилых» и маленького кабинета с ведущим к нему огромным коридором. Правда, пришлось поставить перегородку, прибавив еще две комнаты: одну – для любимой тетеньки, а другую – для свояченицы Тани Берс.
Толстой не забывал наведываться и в таинственное Покровское, имение сестры, расположенное на левом берегу Снежеди, в девяноста верстах от Ясной Поляны. Место это овеяно романтикой. 29 октября 1854 года из Спасского, находившегося рядом с Покровским, приехал Иван Тургенев. Он подружился с Марией Николаевной и стал здесь частым гостем. Они «играли в бирюльки, раскладывали гранпасьянсы», слушали музыку и, конечно, читали романы. Тургенев считал сестру Толстого «грациозной», обаятельной, «одной из привлекательнейших существ», «милой, умной, простой – глаз бы не отвел», и, конечно, «был поражен в самое сердце», едва не влюбившись в нее. Переживания Тургенева на
шли отражение в его «Фаусте», ставшем своеобразной «рыцарской данью» Марии Николаевне. Она стала прототипом Веры Ельцовой, героини повести.
Покровское до сих пор пропитано духом любви, пленительными загадками, странной туманной печалью. Здесь как бы навечно отпечаталась еще и «чистая, милая душа» тетеньки Т. А. Ергольской – натуры глубокой, страстной, любящей. Это крошечное имение, словно солнечный «зайчик», ослепляло всякий раз Льва Николаевича, наполняя поэтическим вдохновением. Неброская красота покровских пейзажей действовала гораздо сильнее самых потрясающих красот мира с их буйством красок и пиршеством запахов. «Холстомер», «Поликушка» своим появлением отчасти обязаны Покровскому. Здесь всё дышало стариной, и казалось, что порядок, заведенный тут, «никак невозможно нарушить»".
Почти в тридцати верстах от Ясной Поляны находилось другое родовое имение Толстых – Пирогово, приобретенное еще отцом, Николаем Ильичом Толстым, в 1837 году. Оно считалось самым доходным, что называется, «золотым дном». Пирогово позднее разделили на два имения, Большое и Малое, находящиеся всего лишь в двух верстах друг от друга. Большое Пирогово принадлежало старшему брату Сергею Николаевичу, построившему здесь «замечательно красивой архитектуры» большой дом рядом с парком и лесом. В последние годы своей жизни он тут «мужественно лирствовал», здесь его часто навещал младший брат – Лев Толстой.
Малое Пирогово, с домом «над ключом», принадлежало сестре писателя, Марии Николаевне, а потом Марии Львовне, средней дочери Толстого. Романтичный архитектурно-ландшафтный ансамбль был создан здесь во второй половине XIX века по проекту Льва Толстого. Он лично выбрал место для будущей усадьбы на самой высокой точке пироговского рельефа, вымерил аллеи и дороги, велел обсадить их березами и соснами. Дом из красного кирпича под зеленой крышей был наполнен запахом старинных книг и звуками музыки. Живописная пойма реки Упы, «чудные лошади», холмистый ландшафт, чистые горизонты – неповторимый
среднерусский пейзаж. Для полноты картины сейчас здесь не хватает только мельницы «о пяти поставах» да шумных ярмарок. Малое Пирогово – царство вкуса, разумность комфорта, поэзия частной жизни, культ памяти рода Толстых. Усадьба, состоявшая из господского дома, многочисленных хозяйственных построек, сада и парка, была на редкость компактной. Толстой часто бывал в этих местах, где испытывал «молодую веселость», рожденную охотничьими страстями, и наслаждался особенной «тишиной, уютом и свободой для писания».
Не было дня, чтобы Толстой не ездил по старой екатерининской дороге к железнодорожной станции Козлова Засека за почтой – газетами, бандеролями, письмами, адресованными «в Ясную Поляну, Красную Поляну, Длинную Поляну, Козлов». Часто он ездил к Ва– ныкинским дачам, чтобы снять дачу для своих знакомых. Как-то он узнал, что сдается «Ваныкина дом, где Крамской жил», но цена показалась ему слишком уж высокой, хотя комнат было здесь более пятнадцати, но «низ очень сыр», и потому «дом не стоил оплаты в двести рублей». Дневники Толстого пестрят подобными записями: «пошел гулять на Козловку, Ваныкино и домой».
Одним из любимых и длинных маршрутов – около двадцати верст – была ближайшая станция Рвы, а также прогулка в усадьбу Судаково, расположенную в шести верстах от Ясной Поляны и когда-то принадлежавшую трем сестрам Арсеньевым, в одну из которых, Валерию, Толстой был влюблен. Но, пожалуй, самым «бодрящим» путешествием была, наверное, поездка в любимое Ов– сянниково, где жила его единомышленница и большой друг Мария Александровна Шмидт, а впоследствии этой землей владела старшая дочь Татьяна Толстая. Эти места Толстой посетил 27 октября 1910 года, за день до своего ухода из Ясной Поляны, словно прощался с дорогими сердцу пейзажами.
Благодать нисходила на него во время таких прогулок по пустынным полевым дорогам и полям. Он очаровывался мягкостью и приветливостью родных пейзажей. Казалось, здесь не было ничего особенного, эффектного, но «свету Божьему тут было много просторнее». Толстой говорил своим близким, что хотел бы
жить и умереть как простой странник – в пути. Маршруты Льва Толстого по окрестностям Ясной Поляны были самыми разнообразными: Телятинки, Грецовка, Озерки, Горюшино, Казначеевка, Деминка, Рудаково, Бабурино… Толстой хорошо знал все сельские храмы вокруг Ясной Поляны – от Кочаковской церкви или церкви в Мясоедове конца XVII века до церкви Рождества Богородицы, сооруженной в 1864 году в Пирогове. Небольшие деревеньки, затерявшиеся в огромной лесостепи, наполняли нежностью сердце Толстого. Путешествуя по этим местам, он неизменно ощущал пропасть, существующую между городом и деревней. Хаос города делал его рассеянным, покой полей позволял сосредоточиться.
Урочища, как в окрестностях Ясной, так и за ее чертой – в Пироговском, Никольском, Груманте, Покровском – лесные поляны, поросшие густым кустарником, глухие балки, дубовые и березовые рощи, овраги («верхи»), речки с причудливыми поворотами – Ясенка, Ко– чак или Воронка, – также вызывали у Толстого самые радостные чувства и нашли отражение в его бессмертных текстах.
Версты дорог невидимой паутиной опутывали его, превращая в своего вечного зачарованного пленника. Свой жизненный путь он прошел неутомимо, доказав еще раз, что дорогу осилит только идущий. Близкие утверждали, что если бы Лев Николаевич сидел на одном месте, никуда не выезжая, то прожил бы сто лет. Софья Андреевна предрекала, что он умрет в овраге. Но неподвижность, статичность были не в его характере, он любил движение, энергию, поэзию путешествия, видя в этом лучший способ продления жизни. Словом, те гипотетические восемнадцать лет он променял на путешествия. Как считал мудрец Саади, лучше ходить босиком, чем в обуви узкой, лучше терпеть все невзгоды пути, чем сидеть дома! Лев Николаевич не грустил об ушедшем, к счастью, не потерянном для него времени, ибо время – это не то, что ушло, а то, что запомнилось.
С появлением железной дороги путешествия стали более доступными, демократичными. Бег поездов,
блеск рельсов, клубы пара, лязг железа, мелькающие лица на перроне, ускользающие полустанки, похожие друг на друга словно близнецы… Чугунка обогнала знаменитую гоголевскую «тройку». Когда-то оседлость была необходимой потребностью. Каждый имел свой приход, свой неизменный круг родных, друзей, знакомых, свои предания, свои привычки. Железная дорога все это изменила. Как подметил Владимир Соллогуб: «Теперь никому уже дома не сидится. Жизнь не прививается больше к почве, а шмыгает как угорелая из утла в угол. Семейственность раздробляется и кочует по постоялым дворам».
Русский поезд состоял из нескольких сцепленных вагонов, сообщавшихся между собой посредством дверей. Каждый вагон напоминал квартиру. Благодаря печам, наполненным дровами, в вагоне поддерживалась 16-градусная температура. Вагон делился на два помещения: вдоль стен первого размещался широкий диван, предназначенный для тех, кто хочет спать, а для тех, кто привык путешествовать сидя, мягкое обитое кресло украшало интерьер второго помещения. Получался «дом на колесах».
Тяготы путешествия благодаря комфорту исчезали сами собой. С точки зрения бывалого путешественника, в таком вагоне было гораздо удобнее ехать, нежели в карете. Больше свободы передвижения. К тому же русские поезда, как было отмечено выше, отапливались не каменным углем, как в Западной Европе, а дровами. Все вместе взятое дарило ощущение удобства, ускоренного движения к цели.
В толстовские времена вагоны окрашивались в разные цвета в зависимости от класса и уровня обслуживания. Так, синие вагоны с бархатными креслами, в которых ездили особо респектабельные персоны, подобные герою Толстого Нехлюдову, относились к первому классу, желтые – ко второму, зеленые – к третьему. Толстой говорил, что ведомство путей сообщения принадлежит дьяволу: «Где нет железных дорог, там люди меньше теряют времени в пути, чем там, где есть железные дороги, потому что здесь народ ездит без надобности. Это приучает к безделью». Однако не все так
думали. «Я с детства уверовал в прогресс… Расчетливость и справедливость говорят мне, что в электричестве и паре любви к человеку больше, чем в целомудрии и в воздержании от мяса», – писал Антон Чехов.
Протяженность железнодорожных путей за короткие сроки выросла втрое, и Россия к концу 1870-х годов вышла на второе после Америки место в мире. В тоске вокзалов, в зимних поездах и семафорах, словом, во всем, что имело отношение к «стальным путям», ощущалась некая вековечная сущность российской жизни. Толстому казалось, что железная дорога слишком шумно ворвалась в певучую усадебную тишину. «Нить железная» загудела рядом с Ясной Поляной, нарушив «сон пустынный».
Дневники Толстого часто пестрят такими заметками: «опоздал на чугунку», «железная дорога к путешествию, что бордель к любви. Так же удобно, но так же нечеловечески машинально и убийственно однообразно» и т. д. Он считал, что с появлением железной дороги все изменилось: «…едешь несравненно скорей, с гораздо большими удобствами, но вся поэзия путешествия исчезла». Вместе с тем парадоксальный Толстой называл путешествие по железной дороге наслаждением и оценивал это средство передвижения как «дешевое чрезвычайно и удобное», «не успеешь оглянуться и уже дома. Польза одна». «Мерзость биржи, железной дороги и т. п. кажется нам развратом, потому что ново и трудно», – убеждал себя Толстой в очевидном. Образ железной дороги стал для Толстого символом цивилизации, угрозой усадебному существованию. В реве паровоза ему чудился голос самой судьбы: «Мне отмщение, и Аз воздам». О «чугунке» много размышляли его герои, которым он передал свою «боязнь вагонов».
Со станции Козлова Засека Толстой ездил в Москву, в Крекшино, в Кочеты. 5 ноября 1867 года через эту станцию прошел первый поезд. Некоторые поезда дальнего следования останавливались в Козловке на одну минуту, другие – на 30 минут. Курсировали также и дачные составы.
С появлением железной дороги жизнь в Козловке «покатилась, словно по рельсам». Живописная мест
ность, окруженная засечными лесами, привлекала множество людей, обустраивающихся летом в дачных двухэтажных домах с мезонинами, построенных тульскими купцами Ваныкиным и Кобяковым. Красивая местность пришлась по вкусу живописцам-передвиж– никам – Крамскому, Мясоедову, Шишкину Художники часто иронизировали, говорили, что здесь они бы легко могли превратиться из портретистов в пейзажистов.
Лев Толстой изучил окрестности Козловки досконально, приезжал сюда верхом, ходил пешком, наслаждался «мягкой и гладкой дорогой, такой, что читать можно». Гости писателя, прогуливаясь вместе с ним, восхищались красотой этих мест, утверждая, что нет ничего прекраснее «ни в России, ни в Финляндии, ни на Кавказе».
Он приезжал на станцию, чтобы встретить гостей, или забрать корреспонденцию, или позвонить по телефону.
Железная дорога, проложенная вблизи Ясной Поляны, стала своеобразным мостом над бесчисленными оврагами, так часто разъединявшими Толстого и Тургенева. Дачные поезда со свистом и шипением проносились мимо меланхоличных пейзажей. В почти пустых вагонах первого и второго классов редкие пассажиры, по словам очевидцев, порой падали с диванов, а вагоны третьего класса представляли собой скопище мешков, полушубков, сундуков, людей, спящих в нелепых позах.
Дороги Толстого и Тургенева, как мы знаем, не раз пересекались в Петербурге, Баден-Бадене, Париже, Дижо– не, но чаще всего в родном пространстве, которое порой сближало, а порой и разводило их в разные стороны. Во взаимоотношениях двух писателей много странного, предначертанного, фатального. «Между нами овраг», – как-то обронил Лев Толстой, и эта фраза стала не только роковой метафорой, но и досадной реальностью. Только с Толстым, «единственным человеком», у Тургенева «случились недоразумения» из-за того, что «слишком врозь глядели», «слишком иначе построены», «созданы противоположными полюсами», «из разной глины слеплены», «слишком разные стихии». Судя по всему, обоими управлял «антагонизм воззрений».
Идеальными друзьями их никак не назовешь, но и случайными тоже. Произнеся: «Здравствуйте», каждому сразу же хотелось ответить: «Прощайте – без свидания». Это при том, что оба дорожили друг другом, обоюдно радовались успехам, но находясь непременно «в отдалении», «любуясь и рукоплеща – издали». Драматизм «несчастной истории с Толстым» несколько преувеличен и надуман. «Умный и даровитый» Тургенев делал из Толстого «другого человека». Эти слова дорогого стоят, поскольку принадлежат самому Толстому – «самому неудобному для жизни с другими людьми» (В. П. Боткин). Трудно объяснить, почему между ними все так сложилось. В их отношениях было много «папи– росочного тумана», возбуждения, подмены дружбы величием. Невзирая на неоднократные категоричные заявления: «никогда с ним не сойдусь», ни тот ни другой этого не выдерживал и «забегал со всех сторон, чтобы сойтись». «Овраг» преодолевался совместными силами и становился благодаря этому «едва заметной щелью». Толстой и Тургенев… Толстой, словно молодой олень, пробегал огромные расстояния, преодолевая их с «буй– волообразным» упорством. Тургенев больше наслаждался остановками, «передышками». Встречаясь на «перекрестках дорог», они «не ладили» друг с другом, но снова «сходились», чтобы идти «рука об руку» дальше, потом вновь «разбегались» с мыслью о том, что «дорог на свете много: друг другу мешать не захотим».
Дорог оказалось слишком много, особенно у Тургенева. Такой образ жизни казался Толстому «притворством простоты»: «Нельзя устроить жизнь необыкновенно» вне своего «гнезда».
Тем не менее жизненная колея настойчиво соединяла их, невольно напоминая о соседстве. Все недоразумения, возникавшие за границей, улетучивались в России, где они снова встречались как «хорошие приятели» и мечтали «оставаться таковыми, покуда Бог продлит их жизни». Дороги разъединяли соседей, а усадебные пристанища, призывавшие к «благообразию» жизни, соединяли. Толстой считал, что Тургенева «надо показывать в деревне: он там совсем другой, более близкий, хороший человек». Ясная Поляна и Спасское-Луто-