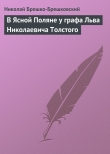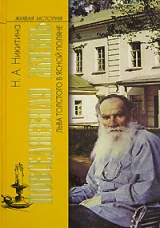
Текст книги "Повседневная жизнь Льва Толстого в Ясной поляне"
Автор книги: Нина Никитина
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 25 страниц)
Завтрак:
Рис.
К чаю Толстой всегда приходил вовремя. С годами он стал большим его поклонником, изменив кофе за его «иллюзорность энергии», под воздействием которой человек «пишет, пишет, быстро и много сочиняет, как Бальзак, но только это все ни к чему». Чай и кофе поделили мир на две половины. Россия, как и Англия, Китай, Индия, Япония, была оплотом чая. Не случайно А. Дюма-отец утверждал, что «лучший чай пьют в Санкт-Петербурге».
Толстой, по российской традиции, пил чай непременно из стакана с подстаканником. Самым главным для него в церемонии чаепития были не варенье и не пирог, а вдумчивые разговоры, во время которых было запрещено только одно: «пукать и ругать правительство».
Глава 14 «Лучше говорю, чем пишу»
Прием родных, близких, знаменитостей – это часть усадебной жизни. Порой общение с посетителями для хозяина Ясной Поляны было предпочтительнее писания. Здесь, особенно летом, была вечная суматоха. Так, например, в середине мая 1886 года целый вагон 3-го класса, следовавший из Москвы в Ясную Поляну, заполнили огромная толстовская семья и семья Кузминских. «Нагромоздили пропасть вещей, припасли и мы, и Куз– минские, разной еды. Посадили всю нашу и Кузминских прислугу», – вспоминала впоследствии Софья Андреевна о веселой этой поездке. Все были счастливы оказаться вместе. Как комфортно ощущали себя молодежь и дети в этом большом просторном вагоне. В дороге много болтали, пели, смеялись, играли. А когда огромная компания оказалась в Ясной Поляне, где ее радушно встре
чал сам Лев Николаевич, все почувствовали начало праздника лета. Все были дружны и любимы друг другом.
Кузминские, как традиционно было заведено в яснополянской усадьбе, разместились в дедовском флигеле, прозванном здесь впоследствии «флигелем Кузминских». Повзрослевшая «Наташа Ростова» – Таня Куз– минская, которая к тому времени обзавелась большой семьей, привносила особый шарм в атмосферу толстовской усадьбы. Обилие гостей, их радушный прием – фирменный знак славной усадьбы. Д. П. Маковицкий, все фиксировавший в своих записных книжках, которые носил всегда в кармане, за что был прозван «пишущими ушами», редко отмечал те дни, когда в Ясной Поляне не было гостей. Здесь встречали не «по одежке», и слова «барин», «высокий чиновник», «титулованная особа» не служили пропуском. Тут существовали иные критерии, разработанные самим Толстым, ценившим душевные, интеллектуальные качества гостей. Лучшей рекомендацией служили дружеская привязанность, общность интересов и увлечений. Быть принятой в Ясной Поляне чаще всего удостаивалась уникальная личность. Конечно, случалось всякое. Слишком велик был поток жаждущих увидеть легендарного Толстого. Порой сюда проникали зеваки, приезжали и случайные визитеры, но их посещения чаще всего носили формальный характер и не могли длиться больше часа. В Ясной Поляне всегда было много разных посетителей. Близкие писателя подсчитали, что для удовлетворения всех просьб поклонников Толстого его семье необходимо было бы ежедневно платить до двух тысяч рублей.
Хозяин Ясной Поляны, притягивавший к себе громадное количество людей, никогда не позволял себе выказывать плохого настроения или произносить что– то оскорбительное. Лишь в крайних случаях Толстой мог разрешить себе прервать отношения с кем-то из посетителей.
Гости Ясной Поляны чаще всего собирались в зале за большим обеденным столом у пыхтящего баташевско– го самовара. Спустя время компания распадалась на две в зависимости от интересов, образуя вокруг ампирного
стола из красного дерева «уголок серьезных бесед», а в противоположной части зала – «уголок молодежи», откуда доносились игра на балалайке или мандолине и дружный смех. Здесь всегда ценили шутку и кураж. Т. А. Кузминская вспоминала, как «длинный стол был накрыт белоснежной скатертью, прекрасно сервирован, горели в канделябрах свечи, а гости, дети и Лев Николаевич ждали около своих стульев графиню». Затем «он внезапно предложил удивить Софью Андреевну и спрятаться под столом. Хозяйка входит – в столовой пусто. Она поражена. И вдруг все общество вылезает из-под стола со смехом. Не могла, конечно, не рассмеяться и графиня».
В девять часов вечера огромное семейство вместе со своими гостями вновь собиралось в зале, одновременно служившем приемной, гостиной и столовой. В это время на столе зажигались свечи. Было уютно и просто. Усаживались все в свободном порядке, кто где хотел. Угощение к чаю было самым что ни на есть простым: сухое покупное чайное печенье, мед и варенье. Самовар мурлыкал свою песню, и милая хозяйка разливала чай, а иногда предоставляла это право кому-ни– будь из присутствующих. В такие моменты Лев Николаевич «таял».
Писатель не раз цитировал Гёте: «Лучше думаю, чем говорю, лучше говорю, чем пишу, лучше пишу для себя, чем для публики». О себе же как-то сказал, что говорит лучше, чем пишет. А пишет лучше, определеннее, полнее для публикаций, чем для себя. В его мастерстве искусно вести беседы во время чаепития убедились многочисленные посетители Ясной Поляны. Чай, как и анковский пирог, стал символом единения хозяев и гостей, молодых и не очень, консерваторов и либералов, профессионалов и дилетантов. Тем для разговоров было предостаточно, например, о браке магометан, для которых идеалом являлась моногамия; о переселении духоборов; о воинской повинности; о церковном христианстве; о земельном проекте Генри Джорджа; об эмансипации; о проблеме «отцов и детей»; о славянофилах; о Рокфеллере и Ротшильде и т. д. Самой же актуальной темой, конечно, была литература.
Толстой был убежден, что мудрость, до которой дошли Конфуций, Будда, Кант, Паскаль, вне времени и пространства. Когда кто-нибудь, например Стахович, напыщенно читал стихи, Лев Николаевич говорил ему, что от подобного чтения у него возникает единственное желание – «залезть под диван». Многих зарубежных писателей, таких как Золя, Толстой называл «пи– сальной машиной». Мопассаном обычно наслаждался, называя его «громадным талантом». Доде не любил. Говорил, что «Крошка Доррит» и «Холодный дом» Диккенса еще не вполне оценены, но «какая это сила!». Прежде романы великого англичанина казались ему «тяжеловатыми, скучными», а теперь – нет. По мнению Толстого, у произведений его собрата по перу есть замечательная особенность: присутствие множества персонажей в тексте, ни об одном из которых не забываешь в процессе чтения. Толстому нравилось, что героями Диккенса являлись не лорды, а простые люди, по своей сути оказывающиеся искренними и настоящими. Считал, что «Оливер Твист» – прекрасное произведение, чем, собственно, и объясняется его успех у детской аудитории.
Плещеева он называл «талантливым и добродушным». О стихах Некрасова отзывался иначе: «Невозможно их читать!» Рассказывал о встрече с Куприным на пароходе при отплытии из Ялты. Толстой нашел его ♦мускулистым, приятным силачом», а его «Поединок» назвал ♦хорошим и веселым». Правда, ему не понравились те места из «Поединка», где автор ♦пускался в философию». Зато с «пылом» читал те страницы, где описывались обучение солдат и смотр полка. В этот момент Толстой словно сам становился молодым солдатом.
По признанию писателя, у него ♦делалась изжога» от стихотворений Скитальца: ♦Это что-то ужасное». Толстой критиковал современных литераторов, которых интересовало только то, что пишут в газетах – никто из них не читал Канта или Спинозу. Приводил в пример Диккенса, который всего лишь два года ходил в школу, после чего зарабатывал на жизнь тем, что клеил ярлыки на ваксу.
Толстой восхищался Паскалем, его Pensees,называя это «лучшей книгой», а его жизнь – «лучшим житием». Зачитывался Шиллером, которого ценил больше, чем Гёте. Иногда он просил кого-нибудь принести из библиотеки томик Шиллера, чтобы почитать вслух. В яснополянской библиотеке Толстого был уникальный экземпляр – издание Gotta1840 года – весь Шиллер в одном томе. Эту книгу Льву Николаевичу подарил в Бухаресте румынский доктор, который лечил его и относился к нему с большой симпатией.
Толстой не уставал напоминать своим гостям о том, что нужно читать лишь хорошие книги, которых, увы, много не бывает. Благодаря таким книгам, говорил он, даже «бугурусланские братья-купцы» могут заниматься самообразованием. Он считал, что в деревнях и небольших городках читают больше, чем в столицах. Толстой даже отмечал появление в провинции нового поколения читателей, активно занимавшихся самообразованием.
Однажды кто-то из близких писателя нес через зал шесть тяжелых томов Талмуда. Толстой заметил в этой связи: как много нужно прочесть книг для того, чтобы написать всего лишь пять строк В это время он работал над повестью «За что?» и попросил Стасова подыскать ему книги о польском восстании 1831 года. Писателю очень нравились мысли из Талмуда: «Не осуждай ближнего своего, пока не будешь на его месте».
Огромное количество книг Толстому доставалось в подарок Секретарь, жена, дочери регулярно занимались их классификацией, дабы привести все в порядок Среди таких книг оказались творения Эпиктета, присланные писателю Н. Н. Страховым. Толстой говорил, что ему казалось, будто все это он «сам знал». Однако читал Эпиктета с огромным восхищением, потому что мыслитель излагал свои воззрения «просто и понятно, как если бы сейчас рядом с нами сидел». «Поучительно для меня», – заключил писатель.
А Жюля Верна и Александра Дюма Толстой называл «посредственными писателями», которые, тем не менее, влияли на читателей. Он вспомнил рассказ Тургенева о Ж. Берне, как тот однажды побывал в гостях у мадам Виардо. У Ивана Сергеевича сложилось впечат
ление о французском писателе как о самом глупом человеке во всем французском государстве. Толстой говорил о своей симпатии к Руссо, о том, как пятнадцатилетним юношей носил медальон с его изображением, считая его «самым страшным» писателем. Сожалел о том, что теперь этого француза «не читают».
Лев Николаевич считал, что жизнь любого человека интересна, только надо ее правдиво рассказать. По его мнению, до женитьбы жизнь всякого человека грязна, а потому пишущий невольно останавливается на этом месте. И получается слишком односторонняя картина. Необходимо писать о том, что стыдно.
Толстой все время делился со своими гостями впечатлениями о прочитанном из Герцена, Диккенса, Канта. В книге последнего «Die Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft» («Религия в пределах только разума». – Н. Я.) отмечал удивительную глубину. В этом сочинении он особенно ценил признание немецким философом нравственности жизни, без чего все остальное является не больше чем суеверием. Тем не менее Кант представлялся Толстому ограниченным материалистом, возводящим тупоумие в достоинство. По его признанию, из сочинений немца он извлекал для себя меньше полезного, нежели из творений Диккенса или же Герцена. На вопросы присутствующих о Горьком он отвечал, что успех писателя неясен и несколько загадочен для него. По его мнению, Горький затрагивал важные вопросы в своих произведениях, но отвечал на них с точки зрения толпы.
Писатель не скрывал своего мнения о Евангелии и говорил, что хуже его трудно найти что-либо для чтения, особенно детям. С его точки зрения, эта книга была «дурно составлена». В этом отношении он был солидарен с Гёте. Толстой сожалел о том, что его любимец Рескин сложен для восприятия детей, а потому мечтал его переделать, изложить своими словами непонятные мысли прославленного англичанина. Книга «Мысли мудрых людей на каждый день», в которую вошли изречения Рескина, всегда лежала открытой на столе в уютной яснополянской гостиной, где писатель обычно раздевался, оставляя на кушетке
свою одежду и непременно читая этот изборник перед тем, как лечь спать.
Олсуфьев за чаепитием как-то заметил, что Пушкин подражал Мериме, на что Лев Николаевич возразил, что Пушкин, безусловно, неизмеримо выше француза, а у Мериме хорош только один рассказ – «Кармен». После этого он прочел для всех рассказ Герцена «Поврежденный» и очень восхищался им.
Иногда писатель заводил разговоры о Н. Ф. Федорове, библиотекаре Румянцевского музея. Лев Николаевич очень уважал его как знатока литературы, истории, философии. Он размышлял о его концепции воскрешения умерших и обретения бессмертия. У Федорова, полагал писатель, религиозное сознание смешалось с грубым материалистичным, поэтому он и недолюбливал Толстого за его метафизическое, духовное понимание жизни.
Нередко Толстой приносил в зал из кабинета том «Братьев Карамазовых» и читал из него отрывки с мастерством актера. Слушатели спрашивали Толстого о том, почему произошло так, что он не встретился с Достоевским. «Случайно», – отвечал Лев Николаевич.
Писательскую славу Толстой уподоблял крысиной норе, куда уходит вода. Кто прославился, тот напрочь забывает про свои недостатки. Так, Ницше (Толстой произносил фамилию философа как «Ничче». – Н. //.), по мнению Толстого, допускал в своих сочинениях много небрежностей: «швырял мысль как попало». Подобная «небрежность», считал он, присуща и современным ему собратьям по перу. Вот Гоголь со словом обращался «честно».
Толстой любил перечитывать «Историю России» С. М. Соловьева. Высоко ценил Константина Леонтьева, который, по его убеждению, «стоял на голову выше всех русских философов». А вот Мильтона, которого так любят в Англии, писатель не смог дочитать до конца. То же произошло и с Данте, который не понравился Толстому из-за пристрастий к аллегориям. Хвалил книгу Завали– шина, называя ее «удивительной». Не зная ее, считал он, невозможно что-либо написать о декабристах.
Толстой не раз признавался, что не любил стихотворной формы. Однако, слушая стихотворения в его



Софья Андреевна с дочерьми и знакомыми около купальни на реке Воронке. Ясная Поляна, 1896 г.

Зал в яснополянском доме, служивший и столовой, и гостиной.


Л. Н. Толстой. Литография II В. Преображенского. Ясная Поляна, 1898 г.
Л. Н. Толстой. Фотография С. А. Толстой. Ясная Поляна, 1900 г.

Николай Николаевич Ге. Владимир Григорьевич Чертков.
Павел Иванович Бирюков.


Мария Львовна Толстая. Фотография П. И. Бирюкова. Ясная Поляна, 1895 г.

Лев Николаевич и Софья Андреевна в кабинете яснополянского дома. 1902 г.

Сыновья Л. Н.Толстого. Слева направо: Лев Львович, Илья Львович, Сергей Львович, Андрей Львович и Михаил Львович. Фотография С. А. Толстой. Ясная Поляна, 1904 г.
Л. Н. Толстой и польская пианистка Ванда Ландовская. Фотография С. А. Толстой. Ясная Поляна, 1907 г.


«
JI. Н. Толстой с родными на прогулке в яблоневом саду. Ясная Поляна, 1903 г.
С. И. Танеев и А. Б. Гольденвейзер. Фотография С. А. Толстой. Ясная Поляна, 1906 г.


JI. Н. Толстой. Фотография В. Г. Черткова. Ясная Поляна, 1908или 1909 г.

JI. Н. Толстой под «деревом бедных». Фотография П. Е. Кулакова. Ясная Поляна, 1908 г.
Л. Н. Толстой и Д. П. Маковицкий отправляются на прогулку по окрестностям Ясной Поляны. Фотография А. И. Савельева. Январь 1910 г.


Ружья и пистолеты из яснополянского дома.
Jl. Н. Толстой в окрестностях Ясной Поляны. Фотография К. К. Буллы. 1908 г.


Л. Н. Толстой играет в шахматы с М. С. Сухотиным. Фотография К. К. Буллы. Ясная Поляна, 1908 г.
Л. Н. Толстой играет в городки с сыном В. Г. Черткова Владимиром. Фотография Т. Тапселя. Май 1909 г.


Троицын день в Ясной Поляне. Фотография Т. Тапселя. Май 1909 г.
Лев Николаевич и Софья Андреевна среди крестьян (тот же день).


Л. Н. Толстой на открытии в деревне Ясная Поляна народной библиотеки Московского общества грамотности. Фотография В. Г. Черткова. 31 января 1910 г.

Похоронная процессия шествует от станции Засека в Ясную Поляну. Фотография А. И. Савельева. 9 ноября 1910 г.
Софья Андреевна у могилы Льва Николаевича Толстого. 1912 г.

исполнении, близким было сложно в это поверить. Кажется, никто так тонко не чувствовал поэзию, как он, ее критик. Не случайно писатель являлся автором 36 стихотворений, одно время увлекался ритмической про– w >й. Все Толстые говорили литературно, выразительно, художественно, особенно сам писатель. Близкие отмечали, что читал он так, что можно было заслушаться и I к– заметить, как пролетело время. «После чая, – вспоминала А. А. Толстая, – Лев читал нам вслух норвежские повести в русском переводе, которыми он восхищался, читал прекрасно, хотя слегка конфузился, когда попадались опасные, то есть не совсем приличные места». По особенно проникновенно читал он стихи – Пушкина, Тютчева или Фета. Он умел на сверхчувственном уровне соприкоснуться с тайной поэта, с его энергией, породившей музыку стиха. Толстой признавал всего пять поэтов – Пушкина, Лермонтова, Баратынского (за его «Смерть»), Тютчева и Фета. Других он поэтами не < читал.
У Пушкина, по его мнению, слабы крупные вещи, а «Евгений Онегин» и небольшие стихотворения – «хороши». Всем советовал читать «Повести Белкина», «Пиковую даму», которую считал образцовым произведением. Не переставал восхищаться языком Пушкина, его (>строумием и здравым смыслом. Лермонтовского «Демона» называл «слабой вещью». Потом, считал Толстой, произошло «падение» поэзии, которое олицетворяли (обой Фет, Майков, Полонский, Апухтин и декаденты.
Писатель придавал особое значение «психологии творчества». Для него было важным, в какое время дня или ночи создавалось то или иное произведение. Сам Толстой предпочитал творить по утрам. Ночью он написал лишь план пьесы «Власть тьмы». Он легко определял, какие книги написаны днем, а какие – ночью. Диккенс и Руссо, по его мнению, писали днем, а Достоевский и Байрон – ночью. В романах Достоевского, утверждал писатель, уже в первых главах все сказано, вся суть, а дальше идет только сплошное «размазывание и повторение». «Психология творчества» Шиллера, по убеждению Толстого, заключалась в смаковании шампанского и в том, что он держал ноги в холодной воде.
В его произведениях это очень чувствуется. Размышляя о поэтах, Толстой вспомнил о Бальмонте, который читал ему свои стихотворения. «Глупости, глупости» – таков был «вердикт» Льва Николаевича. Писатель считал, что этот поэт «глуп».
Надо отметить, что в своих вкусах Толстой был довольно противоречив. Не случайно именно в дуальности Ницше он усмотрел искренность философа. Пожалуй, только один писатель удостоился восхищения Льва Николаевича – Иоанн Богослов: «У него такие мысли, которые я только сейчас понял».
Что касается поэтов, то о своем знакомом Фете, например, Толстой говорил следующее: «Умен был. Своим умом думал. От этого он и был поэт. Знаете, что означает "поэт"? По-гречески noiew, работать». «…Читать Фета – это слаще всякого вина… Стал читать Фета, одно стихотворение за другим, и все не мог остановиться, выбирал свои любимые, и испытывал такое блаженство, что, казалось, сердце не выдержит – и не мог представить себе, что есть где-то люди, для которых это мертво и ненужно. Оказывается, мы только в юбилейных статьях говорим, что поэзия Фета это "одно из высших достижений русской лирики", а что эта лирика – есть счастье, которое может доверху наполнить всего человека, этого почти никто не знает».
Стихи Тютчева Толстой читал словно «молитву». Любил его «Весну». Зимой забывал это стихотворение, а весной цитировал от строчки до строчки. И неизменно возвращался к Пушкину, восхищался им. «Никакого усилия в его стихах не чувствуется. Только он так мог сочинять. Прочел за последнее время всего Пушкина. Все лучшее – это Пушкин!» «Хорошо пишут стихи французы и русские». И все же, считал Толстой, поэты связаны рифмой, не свободны в самовыражении. Исключение, по его мнению, составлял лишь Пушкин, который и мыслил стихами.
Толстой много читал и был прекрасным рассказчиком: легко запоминая тексты, часто цитировал их своим гостям. О его энциклопедических познаниях можно говорить бесконечно. Кажется, он не пропускал ничего интересного, но выбирал из памяти самое впечатляю
щее. Изучал языки, собирал материалы для своих сочи– иений, читал Евангелие, критику священных писаний. Из беллетристики любил Диккенса, Теккерея, Троллопа, <1»лобера, Гюго, Мопассана, Доде и Гонкуров, а вот талант Золя называл «преднамеренным», а его описания (читал слишком мелочными и подробными. Блестяще шал русскую литературу, ценил Тургенева, Достоев– < кого. Не любил Мельникова-Печерского из-за его – фальшивого тона». Толстой говорил, что детям следует читать то же, что и взрослым – «Робинзона Крузо», Дон Кихота», «Путешествия Гулливера», «Оливера Твис– га», «Дэвида Копперфильда». Незаурядная эрудиция пи– (ателя ощущалась в каждом произнесенном им слове, и с то гости этим «угощением» только наслаждались.
А каким был Лев Николаевич в реальном соприкос– I ювении с коллегами по перу? На «ты» он был лишь с од– и им Островским, который восхищал его своим истин-
I ю русским стилем жизни. Леонтьева считал «умным и чутким к художеству», а Каткова «бестолковым»: этот нывший друг Герцена сделался «черносотенцем». Некрасов производил на Толстого впечатление очень i ильного, жестокого и холодного человека. Лев Николаевич считал его нравственно высоким, цельным, но не симпатичным. Дружинина находил «милым». Тургенева – добрым, но не самобытным. «Эх, какой глупый я был,что хотел стреляться с ним!» – признавался Толпой. С Достоевским лично не был знаком. В Герцене сто поразила живость лица. Его роман он нашел очень трогательным: жена покинула мужа, ушла с поэтом, а когда поэт бросил ее, снова вернулась к мужу – «Это чудесная черта!».
Высоко ценил Боборыкина. Познакомился с ним, когда того выбирали в члены Академии. Лев Николае– нич тогда сказал: «Если бы у меня было 10 шаров, все отдал бы за него. Он умел писать!» Короленко, которого 1<)лстой принимал у себя, показался ему «несимпатичным». Некрасов, Чернышевский, Михайловский, откро– нснничал писатель, всегда были ему неприятны. Ему претил не их либерализм, а некая «серединность, журнальная либеральность». В. Г. Чертков как-то спросил
II исателя: знал ли тот Щедрина, бывал ли он в Ясной По
III ляне? Ведь, как известно, Салтыков служил в Туле. «Нет, что-то он меня не любил», – ответил Толстой и вспомнил, что в Петербурге нередко с ним встречался в редакции «Современника». Софья Андреевна Толстая утверждала, что Салтыков-Щедрин все же однажды приезжал в Ясную Поляну.
Хомякова Лев Николаевич знал лично и с удовольствием вспомнил его самобытность, его «лицо монгола». Аксаковых считал софистами. И Киреевский был таким же, выступал за самодержавие, православие и народность. Тем не менее именно за эту «народность» писатель их и любил.
О Леониде Андрееве отзывался достаточно язвительно: «Пишет непонятно, например: "душу переломил о колено, как палку"». Лесков произвел на Толстого впечатление очень сильного человека, а Огарев не понравился из-за некой «расслабленности» и из-за того, что пил.
Беседуя со своими гостями, Толстой не мог пройти мимо так называемой «пятой стихии» – денег, заставлявших «писать много». «Валяй, пиши» – этим девизом грешили многие писатели, в том числе и он сам. Лев Николаевич считал, что Диккенсу надо было остановиться после «Копперфильда»: «написал – и довольно». Тургенев, по его мнению, оказался несамостоятельным, «подражал вкусам общества и дорожил слишком славой». Слава – большой соблазн. Надо думать, говорил он, не о gloire(слава. —#.#.), а о добром имени своем. Это важно. Он советовал читать Канта, который, по его убеждению, переживет всех, несмотря на свой тяжелый слог. Когда Толстому не писалось, он читал вслух Иммануила Канта, а когда, как он выражался, «полуотдыхал», то – Герцена. Настоящим же отдыхом было чтение Диккенса, которого прочел всего и теперь «сосет словно карамельку».
Лев Николаевич никогда не любил слушать лекций. Он всегда обучался по книгам, с помощью них изучал иностранные языки. Интерес к языкам проявился у него еще в пятилетнем возрасте, когда он изучил грамматику французского языка. Очень хорошо знал немецкий, английский, итальянский, голландский языки.
1оворил когда-то по-татарски и по-арабски, но к старости забыл эти языки. Считал, что современный арабский – совсем иной язык, как итальянский по отношению к латинскому. Рассказывал, как учился в Казанском университете на восточном факультете, проучился всего год и не был переведен на второй курс из-за того, что I ie выдержал экзамена. Признался, что поступил на этот факультет потому, что желал стать дипломатом.
Когда жил на Кавказе, немного стал говорить на кумыкском. Любил читать серьезное на «хохлацком» языке. А русский язык, с его точки зрения, хорош для самовыражения. Но критиковал его за длинные слова, как то: самосовершенствование, самоотречение и т. д. Самым красивым языком считал французский, на котором часто думал. Правда, случалось, что, когда говорил по– французски, делал грубые ошибки: только подумает, как он славно говорит, и слова вдруг пропадают. Польский язык считал «неблагородным и некрасивым», но дух поляков охарактеризовал как изящный. Немного занимался чешским языком. Предрекал появление globalязыка, что будет способствовать лучшему взаимопониманию между народами. Через пять веков, говорил Толстой, останется лишь один язык Поэтому всячески пропагандировал эсперанто. «Как трудно переводить с китайского!» – не раз восклицал он, переводя Мина. Толстой мог, не переставая, говорить о Конфуции, о законах Ману, Чунг Минга.
С точки зрения Толстого, ребенка следует приучать к изучению языков, когда он сам пожелает. Ему не нравилось, что его внучка Танечка с пятилетнего возраста говорила на разных языках. Надо обучать ребенка двум языкам, не более. Писатель возмущался тем, что в «Вехах», которые имеются во всех петербургских домах, слишком много иностранных слов и выражений.
Толстой придавал особое значение переводам. Сожалел о том, что переводы его сочинений в исполнении Бинштока оказались «отвратительными» и не передают смысла (во Франции вышло собрание сочинений Л. Н. Толстого в 40 томах в парижском издательстве – Stock». Эти тома стоят на полке в спальне писателя), а ведь весь романский и магометанский мир читает на
французском языке; к тому же с этого издания переводят на итальянский, испанский, португальский, мадьярский, турецкий языки.
Лев Николаевич во всем ценил качество. Узнав, что в Ясную Поляну приедут гости из США от Эдисона, он стал упражняться в английском языке. Сам себя перевел на французский язык Наговорил в фонограф по-русски и по-французски. Снова практиковался в английском, но остался недоволен из-за того, что сбивался и запинался. Но всем советовал изучать английский, потому что на нем написана «пропасть прекрасных сочинений», более, чем на каком-либо другом.
У Толстого была собственная методика изучения чужого языка. Он брал хорошо знакомый текст, например Евангелие в переводе. Потом читал его в оригинале, сравнивая с переводом. За один – три месяца, полагал Толстой-полиглот, можно выучить, например, английский язык, если знаешь немецкий или французский. Он был убежден, что только ленивый не может выучиться по-гречески. Обучение следует начинать с тех греческих слов, которые употребляются в русском языке. Писатель изучил этот язык и прочитал произведения Геродота всего за три месяца. После этого он навестил профессора Катковского лицея П. М. Леонтьева, чтобы рассказать о своих впечатлениях от древнегреческого. Профессор долго не мог поверить в возможность столь быстрого освоения древнего языка и предложил почитать вместе с ним a livre ouvert(«открытая книга». – Н. //.). В трех случаях вышли разночтения в переводе, но в конце концов профессор был вынужден признать мнение Льва Николаевича верным. С утра до ночи писатель учился греческому. Ничего не писал, а только учился. Сожалел, что Гомер «изгажен» переводами Фоссы и Жуковского, которые «пели каким-то медово-паточным, горловым и подлизывающим голосом». Греческие лексиконы, хранящиеся в Ясной Поляне, переложены ароматными степными засушенными цветами, собранными писателем в пору штудирования им древнегреческого языка. Он говорил, что благодарен Богу за то, что тот «наслал» на него такую «дурь», как изучение языка Гомера. Ведь без знания этого языка,
полагал он, невозможно считать себя образованным человеком.
Спустя 13 лет, всего лишь за зиму, Толстой выучит древнееврейский язык и благодаря этому поймет Писания. В итоге подорвет себе здоровье, как, впрочем, и во время изучения древнегреческого.
Любое общение, безусловно, предполагает обратную связь. Стоит ли объяснять, что гости толстовской усадьбы также обогащали и ее хозяина. Так, Лев Николаевич наслаждался общением с умной, оригинальной художницей – старушкой Екатериной Федоровной Юнге, дочерью известного художника Федора Толстого, являвшейся одновременно и родственницей писателя. После игры в винт он с удовольствием беседовал с ней и узнавал много интересного о своих родных. Однажды Екатерина Федоровна рассказала, как ее мать из ревности сожгла все рукописи отца, которые хранились в огромном ящике высотой с большой стол. В нем была переписка ее мужа с декабристами, в которой он с большой любовью и благодарностью отзывался о своей первой жене. Мать Е. Ф. Юнге этого не могла простить. Толстой считал, что это характерно для всех женщин. ♦Свойственно вашей сестре», – сказал он Юнге. «И вы, мужчины, хороши!» – парировала Екатерина Федоровна. «В ином, только не в этом», – ответил он.
В ноябре 1905 года в гости ко Льву Николаевичу приехали его любимец, актер Художественного театра Л. А. Сулержицкий и режиссер В. Э. Мейерхольд. Разговор зашел о выпуске журнала (двухнедельника), в котором должен был сотрудничать, в частности, и Мейерхольд в отделе театральной критики, а также Бальмонт, Минский. Гости Толстого считали, что журнальную политику будет определять декадентство. Сулержицкий, как всегда, шутил, талантливо изображая общих знакомых в лицах. Писатель смеялся над проделками «Сулера» (так он называл своего молодого друга. – Н. Щ. С Мейерхольдом Толстой в основном общался в своем кабинете, где подробно ознакомился с концепцией будущего журнала. Остался ею недоволен, сочтя, что она слишком полемичная. Мейерхольд рассказывал о московской жизни, говорил, что большинство театров не работает из-за
того, что нет зрителей и ночью ходить небезопасно. По словам Мейерхольда, «Дети солнца» Горького пользовались популярностью из-за того, что в этой пьесе есть сценический эффект – избивание интеллигентов. В этой связи среди театралов ходили слухи, что во время спектакля могут ворваться черносотенцы. Однажды, когда началась сцена избиения, в зрительном зале произошла паника. Публика решила, что на сцену прорвалась черная сотня. Если бы к зрителям не вышел сам Немирович, они бы стали стрелять из браунингов. Теперь Художественный театр собирался ставить «Жизнь человека» Леонида Андреева. Мейерхольд, пользуясь случаем, попросил Льва Николаевича написать для театра пьесу. «В старости появляется чувство времени. В молодости каждый из нас расшвыривает его по сторонам. Теперь совсем другое: я не успеваю делать свою работу», – ответил Толстой. Потом они много говорили о «плохих» пьесах Чехова, в которых отсутствует содержание, а присутствует лишь сплошная «техника». Метерлинк, Ибсен, Бьернсон занимаются бесцельной игрой на чувствах, считал Толстой. По его мнению, даже Шекспир выше современных драматургов.