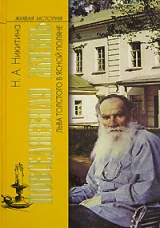
Текст книги "Повседневная жизнь Льва Толстого в Ясной поляне"
Автор книги: Нина Никитина
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 25 страниц)
Повседневность внесла свои коррективы даже во внешний облик хозяина усадьбы. Он стал постоянно носить «серую блузу со складками и поясом, не совершенно охотничью, но похожую очень на крестьянскую сорочку которая служила ему обычным деревенским костюмом». Трудно было поверить в то, что еще совсем недавно в течение дня он несколько раз менял рубашки, тщательно следил за безукоризненным состоянием рук и ногтей. «Целыми днями он был погружен в хозяйство», что не смогло не сказаться на результатах. Так, в «Тульском справочном листке» в 1866 году появилось такое объявление: «Продаются 40 новых больших дубовых бочек Адресоваться в контору графа Л. Н. Толстого в сельце Ясная Поляна Крапивенского уезда в 14 верстах от Тулы, по шоссейной дороге».
В Никольском хозяйство, по словам писателя, развивалось «превосходно», правда, урожай оказался не слишком хорошим. В этой связи Толстой занялся очередным «проектом разверстания и осмотром земли для хутора, скотины и тд.». Одновременно он скрупулезно подсчитывал доходы, получаемые с этого имения. Так, в 1864 году они составили 4 тысячи рублей плюс еще «старый хлеб на тысячу рублей». Из этой суммы пришлось выплатить проценты на 1900 рублей в Опекунский совет, в котором было заложено Никольское. К тому же предстояло вернуть 1500 рублей долга за брата Дмитрия. Таким образом, оставалось 1600 рублей, часть из них ушла на приобретение скота.
Купленное Толстым имение площадью в 1800 десятин по восемь рублей за одну десятину в Бузулукском уезде Самарской губернии скоро стало приносить прибыль. «Тульские губернские ведомости» сообщали: «В Крапивенском уезде, в сельце Ясная Поляна продаются десять молодых жеребцов от заводских жеребцов и киргизских маток, годные для упряжки и для верховой езды. Спросить приказчика». Подобные объявления о продаже лошадей появлялись регулярно. Для себя Толстой постоянно оставлял 12 рабочих лошадей.
В литературных кругах сложилось устойчивое мнение, что легко быть писателем, если у тебя есть поместье, подобное яснополянскому. На самом деле Толстому пришлось приложить много труда и усилий, чтобы превратить недоходное имение в процветающую усадьбу. Жизнь писателя была неотделима от жизни помещика. Между его кабинетом и пространством полей и лесов, казалось, не существовало преград. Сеять, пахать, косить и одновременно обдумывать сюжеты своих произведений было вполне по-толстовски, в его духе.
Каждый день он старался использовать с максимальной пользой, чтобы успеть многое сделать по хозяйству. Его собратья по перу старались отвлечься от зряшной повседневности, занимаясь исключительно литературным трудом. Он же не чурался житейских проблем и существовал «между» физикой и метафизикой. Вероятно, поэтому душевное состояние его было весьма переменчивым. Толстой то с воодушевлением
констатировал, что «находится во всем разгаре хозяйства», то с грустью сообщал о «невозвратимых девяти месяцах», которые могли бы быть лучшими, но стали чуть ли не худшими в его жизни из-за того, что он находился «в запое хозяйства». А впоследствии пришел к выводу, что надо «как можно меньше приписывать важности хозяйству».
Однако в молодости Толстой утверждал, что «попал, наконец, в настоящее дело», коим являлись для него посадка капусты в огромном количестве, разведение пчел за рекой Воронкой, выращивание элитных кур-брама– путров, привезенных из московского зоологического сада после проведенных писателем успешных торгов. Но оказалось, что куры могут быть «поморены» из-за плохого ухода. Поэтому их решили поместить на кухню, чтобы они «скорее занеслись» и были «сытыми». Потом стала гибнуть скотина. За «две недели было все испорчено, что сделано за год». Пришлось приказать скотнице Анне Петровне и старосте, чтобы они «поили и кормили хорошенько телят и свиней и чтобы скотина была исправна».
Хозяйство, конечно, дело хлопотное и тонкое одновременно. Так, увлекшись разведением птицы, Толстой быстро понял, что от этой затеи следует отказаться: уж слишком дорогой корм, а птица явно «не стоит такого корма». Анализируя хозяйственные неудачи писателя, Т. А. Кузминская отмечала: «В Ясной Поляне лишь яблочный сад и посадки лесов процветали и обессмертили память Льва Николаевича в хозяйстве». Тем не менее завидное упорство хозяев усадьбы принесло свои плоды.
Как известно, литературный успех пришел к Толстому в 1850-х годах. Совсем иные времена наступили в 1860-х годах, когда его «едва помнили, и его неудачи в области педагогических фантазий были более известны, чем его литературная деятельность». Не случайно именно тогда у Толстого возникло желание бросить писать и больше не думать «о противной лит-т-тературе и лит-т-тераторах». Писательство ассоциировалось у него с «умственной борделью». Поэтому он был благодарен судьбе за то, что «нынешнее лето глуп, как лошадь.

Работает, рубит, копает и косит». Назвав писательство «человеческой слабостью», «дурной страстью», Толстой вновь занялся решением хозяйственных проблем. «Хотение жизни», проявлявшееся, например, в косьбе травы с яснополянскими мужиками, не раз пересекалось с желанием заглянуть в «дыру нирваны». Добропорядочность семьянина переплеталась с художественной дерзостью. В «прозе жизни» он искал «высшее содержание». Яснополянская повседневность находила отражение в его художественных произведениях, мерцая на страницах «Войны и мира» и «Анны Карениной».
В эту пору писатель принялся за радикальную реконструкцию правого флигеля с венецианскими окнами на втором этаже. Софья Андреевна вспоминала: «Наш маленький тогда дом имел десять почти квадратных комнат 6–7 аршин и высокие потолки, 5 с половиною аршин, что делало их просторными, светлыми и очень приятными для жизни». Две деревянные лестницы, одна обычная, другая винтовая, находились в противоположных частях флигеля. В центре передней анфилады размещалась гостиная, слева от нее комната Т. А. Ер– гольской, а справа – спальня, окна которой «выходили в сад, в котором виднелись огромные елки и светились пруды сквозь поредевшие деревья. Большая дверь в гостиную была заперта и завешена зеленым сукном, на котором висели гравюры. На окнах были новые зеленые суконные шторы, посреди комнаты две простые железные кровати с красными сафьяновыми тюфяками. У окна туалет ореховый, потом большой комод, шифоньерка и умывальный стол. Еще два кресла». Большая угловая белая кафельная печь в спальне дарила тепло и уют. «Из спальни единственная дверь вела на маленькую площадку крупной винтовой лестницы, и с нее была дверь в соседнюю комнату, перегороженную шкафами» (здесь спала горничная. – Н. #.), а за перегородкой находился маленький кабинет Софьи Андреевны, оттуда можно было выйти в столовую. «Кабинет и столовая были расположены на задней анфиладе дома, выходящей окнами на хозяйственный двор». Чуть позднее кабинет писателя разместился в «комнате под сводами», прежде служившей кладовой. Два низких окна заполня
ли пространство комнаты светом. Рядом – была сундучная и комната прислуги. По заднему фасаду дома находились: кухня (позднее ванная комната. – Н.Н.), официантская, большая передняя, откуда дверь вела на хозяйственный двор. Стены комнат беленые, полы дощатые. Дом был весьма скромный, но не без уюта, с той «простотой, которую Лев Николаевич старался вносить во все».
После рождения первых детей кабинет Софьи Андреевны и «комната под сводами» стали детскими комнатами. Жить становилось тесновато. Поэтому летом 1866 года Толстой решил сделать бревенчатую пристройку к торцевой част дома, со стороны парка «Кли– ны». Пристройка была в два этажа с открытой террасой. Она «никак не вязалась со строгой каменной архитектурой здания». Тем не менее она просуществовала почти 30 лет и сгнила. Автором этого архитектурного проекта был сам Толстой, который любил, по словам жены, «робинзонствовать», а потому не приглашал профессиональных мастеров – «делал все самым первобытным способом дома».
Семья разрасталась. К тому же с каждым годом увеличивалось количество гостей, и зимой 1871 года писатель решил пристроить «большую залу, где дети могли бы бегать, играть, вообще двигаться, особенно осенними и зимними вечерами, когда им нельзя гулять». На этот раз проект пристройки разрабатывался профессиональным архитектором Гурьевым за 105 рублей серебром.
Основательная двухэтажная стилизованная пристройка появилась в юго-западном торце здания и стала органическим продолжением основной части дома. На втором ее этаже был зал с паркетным полом. Первый этаж представлял собой две небольшие комнаты – кабинет Толстого и библиотеку. Дверь писательского кабинета выходила на белокаменную террасу с двумя ступенчатыми высокими сходами. «Теперь мы стали жить как настоящие», – писала Софья Андреевна.
Реконструкция дома продолжилась в 1884 году: постройку вновь «красили и белили, позднее чинили крышу». В 1892 году к дому пристроили живописную
деревянную резную террасу придавшую ему романтический флер.
Тем временем ветшала пристройка 1866 года. Хозяева стали готовиться к очередной модернизации дома, закупили «350 штук кирпича», стали вести переговоры с архитектором. Через три года строительство пристройки было завершено, и у Софьи Андреевны и ее дочерей появились свои комнаты.
Однако не все получалось гладко. Помните эпизод в романе «Анна Каренина», где в строящемся флигеле рядчик испортил лестницу, срубив ее отдельно и не рассчитав количество ступеней? Особо не раздумывая, он наобум решил добавить три ступени, рассуждая так «Как, значит, возьмется снизу., пойдеть, пойдеть и придеть». Лестницу пришлось, конечно, переделывать, а вот выражение «пойдеть» в доме Толстых стало крылатым, и Толстой часто употреблял его в качестве иронической идиомы ко всему сделанному на скорую руку, на «авось», без расчета.
Отстроенный дом стал похожим на корабль. Все его «пассажиры» знали, куда плыть и как управлять этим «судном». Дом-«корабль» успешно плыл многие годы, преодолевая всевозможные житейские рифы. Слово «дом» на страницах «Анны Карениной» повторяется восемь раз подряд в шести предложениях. В этом бесконечном, тяжеловесном и торжественном повторе слова «дом» Владимир Набоков услышал «погребальный звон над обреченной семейной жизнью». Однако, к счастью, до «погребального звона» было еще далеко.
В этом доме Толстой много писал, «со слезами и волнением» переделывая свои сочинения, не давая себе «минуты отдыха». Но «искусство вечно, жизнь коротка». И Лев Николаевич, получив от Каткова гонорар в размере 2306 рублей 25 копеек за восемь печатных листов романа «1805 год», вскоре покупает 60 десятин 2250 сажен земли при сельце Подлесном за 600 рублей и «целые дни с лопатами чистит сад, выдергивая крапиву и репейник, устраивает клумбы». А еще шесть дней подряд косит с мужиками и «не может описать – не удовольствие, но счастье, которое при этом испытывал». Находясь до поры до времени в таком умиротворенном состоянии, Толстой не думает о лишениях, которые ис
пытывает, живя в деревне, где нет «театра, музыки, книг, библиотеки (это главное для него за последнее время)», как и возможности вести беседы с «новым и умным человеком». Но приходит день, когда он сообщает Фету о приливе творческих сил: «Сок начинает капать, и я подставляю сосуды. Скверный ли, хороший ли сок – все равно, а весело выпускать его по длинным чудесным осенним и зимним вечерам».
Однажды в отсутствие хозяина Ясной Поляны произошло драматическое событие: молодой бык насмерть забодал пастуха, и Толстой был привлечен к ответственности по статье 1466 с подпиской о невыезде. Вернувшись из Самары, писатель был настолько потрясен произошедшим, что решил срочно продать имение и уехать в Англию «навсегда или до того времени, пока свобода и достоинство каждого человека не будут у нас обеспечены». К счастью, санкций в отношении Толстого за смерть пастуха не последовало, и он вновь приступил к составлению «дробей» для «Азбуки», не забывая при этом и о «мозольном труде». «Хозяйство опять всей своей давящей… тяжестью взвалилось мне на шею», – записал он.
Повседневные заботы нередко вытесняли литературный труд. «Живу в мире, столь далеком от литературы, что, получая такое письмо, как ваше, первое чувство мое – удивление. Да кто же такой написал "Казаков" и "Поликушку"?» – писал Толстой Фету. Тем не менее, несмотря на «давящую тяжесть» хозяйственных проблем, он получал большое наслаждение от физической работы. Многие отмечали «чувственную патриархальность» владельца Ясной Поляны.
Летом Толстой почти забывал о писательстве. Друзьям оставалось только разводить руками, глядя на то, как этот огромный талант, по их мнению, губит себя, стремясь быть примерным помещиком. К началу сезонных работ все в усадьбе приходило в движение: чинились постройки, проверялся инвентарь. Хозяйство развивалось, хотя и «плохо сравнительно с идеалом». Идя по дороге мимо амбаров, Толстой с наслаждением вдыхал запах «муки, пыли и белены», смешанный с конским потом, дегтем, свежим сеном.
Но дух творчества не покидал писателя даже в дни страды. «Что ни делай, – признавался он Фету, – а между навозом и коростой нет-нет да возьмешь и сочинишь». В это время он не только работал, хлопотал по хозяйству, но и наблюдал, буквально впитывал нюансы повседневной жизни. Отсюда такая подкупающая достоверность, всамделишность образа Константина Левина, alter egoТолстого: «С утра он (Левин. – Я. Я.) ездил на первый посев ржи, на овес, который возили в скирды, и ушел пешком на хутор, где должны были пустить вновь установленную молотилку для приготовления семян…
Стоя в холодке вновь покрытой риги с необсыпав– шимся еще пахучим листом лещинового решетника… Левин глядел то сквозь открытые ворота, в которых толклась и играла сухая и горькая пыль молотьбы, на освещенную горячим солнцем траву гумна и свежую солому, только что вынесенную из сарая, то на пестро– головых белогрудых ласточек Он глядел на часы, чтобы расчесть, сколько обмолотят в час. Ему нужно было знать, чтобы, судя по этому, задать урок на день.
"Скоро уж час, а только начали третью копну", – подумал Левин, подошел к подавальщику и, перекрикивая грохот машины, сказал ему, чтоб он реже пускал.
– Помногу подаешь, Федор! Видишь – запирается, оттого не споро. Разравнивай!
Проработав до обеда… он вместе с подавальщиком вышел из риги, остановившись подле сложенного на току для семян аккуратного желтого скирда жатой ржи».
Порой во время работы Толстой, как и его герой Левин, испытывал такое блаженство, что мог забыть, что делал, и от этого становилось легко и радостно. Писатель ценил такое сладостное бессознательное состояние, когда не руки машут косой, а коса управляет телом. В этом и заключалась для него сила инстинкта труда, столь высоко им ценимого.
Самым крупным преобразованием Толстого в усадьбе являлись яблоневые сады. Труд, вложенный в их процветание, вернулся сторицей. Сад одаривал обитателей усадьбы чувством любви ко всему и вся: близким, соба
кам, лошадям, траве. Сажать громадный яблоневый сад – 6400 деревьев – Льву Николаевичу помогала Софья Андреевна. Когда ей было грустно, она «брала топорик, пилку, садовые ножницы и часа четыре рубила, стригла, пилила сушь в саду». А писатель с детьми в это время косил там траву Было радостно. После косьбы все дружно отправлялись на реку купаться. Затевая хозяйство, он был озабочен не только проблемой получения прибыли, но и сохранением добрых отношений с работниками и предпочитал второе первому. Софье Андреевне приходилось напоминать нерасчетливому мужу, что «без средств не проживешь», показывая список неизбежных ежемесячных расходов, которых было около полутора тысяч рублей. «Твой счет меня не пугает, – отвечал ей муж. – Не могу я, душенька, не сердись, приписывать этим денежным расчетам какую бы то ни было важность. Все это не событие, как, например: болезнь, брак, рождение, смерть, знание приобретенное, дурной или хороший поступок, дурные или хорошие привычки людей, нам дорогих и близких, а это наше устройство, которое мы устроили, так и можем переустроить иначе и на сто разных манер… Счастье и несчастье всех нас не может зависеть ни на волос от того, проживем ли мы все или наживем, а только от того, что мы сами будем». Но, несмотря на раздражение, возникавшее в супружеских отношениях, Толстой упорно продолжал вить свое гнездо, которое должно было быть «лучше того, из которого он вылетел».
Он по-прежнему был увлечен яблоневыми садами. «Уход за садами был простой, – рассказывал один из яснополянских крестьян, – сушь вырезали. Жировые сучки срезали. Окапывали. Зимой по мелкому снегу навоз округляли. Стволы обмарывали известкой. Опрыскиваний не делали». «По убранному саду, – вспоминал Толстой, – ходят маленькие дети с няней и с восторгом собирают яблоки в кучу». Сады давали обильные урожаи. Яблок было «обелбм». Однако сбыть урожаи с семи тысяч деревьев было не так-то просто. Поэтому сады стали сдавать в аренду тульским купцам за 6 тысяч рублей, при этом за хозяевами оставалось триста пудов яблок. По договору яснополянские крестьяне возили
яблоки на продажу или в Тулу, или на станцию Козлова Засека, чтобы отправить их в Москву Весной сады утопали в цвету. «Весна во всем разгаре, – писала Софья Андреевна. – Яблони цветут необыкновенно. Что-то волшебное, безумное в их цветении. Я никогда ничего подобного не видала. Взглянешь в окно в сад и всякий раз поразишься этим воздушным, белым облакам цветов в воздухе, с розовым оттенком местами и с свежим зеленым фоном вдали». А Лев Николаевич говорил: «Яблони цветут, точно хотят улететь на воздух».
Много времени Толстой проводил в пчельнике, в избушке со «старым дедом, каких описывают в сказках, с длинной белой бородой», который ходил среди ульев с обнаженной головой, и «пчелы его не трогали». Толстой сам расставлял колодки ульев, «огребал» пчел, «сажал» рои, просчитывал количество цветков, с которых пчела брала взятки перед тем, как лететь в улей. Софья Андреевна регулярно преодолевала три версты в оба конца, чтобы накормить мужа завтраками и обедами. Лев Николаевич общался с женой в это время записками, где речь шла исключительно о пчелах, ульях и рамках: «Соня! Два отроилось. Когда отделаешься дома, пришли мне жаровенку и воск и за мной пришли лошадь и полотенце перед обедом». Софья Андреевна сетовала на это увлечение мужа, которому, по ее мнению, не будет конца и края, а значит, и ее одиночеству: «Кроме пчел – ничто его уже не интересовало в жизни». Когда на пасеку приходил Фет, устраивалось чаепитие, во время которого «зажигались» светляки. Однажды двух светляков Толстой приложил к ушам жены и сказал: «Вот я обещал тебе изумрудные серьги, чего же лучше этих?» Эту сцену Фет запечатлел в волшебных строках: «В моей руке – какое чудо! – Твоя рука. А на траве два изумруда, – два светляка».
Здесь, на месте Старой пасеки, традиционно устраивались пикники с самоваром и закусками. Сюда же Лев Николаевич приходил пить кумыс от молодых кобылиц, привезенных им из самарских степей. Страсть к пчеловодству писатель сохранил до самой старости. Приходя на пасеку, восклицал: «Как хорошо! Какая благодать!» Какими бы ни были хозяйственные заботы, проблемы, увлечения, они не изменили человеческую
I штуру Толстого. «Придешь к барину за приказанием, – рассказывал толстовский староста, – а барин, зацепившись одной коленкой за жердь, висит в красной куртке головою вниз и раскачивается; волосы отвисли и мотаются, лицо кровью налилось; не то приказания слушать, не то на него дивиться». Разве не очевидно – хозяин Ясной Поляны с пылкостью древнегреческого бога Пана наслаждался земным чувством, проживая в своей усадьбе двойную жизнь – реальную и литературную.
Глава 13 «Кушанье готово!»
Трапеза зависит не от количества денег, а от образа мыслей и от нашего отношения к жизни. В Ясной Поляне у этого процесса был свой уникальный гастрономический антураж, квинтэссенцией которого являлся анковский пирог. Настырная повседневность проявлялась здесь и в таких мелочах, как застольные ароматы, запах кофе, чаепитие под липами среди цветников, плотные обеды, начинавшиеся по сигналу колокола. Крылатая острота Эмиля Золя «человек есть то, что он ест» здесь дополнилась еще одной компонентой – какон ест.
Интерес к пищеварительным процессам проявлял не только автор «Гаргантюа и Пантагрюэля», но и создатель «Улисса». Лев Толстой не остался в стороне. Он внес свою лепту в осмысление животрепещущей темы, связанной с гастрономическими пристрастиями своих героев. Так, например, Пьер Безухов любил хорошо пообедать и хорошо выпить, хотя и считал это безнравственным и унизительным, но не мог воздержаться от холостяцких увеселений, в которых непременно участвовал. Свой писательский образ Толстой строил не без помощи гастрономической концепции, которая на протяжении его долгой жизни не раз менялась. Вопросам, связанным с работой кишечника, он уделял должное внимание, пройдя огромный путь от гурмана до аскетичного вегетарианца. За свою жизнь он побывал и в
роли слуги желудка, и невероятного лакомки, прожоры, поклонника простой здоровой пищи. Нам интересно все в судьбе классика, в том числе любил ли он «покушать», как Тургенев, мог ли съесть за один присест до 30 блинов, как Пушкин, принимал ли гостей в халате и ночном колпаке подобно Тютчеву?
У деда Льва Николаевича, И. А. Толстого, вина всегда были исключительно французские, а хрусталь богемский. Он был в высшей степени хлебосольным, очень веселым и щедрым. Вся округа съезжалась к нему в гости, и он всех «закармливал и запаивал», промотав, таким образом, огромное состояние своей жены, большой любительницы давать балы. Он представлял собой классический образец старого барства. Гениальный внук не мог не описать своего колоритного предка на страницах «Войны и мира». Граф И. А. Толстой был дежурным старшиной московского Английского клуба. Ему довелось выступить в роли «жреца застолья» и хранителя обеденного ритуала, продемонстрировав свое мастерство во время клубного торжественного обеда в честь Багратиона, одержавшего победу в Шенграбен– ском сражении. «Стол был накрыт на 300, то есть на всех членов клуба и 50 гостей. Убранство было великолепное, о провизии нечего и говорить. Все, что только можно было отыскать лучшего и редчайшего из мяс, рыб, зелени, вин и плодов, все было отыскано и куплено за дорогую цену. Многое было доставлено богатыми владельцами подмосковных оранжерей бесплатно. Все наперебой старались оказать чем-нибудь свое усердие и участие в угощении», – сообщал об этом знаменательном событии С. П. Жихарев в «Русском архиве». В романе «Война и мир» Толстой описал знаменитый обед, данный в честь Багратиона, во всем следуя рассказу Жихарева, дополнив его художественными деталями – участием И. А. Ростова в сем торжественном мероприятии: «Во всех комнатах Английского клуба стоял стон разговаривающих голосов… и, как пчелы на весеннем пролете, сновали взад и вперед», «300 человек разместились в столовой по чинам и важности, кто поважнее, – поближе к чествуемому гостю… Обеды, постный и скоромный, были великолепны… На втором блюде, вместе с ис
полинскою стерлядью, стали наливать шампанское. После рыбы – тосты…»
В повседневной жизни антураж был много скромнее, но обеды такие же «убийственно сытые». В зависимости от того, была ли трапеза постной или скоромной, званой или обычной. Блюда каждой новой «перемены» – холодные, горячие, сладкие готовились специальным поваром. Стол накрывали официанты, которых было примерно столько же, сколько сидящих за столом. Блюда подавались по «переменам» из «белой кухни» в столовую. Стандартный набор – четыре перемены по три блюда в каждой. Длился обед около двух часов. По-настоящему обедали всегда в гостях. Случалось есть и без серебра, драгоценного фарфора и хрусталя, но непременно при наличии изысканной чистоты скатерти и превосходно накрахмаленных салфеток
Как утверждали знатоки кулинарного искусства, все едят, но обедают лишь избранные. Искусство обеда включает в себя триаду: где и как обедать, с кем обедать и, наконец, что есть. Эти компоненты влияют на качество жизни. Но не только. Как утверждал поэт, от питательной и регулярной пищи зависит вдохновение.
На вопрос, где сидеть и как обедать, ответил Лев Толстой, описав именины графини в «Войне и мире»: «Он (граф Ростов. – Я. Я.) заходил через цветочную и офи– I щантскую в большую мраморную залу, где накрывали стол на восемьдесят кувертов (столовых приборов. – //. Я), и, глядя на официантов, носивших серебро и фарфор, расставлявших столы и развертывающих камчатные скатерти, подзывал к себе Дмитрия Васильевича, дворянина, занимавшегося всеми его делами, и говорил: "Ну, ну, Митенька, смотри, чтоб все было хорошо"». С удовольствием оглядывая огромный раздвинутый стол, добавлял: «Главное – сервировка. То-то…» Вскоре звуки домашней музыки заменились звуками ножей и вилок, говором гостей, тихими шагами официантов…». Па одном конце стола во главе сидела графиня; на другом конце – граф и гости мужского пола; с одной стороны длинного стола молодежь постарше; с другой – дети, гувернеры и гувернантки. Хозяин стола выглядывал из-за хрусталя, бутылок и ваз с фруктами, наливая
вина своим соседям. Графиня смотрела на гостей из-за ананасов, не забывая об обязанностях хозяйки. На дамском конце слышалось равномерное лепетание, а на мужском – голоса раздавались все громче и громче. Подавались супы, один a la tortue(черепаховый. – Н.Н.), кулебяки, рябчики. Вино разливал дворецкий, держа бутылку, завернутую в салфетку. Вина подавались такие: «дрей-мадера», «венгерское» и «рейнвейн». У каждого прибора стояли четыре хрустальные рюмки с графским вензелем.
Во времена И. А. Толстого и его литературного двойника кушанья были простыми: щи, окрошка, солонина, каша, которые подавались в больших количествах. Обеды и ужины каждый раз готовились заново и были очень сытными. Все блюда одновременно ставились на стол. Для званых обедов готовилось до восьми блюд. В летнее время к таким трапезам был приставлен слуга с веником, чтобы отгонять от присутствующих злых мух. Всевозможные закуски и заедки сопровождались выпивкой по рюмочке. Русский стол преимущественно сохранялся во время поста, так как в 70-е годы XVIII века в моду вошел «европейский» стиль обеда, когда блюда ставились на отдельный столик, и лакеи разносили их вокруг стола, накладывая еду прямо в тарелки. Обеды «на скорую руку» готовились из кур и яиц, которых в избытке было в усадебном хозяйстве. Совсем иное дело – рыбные блюда, которые считались накладными. Ценную рыбу приходилось покупать. Все остальное – мясо, овощи, фрукты, включая экзотические, были своими. Толстой гениально описал «чувственные», вкусные обеды в своих романах, в полной мере продемонстрировав свое совершенство «тайновидца плоти».
Культ еды был ему знаком с детства. Повар Николай Михайлович Румянцев готовил «отличные обеды», в немалой степени способствовавшие тому, чтобы маленький Лёва вырос здоровым. Он запомнил мастерство кондитера Максима Ивановича, вкусные обеды из пяти– шести блюд, десерты, варенья, левашники, пирожки, названные в честь повара «вздохами Николая». Из еды он не признавал, пожалуй, только бульона. На покупку приправ, растительного масла и кофе в Ясной Поляне тра-
гилось от 100 до 125 рублей в месяц. Все остальное – птица, мясо, молоко и рыба – было своим.
Став молодым человеком, Толстой познакомился с кавказской кухней. В Тифлисе он посещал духаны, небольшие рестораны, в которых висели баранина, свежая, жирная, очень привлекательная, и гроздья винограда. С тех пор он полюбил виноград и как-то признался С. Вен– герову: «Я люблю виноград, летом хочется съесть его полфунтика, а ведь нельзя: совесть зазрит». Но было время, о котором рассказала подруга его сестры Е. И. Сытина, когда совесть еще «не зазрила»: «Послал он однажды купить фунт крупного винограда, стоивший тогда полтинник Лев Николаевич в то время любил полакомиться, как все некурильщики. Мы с Марией Николаевной (сестрой писателя. – Н.Н.) торчали тут же. Когда коридорный принес виноград, Лев Николаевич взял его в руки и, немного подумав, конфузливо и шутливо заметил:
– Знаете, mesdames, ведь если этот фунт разделить па три части, то никому не будет никакого наслаждения, лучше уж я съем все.
Мы, конечно, поневоле согласились и предоставили Льву Николаевичу Львиную долю целиком. Он ел, а мы < мотрели. Однако же ему становилось совестно, и он, держа виноград, прерывал еду словами:
– А все-таки, mesdames, не хотите ли?!
Мы всякий раз великодушно отказывались».
Были у писателя и другие пристрастия, способствовавшие пробуждению воображения, например кофе, чай, шоколад, конфеты фирмы «Эйнем». Он был сласте– I юй, ставил перед собой большую бонбоньерку, выбирал из нее любимые шоколадные конфеты с начинкой, I ю не жевал их, а медленно сосал, чтобы продлить удовольствие.
Кофе, «чудесный дар Аравии счастливой», постоянно ласкал его вкус. Он рано вставал и встречал день с чашкой кофе, который ему подавался на подносе в маленькой чашечке. Держа ее за ручку двумя пальцами, большим и указательным, он не спеша пил кофе небольшими глотками, каждый глоток сопровождая протяженным полувздохом: ффу! Допив кофе, он по обыкновению заглядывал в чашку, явно сожалея о том, что в
шая вместе с героем «Сентиментального путешествия» мясное блюдо с приправами, вырабатывал в себе сакральное отношение к еде, примирявшее душу с телом. Он разбирался в тонкостях изысканного застолья, не предполагавшего шума и обилия слуг. Прелесть обедов заключалась совсем в ином – в убранстве пространства, месте проведения застолья и в роскоши общения Это был основной камертон обеда.
В Париже он «обедал у Philippe», в « Restaurant Philippe», считавшемся одним из лучших ресторанов. Частенько бывал в Club des Grands estomacs(Клуб больших желудков. – Я Я), где собирались ценители хорошей кухни; не раз посещал ресторан «Les Plaisires de Paris»,славившийся рыбными блюдами (к завсегдатаям этого ресторана относится его реплика «чудаки милые»), не смог пройти мимо «Freres Provensaux» («Провансальские братья». – Я. Я), старинного ресторана в Пале-Рояле, пользовавшегося большой популярностью. Толстой заходил и в « Cafd-desAveugles» («Кафе слепых». – Я. Я), размещавшееся под аркой Пале-Рояля и названное так в честь игравшего в нем оркестра слепых музыкантов. Публику привлекал сюда известный чревовещатель ( ventrioque) – гигантского роста барабанщик
В Петербурге Толстой посещал кондитерскую Пассажа, рестораны Сен-Жоржа и Клея, обедал у Шевалье, где, по собственным воспоминаниям, «хорошо пил». Участвовал в артистических обедах и ужинах, бывал на знаменитых, так называемых «генеральных» обедах Некрасова, на скромных пиршествах Тургенева, а также на светских раутах, организованных редакцией «Современника».








