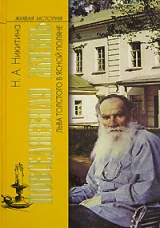
Текст книги "Повседневная жизнь Льва Толстого в Ясной поляне"
Автор книги: Нина Никитина
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 25 страниц)
не оглядываясь на нее. Мне так было страшно все вчерашнее. Когда я пришел к завтраку, она была опять такая же, как всегда. Я не напоминал ей об вчерашнем, боясь огорчить ее и тетиньку. Я никому, кроме тебя, еще не сообщал об этом. Я думал, что все прошло, но во все эти дни, всякий раз, как мы остаемся одни, повторяется то же самое. Она вдруг делается маленькой и фарфоровой. Как при других, так все по-прежнему. Она не тяготится этим, и я тоже. Признаться откровенно, как ни странно это, я рад этому, и, несмотря на то, что она фарфоровая, мы очень счастливы.
Пишу же я тебе обо всем этом, милая Таня, только затем, чтобы ты приготовила родителей к этому известию и узнала бы через папа у медиков: что означает этот случай, и не вредно ли это для будущего ребенка. Теперь мы одни, и она сидит у меня за галстуком, и я чувствую, как ее маленький острый носик врезывается мне в шею. Вчера она осталась одна. Я вошел в комнату и увидал, что Дора (собачка) затащила ее в угол, играет с ней и чуть не разбила ее. Я высек Дору и положил Соню в жилетный карман и унес в кабинет. Теперь, впрочем, я заказал и нынче мне привезли из Тулы деревянную коробочку с застежкой, обитую снаружи сафьяном, а внутри малиновым бархатом, с сделанным для нее местом, так что она ровно локтями, головой и спиной укладывается в него и не может уж разбиться. Сверху я еще прикрываю замшей.
Я писал это письмо, как вдруг случилось ужасное несчастье, она стояла на столе, Н. П. (Н. П. Охотницкая. – Н. Н.) толкнула проходя, она упала и отбила ногу выше колена с пеньком. Алексей говорит, что можно заклеить белилами с яичным белком. Не знают ли рецепта в Москве. Пришли, пожалуйста».
Толстой увидел этот сон в сложный момент своей супружеской жизни, когда он «чуть не раскаивался» в том, что женился. «Он выдумал, что я фарфоровая, такой поганец! А что это значит – бог знает. Что ты думаешь о его сумасшедшем письме?» – с волнением спрашивала Софья Андреевна свою младшую сестру. В слове «кукла» вряд ли зашифрован смысл о «бездельной барышне». Скорее, эта метафора означает фригидность – холод
ность, отсутствие эротического опыта. Казалось бы, сон невозможно пересказывать столь художественно, чтобы не лишить его при этом особого дыхания, некой музыки, но Льву Николаевичу удалось сделать это, как всегда, гениально.
Таких необычайных снов с «ирреальной реальностью», тонкой имитацией жизни в толстовской сно– видческой практике было немало. О них он не раз рассказывал своей свояченице, «сияющей мечте», mademoiselleТане. Процитируем еще один из них: «Я видел сон: ехали в мальпосте (почтовой карете. – Н. Н.) два голубя, один голубь пел, другой был одет в польском костюме, третий, не столько голубь, сколько офицер, курил папиросы. Из папиросы выходил не дым, а масло, и масло это было любовь. В доме жили две другие птицы; у них не было крыльев, а был пузырь; на пузыре был только один пупок, в пупке была рыба из охотного ряда. В охотном ряду Купфершмит (первая скрипка в оркестре Большого театра. – Н. Н.) играл на валторне, и Катерина Егоровна (учительница немецкого языка) хотела его обнять и не могла. У ней было на голове надето 500 целковых жалованья и резо (шелковая сетка для волос) из телячьих ножек Они не могли выскочить, и это очень огорчало меня».
Символика этого сна весьма проста: в шутливо-аллегорической форме Толстым воспроизводилась поездка Тани Берс со своим женихом и братом в Ясную Поляну.
Писатель любил, «увернувшись потеплее в одеяло», броситься в объятия Морфея, чтобы «наслаждаться» фантазиями сна: голыми женскими руками с ямочками и складочками, верховой ездой, охотой. Огромное количество снов, щедро разбросанных по толстовским дневникам и записным книжкам, словно просится в «сновидческий» симболярий. Его «подпольный мир» – своеобразная амальгама из символов, аллегорий, обрывков реальности. Эта фантасмагорическая смесь дополнялась тайными смыслами.
Толстой постоянно бился над разгадкой «механизмов» сна, разрабатывая собственную концепцию. «Я видел во сне девушку, в которую был влюблен, и при этом с такою верностью воображение воспроизводило не ее,
а меня, в том чудном состоянии души, когда человек бывает искренно влюблен, что я проснулся влюбленным. Когда душа человека во сне – не была развлеченной внешними предметами, и вступает в то состояние души, в котором находилась прежде (что случается и наяву, когда нам кажется, что какой-нибудь факт повторялся уже несколько раз), она воспроизводит все предметы, в то время отражавшиеся в ней. – Это одна из причин сновидений. Другая причина есть: внешние действия во время сна. – А третья: быстрое движение мысли, посредством которого соединяешь в одно целое: воспоминания и состояние души во время сна, внешние впечатления, поражавшие человека во время сна и неполных пробуждений». Приведенный нами пассаж представляет собой хорошо продуманную экспертизу сновидческого опыта. Но самое главное заключается в том, что сны раскрывают сложную «диалектику души» Толстого. Его сны были, как он выражался, «последовательными», «очень яркими», «безнравственными», «музыкальными», «золотыми и серебряными». Золотые – это значит послеобеденные, а серебряные – предобеденные, или, как их еще называли в Ясной Поляне, – «ноги греть». Многие сны можно было сравнить с повестями или романами. Иные являлись некими снами– мыслями. Встречались и семейные, отражавшие домашние коллизии, – от ранних, где жена любит его «легко и ясно», до «очень тяжелых», характеризуемых «борьбой с женой». Толстому случалось увидеть милые сны, в которых «собаки лизали ему ноги». Но больше всего ему все-таки нравилось «думать во сне».
Лев Николаевич интересовался природой сновидения, его связью с человеческим «подпольем», что гениально описал в своих романах. Чего только стоят сны Пьера Безухова и Андрея Болконского, Анны Карениной и Алексея Вронского. Эти сны прелестны грацией рисунка, прихотливостью архитектоники. Но в его писательской практике встречались и совсем иные сны, чрезвычайно колоритные, построенные на игре смыслов и слов, среди них – сон Стивы Облонского: «Да, да, как это было? – думал он, вспоминая сон… Алабин давал обед в Дармштадте; нет, не в Дармштадте, а что-то аме
риканское. Да, но там Дармштадт был в Америке. Да, Алабин давал обед на стеклянных столах, да, – и столы пели: II mio tesoro(мое сокровище. – Н. Н.)и не il mio tesoro,а что-то лучшее и какие-то маленькие графинчики, и они же женщины, вспоминал он». Толстовский герой, привыкший к беспечной, вальяжной жизни, постоянно проводящий время в шантанных кутежах, в обществе «поющих графинчиков» и певичек, привычно отождествлял женщин с графинчиками. Символика этого сна адекватна яви.
Сновидения обнажали то, что глубоко скрывал разум. Однажды ему приснилось, как кто-то ударил его по лицу, а он не смог должным образом ответить своему обидчику, не вызвав его на дуэль. Проснувшись, Толстой объяснил свой сонный «поступок» тем, что «во сне действует ум, а разум, сила нравственного движения отсутствует».
А теперь заглянем туда, куда, как говорил Лев Николаевич, не следует заглядывать. Напомним, что он регулярно делал записи в двух книжках, одна из которых, «денная», предназначалась для дневных заметок, а другая – «спальная» – для самых интимных, которые писатель записывал ночью, когда мысль, по его выражению, находилась в зените. Для этих целей у него даже была специальная английская металлическая ручка фирмы «Хавер» с электрической лампочкой, с помощью которой Толстой записал этот сон: «Я выгоняю сына: сын – соединение Ильи, Андрея и Сережи. Он не уходит. Мне совестно, что я употребил насилие, и то, что не довел до конца… Вдруг этот собирательный сын начинает меня своим задом вытеснять с того стула, на котором я сижу. Я долго терплю, потом вскакиваю и замахиваюсь на сына стулом. Он бежит. Мне еще совестнее. Я знаю, что он сделал это не нарочно… Приходит Таня и говорит мне, что я не прав. И прибавляет, что она опять начинает ревновать своего мужа… Вся психология необыкновенно верна, а нет ни времени, ни пространства, ни личности». Весьма красноречивый сон, но еще более впечатляет авторский комментарий к нему. Этот сон мог быть сравним только лишь с виртуозной интерпретацией «движения» сна одного из героев
фильма Бюнюэля «Скромное обаяние буржуазии*, в котором презентация сновидения – реальнее яви. Здесь сон, как утверждали древние, «сам себя толкует».
Однажды Толстой увидел очень страшный, угрожающий сон: «В темной комнате вдруг страшно отворилась дверь и потом снова неслышно закрылась. Мне было страшно, но я старался верить, что это ветер. Кто-то сказал: поди, притвори. Я пошел и хотел отворить. Сначала кто-то упорно держал сзади. Я хотел бежать, но ноги не шли, и меня обуял неописанный ужас. Я проснулся. Я был счастлив пробуждению». Подобные сны невольно приводили к мысли, что «жизнь есть радость пробуждения». Писателю становилось легко после пробуждения.
Благодаря снам он заглядывал туда, куда не надо смотреть человеку с земным вйдением. Но это было только в снах. В реальной жизни Толстой был более предназначенным, суеверно полагая, что будущее должно быть задернуто от дерзкого взора неким покрывалом. Каждый день он теперь встречал таинственной пиктограммой «Е.БЖ.» – «Если Буду Жив».
Еще большее значение писатель придавал нумерологическим смыслам, особенно мистическому числу «13», означавшему в древнееврейской символике смерть. Так, для него было чрезвычайно важно, сколько, например, человек участвовало в том или ином застолье. Если их оказывалось 13, то разговор невольно посвящался смерти. Один из гостей, Иван Тургенев, в этой связи осторожно заметил, что боязнь смерти – естественное чувство. Из-за этого страха он даже не приезжал в Россию во время холеры. Толстой же был убежден в обратном: тот не живет, кто боится смерти, которая неизбежна, как ночь или зима.
Он не раз сравнивал жизнь человека с падающим камнем: чем ближе к земле, тем быстрее падение. Теперь писатель искал новые смыслы в снах, цифрах, художественных текстах. Они приобретали космологический характер, помогая ему лучше прочувствовать самобытие. В этих переживаниях ему помогали гениальные тексты, такие как «Король Лир», ставший для него вещим, от пророчеств которого на душе становилось темнее ночи.
Среди многочисленных человеческих недугов, таких как русская хандра или английский сплин, есть, пожалуй, наиболее опасный. Недуг этот, назовем его «болезнью Лира», наделен определенной симптоматикой, сопровождаемой чувством одиночества и боязнью смерти. Эта странная болезнь была зафиксирована еще за 800 лет до Рождества Христова анонимным автором драмы «Король Лир», первым из писателей сумевшим сублимировать человеческое одиночество. Ей были подвержены преимущественно мужчины. Ведь различие между полами, с точки зрения Толстого, заключалось в том, что женщины, в отличие от мужчин, не думают о смерти.
«Болезнью Лира» страдали все великие. Ведь они – пустынники по определению. Своими мучениями, вызванными этим заболеванием, они расплачивались за свою уникальную способность погружаться во тьму, находя, что «самое интересное в жизни – смерть». Этой затяжной хронической болезнью заболевали многие писатели, в том числе и Лев Толстой. Знания медицины здесь оказались бессильны. Момент, когда наступит период облегчения, был неизвестен. Успокаивало только одно: от этой болезни не умирают. И все же утешений
было мало: природа, воздух и «дыхание света» не воодушевляли в период обострений. Тем не менее борьба с недугом велась достойно. Все знали: надежд на избавление от смерти нет. Поэтому и озлобления не наблюдалось. Болезнь экзаменовала пациента на смирение, подсказывая, что скорый конец их жизни не предвидится. Значит, расчеты с ней должны развиваться медленно.
В литературе издавна существовали бродячие сюжеты, кочевавшие во времени и пространстве. Гоцци насчитал их более тридцати, а де Нерваль сократил это количество до двадцати. Один из этих кочующих сюжетов – о короле Лире. Генезис «лирства» восходит к старинной драме «Король Лир». Неизвестный автор, рассказав о спасении души, сопровождаемом отказом от власти, придумал благополучный конец: Корделия возвращает отца в прежнее состояние. Впоследствии Шекспир переосмыслил этот сюжет, сделав его финал трагичным, и получилась пьеса, повествующая о метафизике ухода, его неизбежности и привкусе смерти.
«Король Лир» был увлекательной темой петербургского литературного бомонда 50-х годов. Одно время Толстой хотел полюбить и Шекспира. Всеми силами старался проникнуть в гениальное творение, постичь его гармонию и величие духа. Он стал читать «Лира» в переводе Дружинина. Антипатия к Шекспиру на время исчезла, он стал «понимать Лира» и пить за здоровье его автора. Не без помощи Тургенева он стал «приближаться» к Шекспиру, много читал его и «очень им восхищался», видя «огромный драматический талант».
Толстой пережил эту трагедию лично, невольно оказавшись в роли Лира. Лир Шекспира – безусловный архетип позднего Толстого. Он – больше реальности. Он – предчувствие и предсказание, одинокий крик, предупреждающий о грядущей беде. Идею ухода Толстой вынашивал много лет. Он постоянно грезил о свободе вне дома. Одиночество окрыляло его все более. Лир невольно становился идеалом его жизни, который захотелось во что бы то ни стало претворить в жизнь. Этот образ стал его личным мифом, спасающим и карающим божеством.
Действительно, у Толстого и шекспировского героя немало странных сближений: острое разочарование в жизни, иллюзорность прежнего бытия и условность прошлого. Толстой, как и Лир, отказался от всего, чем жил долгие годы, чтобы начать новую, совершенно иную жизнь. В жизни обоих был неслыханный поступок – отречение.
Прежде чем самому стать Лиром, Толстой приумножал свои владения. В этой идее он превзошел своего отца, «поставившего своей целью – поправление состояния, расстроенного отцом». В молодости писатель многое растратил из унаследованного им имущества. Продал деревни (Мостовую, Ягодную, Малую Воротынку) и свой огромный дом в 32 комнаты. Став мужем и отцом, «положив все на эту карту», он кардинально изменил взаимоотношения с собственностью. Он стал собирателем земель и вскоре превратился в богатого преуспевающего помещика. Толстой скупил плодородные земли на Волге, приобрел многие десятины близ своей усадьбы. Он овладел более чем восьмью тысячами десятинами земли.
После этого наступил перелом в его жизни, прежние
ценности потеряли для него всяческий смысл. В это время он был особенно близок к самоубийству, прятал шнурок, боясь повеситься, но, к счастью, не убил себя. Слишком велика была в нем сила жизни, побеждавшая страх смерти. Толстой всё чаще и чаще «громко вскрикивал» о своем уходе из Ясной Поляны. В 1883 году он выдал жене доверенность на ведение имущественных дел. Жизнь в условиях избытка казалась ему тяжелее жизни бродяги. Через два года последовала еще одна уступка: он разрешил Софье Андреевне вести дела по продаже своих сочинений.
Когда весной 1892 года в Ясной Поляне появился Аб– рагам фон Бунде, богатый швед, раздавший свое имущество и ставший после этого странником, писатель увидел в нем свою тень, собственное отражение: «те же мысли, то же настроение, минус чуткость».
Вскоре, на Страстную неделю, съехались сыновья с намерением делиться. Отцу было тяжело «подписывать и дарить то, что он давно уже не считал своим». В это время он был подобен Лиру, спешащему просунуть голову в воображаемую петлю. Он подписал раздельный акт: вся недвижимость, оцениваемая в 550 тысяч рублей, перешла к жене и детям.
«7 июля 1892 года в крепостную книгу тульского Нотариального Архива по Крапивенскому уезду был внесен Раздельный акт. Я. Ф. Белобородое, тульский нотариус, владелец конторы, находящейся в первой городской части Киевской улицы, совершил акт. К нему обратился артиллерии поручик граф Л. Н. Толстой вместе с детьми и жена – опекунша малолетних детей (Андрея, Михаила, Ивана, Александры). Присутствовали свидетели из Тулы: коллежский регистратор Павел Петрович Щеглов, проживавший на улице Волкова в доме Вознесенской, и коллежский секретарь Петр Петрович Зверев с улицы Фоминской из дома Савицкого заключили "отдельную запись" о том (что Л. Н. Толстой при жизни своей "составил для сих своих детей"), по которой каждому из детей согласно 924 и 996 статей X тома первой части Свода законов Гражданских распределил имение и приобретенную недвижимость, ничего не оставив за собой».
В этот миг Толстой «по своим разным ходам мысли вспоминал о короле Лире», предложив сыновьям прочесть знаменитую пьесу. Прочитали. Но, кажется, не совсем поняли ее пророческий смысл.
Таким образом, Толстой «совершил большой грех», отдав детям свое состояние с лесами, водами и постройками. На старости лет он отошел от семьи в результате нового мирочувствования и иного своего жизне– состояния. Он думал теперь не о людях, а о Боге. Он разочаровался в своем прежнем образе жизни, во всем материальном, сопровождавшем его. Отказался от поместья, авторских прав, предпринял беспрецедентную попытку покончить со своим привилегированным положением, чтобы жить как простой крестьянин.
В последние годы жизни Толстой гордо «лирствовал» среди тишины и молчания в Ясной Поляне. Он находился в плену у одиночества. Уже наметилось четкое противостояние между ним и его домашними. Время отцовства он возвратил с помощью младшей дочери – Александры, сыгравшей в последующей его судьбе роль шекспировской Корделии. Сходств, как видим, предостаточно. Не потому ли Толстой так боялся Лира, как можно бояться только своего двойника? И не поэтому ли он так судорожно хватался, как за спасательную соломинку, за анонимного дошекспировского «Короля Лира» с благополучным его финалом? В дошекспиров– ской пьесе теплилась надежда, которая, как известно, умирает последней. Здесь Корделия не гибнет и возвращает отца в его прежнее состояние.
Толстой был человеком предназначенным. Он боялся заглядывать вперед, предпочитая настоящее будущему. Будущее должно было быть закрыто для писателя плотным занавесом. Но вдруг, не без помощи Шекспира, этот таинственный занавес неожиданно приоткрылся перед ним, не оставив надежды. Именно этого жеста он так и не смог никогда простить английскому драматургу. Толстой, так не любивший тавтологий, никак не желал повторять чью-либо жизнь, пользуясь уже известным готовым сценарием.
Ему ненавистна была любая власть, кроме, пожалуй, одной – власти над самим собой. Но в истории с Лиром
произошло что-то непредвиденное: он потерял ее. А тот, кто лишает себя власти, становится жертвой.
И всё же уход Толстого непостижим до конца, как все великое. Его стремительный побег в неизвестность, как и лохмотья странствующего Лира, по-прежнему остается горьким упреком человечеству за легкомысленную неспособность достойно уберечь гениальную старость.
Лир для Толстого стал самой жизнью. Прочитав эскапистскую пьесу Шекспира, созвучную его убеждениям, он заглянул в свое будущее, как в бездну, и то, что он увидел там, заставило его ужаснуться. Написав статью «О Шекспире и о драме», Толстой не знал, как ее закончить, и оставил место для постскриптума. Через четыре года, 28 октября 1910 года, он навсегда покинул родную усадьбу, устремившись на встречу с вечностью. Его уход и стал недостающим своеобразным постскриптумом к этой статье. Круг замкнулся. Совершив побег из Ясной Поляны, Толстой своим поступком благословил то, что так хотел проклясть.
«Болезнь Лира» была побеждена Толстым. Побеждена с помощью творчества и еще путем «расширения жизни, переступающей границы рождения и смерти».
Глава 20 Постжизнъ
Жизнь в Ясной Поляне отмеряла теперь новый счет – без Толстого. В сороковой день после его кончины вся яснополянская деревня – мужики, бабы, дети – собралась вместе с Софьей Андреевной у могилы писателя, оправили ее, уложили еловыми ветвями и венками. Трижды вставали на колени и пели «Вечную память».
Главное теперь для родных было выполнить завещание Толстого. Софья Андреевна болела. Она – вся в прошлом. Все валилось из рук. Прожив с Львом Николаевичем 48 лет, она никак не могла представить себе, что там, в земле, под этим холмом в лесу Старого Заказа, – он. Чувства одиночества и страха делали бесприютным дом – гнездо, которое долгие годы она вила своими руками. «Одиноко и тяжело», «страшно и будущего нет» —
привычные ремарки ее дневника тех первых лет после смерти мужа.
Смерть Толстого сплотила семью. К матери в это время относились все с особым вниманием. И все же усадьба пустела. Скрашивали жизнь вдовы сестра Т. А. Кузминская, Душан Маковицкий, за кроткий нрав прозванный «Душа Петрович», да Жули-Мули (Ю. И. Игумнова, одна из секретарей Л. Н. Толстого. – Н. #.). Что-то иное помимо воли Софьи Андреевны входило в жизнь усадьбы. Конечно, продолжалась работа над изданием двадцатитомника, и это как-то ее поддерживало. А иное было в том, что приходили посетители, желавшие увидеть могилу Льва Николаевича и осмотреть его комнаты. Как-то приехали 52 курсистки из Петербурга, а однажды появился корреспондент «Русского слова» да с ним целый хоровод паломников, а то вдруг «четверо из Австралии» или даже «один с Кавказа» – «магометанин с венком».
То, что Толстого нет, а к нему едут «со всех концов», поднимало дух. Она отметила благотворное воздействие на нее этого постепенно расширяющегося ручейка посетителей, которых в конце жизни она так и называла – «экскурсанты»: «Иногда бывает приятно чувствовать – особенно в молодежи, любовь к Льву Николаевичу». Этот «ручей» и интенсивная деятельность Толстовского общества все больше укрепляли ее в мысли превратить усадьбу в национальный музей, и уходило чувство бесполезности своего дальнейшего существования. Теперь близкие находили Софью Андреевну «значительно оправившейся после страшного удара, обрушившегося на нее в ноябре 19 Ю года».
Тем временем младшая дочь писателя Александра Львовна всерьез задумалась о намерениях отца поднять уровень «хозяйственного мышления» яснополянских крестьян. Толстой, как известно, внимательно следил за ростками потребительской кооперации в соседнем Рудакове. Но в Ясной Поляне он так и не успел организовать общество, подобное рудаковскому. В 1911 году по инициативе Александры Львовны было открыто «Потребительское общество», в здании которого разместилась и чайная. Организовав это общество, Александра
Львовна надеялась увеличить кредитные возможности крестьянского хозяйства и создать условия для взаимопомощи внутри сельской общины.
Софья Андреевна принялась старательно снимать копии с толстовских рукописей и писем, увлеклась описанием вещей дома, но все равно у нее часто появлялось острое желание «любить грусть». С особым удовольствием она встречала посетителей, показывала им дом, рассказывала о жизни мужа. Ей важно было объяснить им уход Толстого, семейную драму именно так, как знала и понимала ее только она. Самоотверженно и кропотливо работал и Валентин Булгаков, занимавшийся описанием мемориальной библиотеки писателя. Сам он вспоминал об этом так: «Работа была в высшей степени интересная, но в то же время "утомительная". Я проглотил всю накопившуюся с годами пыль из всех 23-х шкафов яснополянской библиотеки и часто, изнывая под бременем библиографии, горько сетовал на свою судьбу, но все же довел описание до конца».
Для вдовы Толстого забота о будущем Ясной была теперь самой важной и самой тревожной. Дом ветшал, зарастал парк, лес вырубался. Хозяйство, которое могло бы еще дать какие-то деньги, разваливалось. Многое в нем теперь потеряло для нее смысл: «Грустно, все разоряется, все приходит к концу, и, главное, прекрасная, прошлая жизнь умерла…»
Усадьба после нее должна достаться людям, миру. Но как и на какие деньги беречь? Как быть с сыновьями-наследниками? Появились неожиданные тревоги: «Вечером нахлынули сыновья… и собирают Илью в Америку продавать Ясную Поляну, что мне и грустно, и противно, и не сочувственно. Я желала бы видеть Ясную Поляну в русских руках и всенародных». Идея сыновей заключалась в выкупе самой усадьбы на получаемые в «цивилизованных странах» деньги и передаче ее в некую «международную собственность». Земли имения предполагалось продать американским промышленникам за полтора миллиона долларов. По сути разыгрывалась очередная вариация «вишневого сада», с той только существенной разницей, что речь шла о нацио
нальном памятнике. Организовался целый синдикат для покупки и эксплуатации Ясной Поляны. Поднялась волна протестов с публикациями писем и статей. В конце апреля газета «Утро Харькова» поместила интервью с сыновьями Толстого, в котором они поясняли свою позицию: «Мы действительно вели переговоры с американскими миллиардерами, но речь шла только о продаже земли, но не усадьбы. Наше общее желание продать все в национальную собственность». Так или иначе, но переговоры о продаже имения иностранцам были остановлены, а обстоятельства эти заставили Софью Андреевну предпринять энергичные действия.
История несостоявшегося выкупа толстовской усадьбы правительством представлена в литературе в весьма упрощенном виде. Между тем она была неоднозначной. В начале мая 1911 года Софья Андреевна встретилась в Петербурге с П. А. Столыпиным, премьер– министром, дальним родственником Л. Н. Толстого. На этой знаменательной встрече Петр Аркадьевич «вполне понял необходимость покупки Ясной Поляны» государством, и 10 мая, по его совету, в Зимнем дворце через знакомую гофмейстерину Елизавету Нарышкину вдова передала обращение к царю с просьбой о приобретении усадьбы в государственную собственность. А уже 28 мая «Русское слово» сообщило о решении правительства выкупить у Софьи Андреевны и ее сыновей Ясную Поляну за 500 тысяч рублей. Это была сумма, запрошенная наследниками. В середине июня в усадьбу из Петербурга и Тулы прибыли чиновники для оценки имущества. Были оговорены условия, по которым С. А. Толстой гарантировалось пожизненное право проживания во флигеле, а по смерти ее и сыновей – погребение рядом с могилой Толстого. Началась было опись вещей дома, в июле приехал землемер, но осенью все вдруг затормозилось. В октябре Софья Андреевна была ошеломлена сообщением в «Русских ведомостях» о том, что «правительство сняло с очереди покупку Ясной Поляны».
Не было ли это каким-либо образом связано с убийством Столыпина, происшедшим в сентябре 1911 года? Еще в мае, беседуя с Софьей Андреевной, Петр Аркадье
вич небезосновательно опасался «церковных веяний». Столыпина не стало, и опасения подтвердились. Имение было оценено в 200 тысяч. Эти деньги при Столыпине предполагалось выплатить через Крестьянский банк, а выплату дополнительных 300 тысяч должно было взять на себя правительство. Но на заседании Совета министров 14 октября обер-прокурор Синода К. Саблер выступил против выкупа Ясной Поляны «за казенный счет» и увековечивания памяти отлученного от церкви писателя. Формально, правда, вопрос остался «открытым», как сообщали те же «Русские ведомости». Но было вполне очевидным, что дело принимало совсем иной оборот. 18 ноября Софья Андреевна предприняла последнюю попытку. Она написала второе письмо Николаю II: «Если русское правительство не купит Ясной Поляны, сыновья мои, находящиеся, некоторые из них, в большой нужде, принуждены будут, хотя с глубокой сердечной болью, продавать ее участками или полностью в частное владение. И тогда сердце русского народа и потомков Льва Толстого дрогнет и опечалится тем, что правительство не защитило колыбели и могилы человека, на весь мир прославившего русское имя… Не дозволяйте бесповоротно погубить Ясную Поляну, допустив продажу ее не русскому правительству, а частным лицам».
В этом письме – все тот же призыв к власти взять на свое попечение уникальный национальный памятник и ультимативный надрыв, порожденный логикой тягостных семейных отношений последних лет и характерный для поступков Софьи Андреевны.
Но машину уже нельзя было остановить. При вялой реакции императора «церковные веяния» вовсю гуляли в залах Зимнего дворца. У сторонника Столыпина министра финансов В. Н. Коковцова. Но у него не было того влияния и авторитета, каким обладал покойный премьер-министр. 20 декабря, просматривая Особый журнал Совета министров, царь на соответствующей странице сделал запись, поставившую точку в яснополянской проблеме: «Нахожу покупку имения гр. Толстого правительством недопустимою». Впрочем, предложил Совету министров обсудить «вопрос о размере могущей быть назначенной вдове пенсии». Вскоре та
кая пенсия – 10 тысяч рублей в год – и была ей выделена. Размер государственной помощи был весьма значителен, если учесть, что примерно с такими пенсиями уходили тогда в отставку высшие чиновники государства. С. А. Толстая послала Коковцову письмо «с благодарностью государю».
Что же касается отказа от выкупа усадьбы правительством, то об этом остается только сожалеть. Случись это, не возникло бы ряда острых ситуаций в жизни яснополянского дома, прежде всего в период 1917–1921 годов и последующие годы. Да и судьбы членов толстовской семьи, к примеру сыновей, могли бы сложиться иначе и более счастливо.
К 1914 году страсти в толстовской семье постепенно улеглись. Теперь, собираясь вместе, больше говорили о постороннем, о жизни в Петербурге или Москве. Не было больше открытых столкновений. Знакомым, приезжавшим в усадьбу, казалось, что в толстовском доме стало как-то проще и даже безмятежнее. Впрочем, Софье Андреевне, на время приезда гостей откладывавшей переписку рукописей мужа, было приятно, когда все собирались в доме. Гости, суета не угнетали. Ей казалось, что «Ясная Поляна опять делается центром, куда все собираются».
Ни она, ни дети больше не встречали молчаливого упрека того, кто так мучился, недовольный собой, и от кого эти мучения, как крути по воде, расходились по всей семье. Теперь можно было не решать какую-то очень трудную и ответственную задачу. Как подмечал Булгаков, «стало возможным жить проще, беззаботнее, эгоистичнее, не ломая голову над разрешением великих проблем о служении людям, о народе, о смерти и бессмертии». Снова играли в крокет или теннис, ездили на лошадях по окрестностям, а по вечерам усаживались за карточные столы.
Между тем младшая дочь писателя занялась подготовкой отдельного издания части писательских дневников. Ее шокировала идея продажи имения американским предпринимателям. Но в юридическом смысле вопрос был сложным: она не являлась наследницей. Когда же «американская история» завершилась безре-








