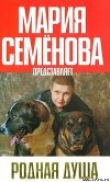Текст книги "Эйфель (СИ)"
Автор книги: Николя Д'Этьен Д'Орв
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 14 страниц)

Никола д’Этьен д’Орв
ЭЙФЕЛЬ
Роман
ПРОЛОГ
Бордо, 1859
Вода была ледяная. Казалось, его тело пронзили тысячи кинжалов, угрожая исполосовать кожу, пресечь дыхание. Холод, когда он достигает предела, становится обжигающим; жгучие языки стужи буквально опалили его лицо – щеки, лоб, губы. Это было так неожиданно, что он невольно открыл рот, куда мгновенно хлынула тинистая вода; он успел ее нахлебаться, прежде чем задержал дыхание. Все произошло мгновенно. Грузный рабочий в башмаках, которые были едва ли не шире хлипкого мостика. Подгнившие доски, скользкие, плохо пригнанные друг к другу. В какой-то миг мужчина свистнул, желая привлечь внимание молодой женщины, проходившей по другому берегу Гаронны.
Миг – и несчастный случай.
Нога скользнула вперед, тело запрокинулось назад, и раздался испуганный недоверчивый вопль – он до сих пор отдается эхом в ушах.
– О, господи! Это же Шовье!
Все окаменели. Однако, порасспроси их кто, каждый стал бы утверждать, что боялся именно такой беды. Да-да, причем с самого начала стройки! Хотя Пауэлс заверял, что строительные леса вполне надежны, никакого риска, а построить этот мост проще простого, детские игрушки. И все поверили. Точнее, всем было удобно в это поверить. Кроме того, Пауэлс щедро платил за работу. Здесь, в Бордо, он считался одним из лучших предпринимателей. Люди гордились, что работают на этой стройке. В газетах писали, что такой мост – целиком из металла! – революционное изобретение[1]1
Железнодорожный мост в Бордо, обычно называемый Эйфелевым пешеходным мостом, – металлический мост, соединяющий набережную Палудате и набережную Дешама на реке Гаронне. (Здесь и далее прим. переводчика).
[Закрыть]. В городских кафе и на улицах прохожие окликали рабочих, чтобы разузнать о нем побольше:
– Ну-ка, что вы нам расскажете?
– Скоро его откроют, этот ваш мост?
Рабочим льстил всеобщий интерес, они чувствовали себя участниками знаменательного события. К тому же и молодой инженер – всего-то двадцать шесть лет! – вдохновлял их своим примером: не жалел сил и времени, приезжал на стройку первым и уезжал последним, самолично закрывая барьеры, как только все уходили. Он бурлил идеями и энергией, этот Эйфель[2]2
Эйфель Гюстав Александр (1832–1923) – французский инженер, специалист по металлическим конструкциям, создатель многих мостов, виадуков, статуи Свободы в США (со скульптором Фредериком Бартольди) и Эйфелевой башни в Париже (1887–1889).
[Закрыть]. Конечно, его фамилия звучит слегка по-немецки, хотя сам он называет себя бургундцем. Впрочем, его подчиненным это безразлично: на стройке не думают о происхождении, главное, чтобы люди честно трудились.
Вот и Шовье работал не за страх, а за совесть. Он был в числе самых увлеченных этим проектом. Эйфель сразу выделил его из общей массы, прислушивался к его суждениям, доверял его врожденному чутью. И не кто иной как Шовье предупредил инженера о ненадежности этого мостка:
– Надо укрепить его дополнительными досками, знаете ли… Хорошо бы сказать об этом мсье Пауэлсу, он ведь тут хозяин.
– Ладно, я этим займусь, – обещал Эйфель.
Увы, его предложение встретило решительный отпор.
– Даже речи быть не может! – отрезал Пауэлс, не дослушав аргументов инженера.
– Но если произойдет несчастный случай, вы первый будете виноваты!
– Да бросьте! Каждый обязан сам заботиться о своей безопасности, дорогой мой. А, кроме того, ответственность за нормальный ход работы лежит целиком на вас. Эта стройка и без того обходится мне дорого. Кстати, хочу напомнить, что вы тут получаете самую высокую зарплату.
Эйфель вернулся к рабочим не солоно хлебавши, но никто не стал его упрекать.
– Ладно, вы хотя бы попытались убедить хозяина, и на том спасибо, – утешил его Шовье.
– Постарайтесь быть осторожнее, ладно, Жиль?
– Да мне-то бояться нечего! – усмехнулся рабочий. – Я не тяжелей миноги.
И надо же было такому случиться: именно он, Шовье, с отчаянным криком рухнул с мостков в реку и скрылся под водой.
Все произошло так быстро, что Эйфель не успел трезво оценить ситуацию. Иначе разве он прыгнул бы следом?
Но инженер бросился в воду, даже не скинув обувь.
В первый момент его парализовал холод, но он собрался, и ему удалось разглядеть в мутной, темной воде Шовье. Им повезло: в это время года Гаронна, как всегда, обмелела. В считаные секунды Эйфель обхватил могучее тело рабочего, который был намного крупнее, чем он, и, напрягшись, оттолкнулся ногой от речного дна. Ему повезло во второй раз: нога уперлась в доску, свалившуюся в реку с мостков в первые дни строительства.
Эйфелю казалось, что их подъем длился целую вечность. Говорят, в такие предсмертные мгновения у человека проносится перед глазами вся жизнь. Однако Эйфель решительно отогнал воспоминания: некогда подводить итоги, поскорей бы всплыть на поверхность, чтоб не задохнуться.
Воздух, ворвавшийся наконец в легкие, причинил им обоим жгучую боль, словно они глотнули раскаленной лавы, которая тут же изверглась вместе с рвотой, едва спаситель и спасенный выбрались на берег.
Их окружила толпа подбежавших рабочих, все хотели помочь им отползти подальше от реки.
Шовье перевернулся на спину и с улыбкой посмотрел в небо.
Эйфель, распростертый на песке, устремил взгляд на рабочего.
– Значит, не тяжелей миноги, да?
Шовье разразился хриплым смехом, хотя его била дрожь.
– Каждый может ошибиться, господин Эйфель. Но я одно скажу: вы герой, настоящий герой.
Гюстав пожал плечами и закрыл глаза. Никогда еще воздух не казался ему таким сладостным.
ГЛАВА 1
Париж, 1886
– Господин Эйфель, в глазах Соединенных Штатов Америки вы настоящий герой!
Какой любопытный акцент… Мягкий, тягучий, а местами вдруг резкий. Эйфель часто размышлял о том, как рождаются акценты. Может, они связаны с местным климатом или рельефом? Может, некоторые гласные более чувствительны к солнцу, а согласные – к дождю? Вот этот американский акцент – не родился ли он от слияния английских, ирландских и голландских говоров? Вполне вероятно, но в таком случае все они легли на язык, который предшествовал их появлению, на некую древнюю структуру.
«Как плоть, облегающая скелет…» – думает Эйфель, глядя на мясистые губы человека, произносящего этот комплимент.
Да, именно так: вот уже полвека он посвящает свою жизнь скелетам, остовам, каркасам, забыв ради них о семье, о любовных похождениях, об отдыхе – забыв почти обо всём во имя этой страсти к костякам. О, конечно, эти «бедренные» и «берцовые» кости выплавлены из металла, из стали. Но разве гигантская зеленая женщина, которая высится перед собравшимися в своей нелепой задрапированной тунике, не истинная дочь Эйфеля – и она тоже?! Ведь именно ему она обязана своим скрытым, никому не видимым остовом[3]3
Франция подарила статую Свободы Соединенным Штатам к столетию независимости. Памятник, созданный скульптором Фредериком Бартольди и инженером Гюставом Эйфелем, был торжественно открыт на острове Свободы в устье реки Гудзон 28 октября 1886 г.
[Закрыть].
– Гюстав, что с тобой? – шепчет Жан. – Ты так смотришь, будто увидел Пресвятую Деву.
– Деву? Недолго же ей таковой оставаться…
Эйфель возвращается на грешную землю, вспомнив, где он находится, перед кем и почему.
Посол Миллиган Мак-Лейн ничего не заметил, он продолжает произносить, все с тем же кошмарным акцентом, свой панегирик перед изнывающими от скуки слушателями в крахмальных воротничках, с нафабренными усами.
«Вы скромно утверждаете, что являетесь всего лишь создателем каркаса статуи Свободы. Но именно эта структура обеспечивает и будет обеспечивать ее незыблемую устойчивость!»
Несколько стариканов оборачиваются и восхищенно взирают на Эйфеля. Ему ужасно хочется показать им язык, но он обещал Компаньону[4]4
Жан Компаньон – помощник и сотрудник Эйфеля.
[Закрыть] вести себя прилично. Тот просто умолял его об этом:
– Гюстав, пойми, это часть твоей миссии!
– Ты прекрасно знаешь, что мне плевать на почести.
– Но не мне, не нам, не «Предприятию Эйфеля»! Если уж не можешь воздержаться ради себя самого…
– …сделай это ради меня! – договаривает его дочь Клер, войдя в кабинет, где он пытается завязать галстук-бабочку. – Дай-ка я тебе помогу, папа, не то ты сомнешь свой крахмальный воротник.
Эйфель – человек простой, не светский. Он всегда терпеть не мог всех этих «придворных» с их пируэтами, интригами в министерских кабинетах и утехами в посольствах.
Но, пожалуй, Компаньон прав: нужно уметь играть и в эти игры. А, кроме того, почему бы не доставить удовольствие своей дорогой дочке?
«Эта статуя устоит против любых ветров и бурь, она будет выситься на своем постаменте и через сто лет!»
– Очень надеюсь на это, кретин! – бормочет Эйфель, достаточно громко, так что Компаньону приходится больно ткнуть его в бок.
Но инженер, шагнув вперед, с улыбкой поправляет, обратившись к послу:
– Больше! Гораздо больше, чем сто…
Весь ареопаг кашляет, чтобы скрыть хихиканье: этот Эйфель остёр на язык.
Гюстав оглядывает публику с притворным добродушием. Немного же ей нужно, чтобы развеселиться…
Дождавшись, когда герой дня вышел вперед, посол подходит к нему с медалью в воздетой руке.
Эйфель удивлен: что ж она такая маленькая? За долгие годы работы он получил кучу всяких наград – государственных, региональных, колониальных; все они свалены в ящик стола, откуда ребятишки обожают выгребать их на третьей неделе Великого поста. Теперь и эта попадет туда же и пополнит коллекцию.
«И только-то – за все это?», – думает Эйфель, повернувшись к «своей» статуе. Но может ли он считать ее своим творением? Ее облик, ее чары, ее взгляд, ее величие – всё это дело рук Бартольди, скульптора. Путешественники, прибывающие в порт Нью-Йорка, отныне прежде всего проплывут перед ней. Она станет первой американкой, которую они увидят. Но кому они припишут ее авторство – скульптору или инженеру? И кто из них двоих художник, истинный ее создатель? Разве искусство не заключается в том, что скрыто от глаз, что никому не показывают? И как назвать все мосты, воздушные переходы и виадуки, построенные Эйфелем за последние тридцать лет, – произведениями искусства или простыми изделиями? Не пора ли ему создать такой костяк, такой каркас, который будет существовать только благодаря ему одному, во славу его одного?! И который станет реваншем и триумфом «костяка»?
Эйфеля привел в себя легкий укол в грудь справа. Уж не нарочно ли посол сделал это? Может, рассеянный вид награжденного заставил его вонзить острую булавку медали в его лацкан глубже, чем следует? Однако американец сделал вид, что ничего не заметил, и Эйфель сдержал гримасу боли.
– От имени американского народа и его идеалов, я присваиваю вам звание почетного гражданина Соединенных Штатов Америки. God Bless America![5]5
Боже, храни Америку! (англ.).
[Закрыть]
– God Bless America! – повторяют хором все присутствующие.
Француз похлопал бы его по плечу. Но посол обнимает Эйфеля и целует в обе щеки. Эйфель съежился: старая немецкая кровь не допускает таких фамильярных проявлений. Решительно, эти американцы чересчур эмоциональны. И, кроме того, этот запах изо рта, о Господи!
«Вы что, лягушек наелись, господин посол?»
Разумеется, он не произнес этого вслух, но как же хотелось…
* * *
– От него так несло чесноком, от этого янки, просто жуть!
– Вот-вот, у тебя это было написано на лице… Надеюсь, больше никто не заметил…
Эйфель обводит взглядом собравшихся – улыбающиеся гости смакуют шампанское.
– Кто, эти? Да они все слепые и глухие…
Какой-то дряхлый академик бросается к Эйфелю и горячо пожимает ему руку, бормоча комплименты, которые отсутствие зубов делает совершенно неразборчивыми.
– Может, и глухие, но не немые, – добавил Компаньон, когда старикашка в зеленом одеянии, пошатнувшись, отошел.
– Ну, ладно, с меня хватит, – заключает Эйфель, направляясь в вестибюль.
– Гюстав, подожди!
– А чего мне ждать? Все эти люди только и умеют, что болтать, а ты прекрасно знаешь, как я ненавижу пустую болтовню…
Но Компаньон не ослабляет бдительности, он боится, как бы поведение Эйфеля не навредило им обоим. Вот уже много лет он сглаживает углы, «подчищает» за ним. Неблагодарное это занятие: ведь он всего лишь его сотрудник, а не хозяин. Но Эйфель не осознает этого. Их дружба – ибо они и впрямь друзья, – зиждется на странном сочетании взаимной зависимости и дружеских чувств. Как у слепого с паралитиком.
Взять хотя бы сегодняшний день: конечно, Гюставу не следовало бы вести себя так развязно. Компаньон предупредил его об этом, когда они поднимались по ступеням, ведущим к дверям посольства Соединенных Штатов на улице Фобур-Сент-Оноре. Там ведь соберется весь высший свет Парижа. Иными словами, будущие заказчики.
– Да не нужны нам эти заказчики!
– Заказчики нужны всегда! Сразу видно, что не ты занимаешься нашими счетами.
– Ну да, именно поэтому я с тобой и сотрудничаю. Для меня цифры – это размеры, а не банковские билеты.
Тем не менее Компаньон прав: нынче вечером под американским флагом собрались все: и власть имущие, и горожане. А это неподходящий момент, чтобы распускать хвост.
– Все только и говорят, что о Всемирной выставке, представляешь? А ведь она состоится уже через три года. Можно сказать, завтра…
Гюстав притворяется, будто не слышит, хватает бокал шампанского с подноса и, отпив, брезгливо кривится:
– Ты заметил? Оно теплое! Нет, решительно, эти американцы…
Компаньон хватает Эйфеля за плечо и довольно грубо запихивает в угол, под старинную картину с изображением городка Кейп Винсент на озере Онтарио. На полотне он выглядит таким же дряхлым и унылым, как призраки, бродящие по комнатам посольства.
Жан указывает Гюставу на высокого мужчину, стоящего к ним спиной: тот нетерпеливо переминается с ноги на ногу, словно куда-то спешит.
– Видишь вон того верзилу? Он из Кэ д’Орсэ[6]6
Так называют Министерство иностранных дел Франции, расположенное на Кэ д’Орсэ (набережная Орсэ в Париже).
[Закрыть]. Говорит, что Фрейсине[7]7
Луи-Шарль де Сольс де Фрейсине (1828–1923) – французский политик и государственный деятель, четырежды возглавлял кабинет министров Франции.
[Закрыть] нужен монумент, который мог бы представлять Францию на Всемирной выставке 1889 года.
– Монумент?
– Да. И они хотят возводить его в Пюто[8]8
Промышленный и жилой комплекс к востоку от Парижа, на Сене.
[Закрыть], у ворот Парижа. Но для этого им придется построить подземную железную дорогу, как в Лондоне. Чтобы поезда проходили под Сеной.
Эта идея наконец пробуждает интерес Эйфеля.
– Так это же хорошо, это просто замечательно!
Компаньон чувствует, что он наконец достиг цели.
– Вот видишь, значит, мы пришли сюда не напрасно! Нужно бы связаться с министерством и предложить им проекты, планы.
– Планы метро? Ты прав. Разузнай-ка это поподробнее.
– Нет, не метро, Гюстав. Планы монумента.
Но когда Эйфель упрется, его ничто не может разубедить.
– Метро – это далеко не новая идея. И кроме того, над проектом метро уже работают другие люди, – добавляет Компаньон.
– Ну и много они там наработали? – спрашивает Эйфель, надевая пальто.
Компаньон вынужден признать, что это ему неизвестно.
Инженер с ухмылкой отдает легкий поклон и машет нескольким гостям, заметившим, что он уходит. Видя, что кое-кто хочет подойти, он, пятясь, выбирается во двор посольства. Компаньон следует за ним, не отставая ни на шаг. А Гюстав уже поглощен мыслями о новом проекте. Метро! Нужно сделать его лучше, чем англичане! Ему уже грезятся туннели, металлические конструкции, весь скелет этого гигантского подземного змея!
– Наведи справки, прошу тебя. Монумент… да кому он нужен?! А вот метро – это прекрасный проект. Настоящий проект!
ГЛАВА 2
Бордо, 1859
Пауэлс не знал, что его разозлило сильнее – несчастный случай с Шовье, отчаянный поступок Эйфеля или собственная скупость, которая едва не привела к трагедии.
Когда он подбежал к «утопленникам», лежавшим на берегу, рабочие отошли в сторонку – то ли с осуждением, то ли из почтения. Все-таки Пауэлс был их хозяином.
– За кого вы себя принимаете, Господи боже мой! Как вы могли броситься в воду?!
Эйфель попытался приподняться, и Пауэлс – скорее непроизвольно, чем по доброте душевной – протянул ему руку, помогая встать на ноги.
– Я предупреждал вас, господин Пауэлс. Будь у нас больше досок, мы бы расширили мостки, и никто не падал бы с них в реку…
Рабочие дружно закивали, хотя не посмели подать голос. Кто его знает, можно ли безбоязненно поддерживать инженера…
– Я вам уже двадцать раз говорил, что не могу выйти из бюджета!
Люди затаили дыхание, предчувствуя схватку. А Эйфель, указав на них, спокойно возразил:
– А я вам говорю, что мне нужны мои рабочие, все до одного…
Пауэлс попал в сложное положение. Он не хотел, чтобы его упрекали в скупости, но, с другой стороны, если сейчас уступить, то бюджет непомерно распухнет. А ведь он тоже обязан отчитываться перед вкладчиками.
Подойдя к Эйфелю, он дружески приобнял его, словно они в гостиной, и прошептал, как заговорщик, указав на Шовье:
– Ну, будет вам, ведь не погиб же он, ваш парень.
А рабочий все еще лежал на песке, глядя в небо и улыбаясь, словно благодарил доброго боженьку за то, что тот подарил ему отсрочку.
Эйфель неохотно кивнул.
– Ну вот и хватит приставать ко мне с этими дурацкими досками.
– В таком случае, я займусь этим сам! – пригрозил Гюстав.
– Вы сами? Еще чего придумали!
Но Эйфель, даже не взглянув на Пауэлса, завернулся в одеяло и пошел прочь.
– Куда вы? Разотритесь, по крайней мере, Господи боже мой! Сейчас неподходящий момент для простуды!
Если бы Пауэлс увидел лицо своего инженера, он обнаружил бы на нем хищную, довольную усмешку. Эйфель любил такие схватки и сейчас был готов вступить в борьбу. Почему бы и нет? Сегодняшний день начался совсем неплохо: он спас утопающего. В сравнении с этим одержать победу над самым богатым человеком города Бордо было легче легкого.
– Эйфель, вернитесь! – крикнул Пауэлс, забыв о самолюбии. – Умоляю вас, не делайте глупостей!
ГЛАВА 3
Париж, 1886
Эйфель любил шум. Не журчание салонных бесед, не шепотки будуаров, а здоровый, бодрый шум большого скопления людей, которые громко чокаются, бахвалятся, галдят. Это напоминает ему атмосферу строек и мастерских. Там люди занимаются непосредственно своим ремеслом, поглощены очередной насущной задачей, стремлением вырвать у небытия нужную массу, нужную форму. То есть хотят сделать реальным, ощутимым то, что он, Эйфель, вообразил. Воображение – вот в чем суть, оно позволяет видеть дальше других, иначе, чем другие. А это возможно только в неумолчном шуме, сменяющем долгий, безмолвный сон вдохновения, которое всегда было для инженера предметом восхищения и ужаса. Пока инженер остается один на один со своими идеями, пока нетерпеливо подстерегает искру творческого озарения, которое подскажет ему первые эскизы, он испытывает страх. Ему чудится, будто он маленький мальчик, что он оказался в сумерках на опушке леса и не знает, с какой стороны появится свирепый волк. Но этот оборотень никогда не появляется. Напротив, именно в тот миг, когда боязнь становится совсем необъяснимой, совсем зловещей, в нем вспыхивает творческая фантазия; он должен достичь дна тревоги, сомнения, чтобы затем всплыть на поверхность, к настоящей, новой идее. Именно поэтому «Предприятие Эйфеля» стало таким, каким его нынче знают, а его хозяин прослыл гением железа, поэтом металла. Да, именно так: железа и металла, что рождаются в оглушительном шуме, в грохоте литейных цехов и кузнечных молотов, под руками рабочих, пропотевших насквозь, насупленных, ни на миг не теряющих бдительности. Да, именно так – в шуме. Снова и опять в дорогом его сердцу шуме. В котором он чувствует себя как дома.
Почему Гюставу так хорошо в цехах, где царят вечные споры? В этих муравейниках, где люди орут во всю глотку, окликая друг друга, задирая друг друга, есть что-то успокаивающее. После разгрома семидесятых[9]9
Война 1870–1871 гг. между империей Наполеона III и германскими государствами во главе с Пруссией, добивавшейся европейской гегемонии, закончилась поражением Франции, которая уступила победителю Эльзас и Лотарингию.
[Закрыть] рабочей силы заметно прибавилось. Сколько эльзасцев нашли убежище в Париже, спасаясь от гидры в остроконечной прусской каске! Они предпочли подавать пиво драгунам Республики, а не солдатам Бисмарка. Шукрут[10]10
Шукрут – традиционное блюдо эльзасской кухни: квашеная капуста с добавлением мяса, колбасы или картофеля.
[Закрыть] будет французским – или его не будет вовсе!
– Прикажете еще кружку, мсье Эйфель?
– Именно! И принесите еще дюжину устриц.
– Фин де Клер?[11]11
Во Франции самыми популярными устрицами считаются Фин де Клер (второе название Фин де Бретань – отборные бретонские). Фермеры выращивают их три года в морских садках, а затем моллюсков помещают в специальные бассейны, откуда отправляют на продажу.
[Закрыть]
– Ну разумеется!
– Заказ принят.
– Папа, ты ведь еще не доел первую дюжину…
– Ну ты же меня знаешь, я всегда беру про запас.
– И не глотай их так быстро, не то подавишься!
– Слушаюсь, мамочка…
Клер недовольно кривится. Она не любит, когда отец так разговаривает с ней. О, конечно, она заботится обо всей семье, но только как старшая дочь и сестра. После смерти матери девять лет назад она стала настоящей хозяйкой дома. Но все-таки пусть не называет ее мамочкой, это уж слишком. И совсем не смешно – ни ей, ни ему. Впрочем, Эйфель осознает свой промах и гладит руку Клер своей рукой с йодистым запахом моря:
– Прости меня, милая… Мне иногда недостает деликатности.
Клер не может устоять перед отцовской улыбкой, ее обида мигом рассеялась. Отец и дочь обожают друг друга. «Эти двое – не разлей вода», – говорят служащие «Предприятия Эйфеля» в Леваллуа-Перре, когда Клер заходит проверить, не забыл ли отец надеть шарф, или приносит ему корзинку с обедом. Гюстав – ее отец, ее идеал, ее идол. Она говорит о нем с неизменным восторгом. «Да ты в него прямо влюблена!» – подшучивают над Клер друзья. Но она лишь пожимает плечами, ее это нисколько не шокирует.
– В каком-то смысле, да. Он – мужчина моей жизни. По крайней мере, в данный момент.
Именно поэтому она и захотела встретиться с ним нынче вечером. И даже сама назначила встречу на бульваре Сен-Жермен, в ресторане «На рейнских берегах», зная, что это излюбленное заведение отца. Ибо она хочет сообщить ему нечто важное, требующее его внимания и одобрения. И лучше, чтобы это произошло в привычной для него обстановке.
– Папа, я хочу сказать тебе…
Эйфель благосклонно поглядывает на дочь, но мыслями он явно далеко. Он заглатывает одну устрицу за другой, втягивая их в рот с вульгарным шумом, который всегда приводил в ужас его супругу. «Гюстав, ты похож на осьминога!» – говорила она, готовая выбежать из комнаты. Клер унаследовала от матери это отвращение, но сегодня ей придется потерпеть: неподходящий момент, чтобы делать отцу выговор.
– А ну-ка, давай, я угадаю, – отвечает он, проглотив очередную устрицу. – Ты решила бросить юриспруденцию ради школы Изобразительных искусств?
– Я хочу выйти замуж…
Клер сама себе не верит: неужели она все-таки вымолвила это?! Все ее тело словно наэлектризовано, но это замечает только она одна. В зале стоит такой шум, что отец не расслышал ни слова.
– Как ты сказала?
Клер заставляет себя улыбнуться и повторяет, отчеканивая каждый слог:
– Я-хо-чу-вый-ти-за-муж.
Эйфель невозмутимо пожимает плечами и надолго припадает к пивной кружке, которую принес официант.
– Ну, разумеется, это когда-нибудь произойдет, – отвечает он, отирая с усов пивную пену. – А пока бери-ка, ешь устрицы! Йод очень полезен для здоровья. И для роста. В общем, для всего.
– Папа…
Неужели отец издевается над ней? Иногда он ведет себя как озорной мальчишка, заслуживающий хорошей порки. Вот тогда он получил бы право называть ее мамочкой…
И Клер готовится снова пойти в наступление, как вдруг около них возникает тень…
Подумать только: Клер рассказала Компаньону, что собирается обедать здесь с отцом, более того: призналась в своих планах, умоляя не раздражать его сегодня. Особенно сегодня, это важно как никогда. Но предают нас самые близкие… Вот уже десять лет, как инженер и бывший плотник работают так дружно, что Жан давно считается членом их семьи. По крайней мере, так думала Клер.
Увы, Компаньон уже не тот добрый дядюшка, каким был прежде. Сейчас он – именно компаньон, притом сильно озабоченный. Не взглянув на Клер, он раскладывает на столе деловые бумаги, прямо на мокрых разводах от устриц и пивных кружек.
– Ты обедал? – спрашивает Эйфель и, не дожидаясь ответа, командует: – Дюжину Фин-де-Клер для господина! – Потом выхватывает газету, которую Компаньон держал под мышкой. – Ну-ка, что там пишут о моей американской медали? Фотографии есть?
– А я думал, тебе плевать на почести.
– На почести – да, плевать. Но не на рекламу. С этим-то, надеюсь, ты не будешь спорить?
Клер съёживается, пока ее отец внимательно просматривает каждую страницу «Фигаро». Компаньон наконец обращает на нее внимание, вспоминает о ее просьбе и притворяется огорченным. А Клер не сводит глаз с отца:
– Папа, мы можем наконец поговорить?
Отец ее уже не слышит: Компаньон протянул ему папку с бумагами на подпись, и он их подписывает, лист за листом.
– Извини, Клер, дорогая, – смущенно бормочет Компаньон, – но ты же понимаешь…
– Конечно, понимаю.
Клер прекрасно знает это правило несокрушимой собранности, которой отец прожужжал ей все уши. «Будьте предельно сосредоточены на том, кто вы есть и что делаете. Никогда не отвлекайтесь от своего занятия, понятно вам, дети?» – «Да-а-а-а, пап…»
Внезапно Эйфель бесцеремонно швыряет одну из бумаг Компаньону:
– С Пуларом тебе нужно будет поторговаться, на этих условиях я платить не собираюсь.
Подписав еще с полдюжины документов, Эйфель откидывается на спинку диванчика, словно атлет после тяжкого усилия; он снова безмятежен и одним глотком выпивает сразу полкружки пива.
Клер уже не хочется продолжать затеянный бой. У ее отца прямо-таки талант портить любую семейную встречу.
Тем временем Компаньон, слегка смущенный тем, что омрачил их ужин, никак не решится уйти и, чтобы не выглядеть трусом, спрашивает Эйфеля:
– А все же: ты подумал о Всемирной выставке? О монументе?
Эйфель пренебрежительно отмахивается:
– Только не начинай всё сначала. Меня интересует метро и только метро.
Он кладет ладонь на руку дочери и командует:
– Клер, скажи ему, что метро – это символ прогресса!
Клер печально и покорно повторяет, как попугай: «Жан, метро – это символ прогресса», но Эйфель не замечает иронии в голосе дочери. Напротив, радостно кивает, крайне довольный ее поддержкой.
Клер съеживается на стуле и, подмигнув Компаньону, добавляет:
– Впрочем, монумент тоже может быть впечатляющим.
Эйфель удивленно смотрит на дочь, а Компаньон подхватывает её фразу на лету:
– Поверь мне, монумент стоит того, чтобы заключить на него договор. Вот на чем можно завоевать репутацию.
Еще одно слово, которое раздражает Гюстава… Репутация – скажите, пожалуйста!
– А ну-ка, объясни мне, какой интерес возводить сооружение, которое ничему не служит и которое придется затем сносить?
– А что, разве оно будет временным? – удивленно спрашивает Клер.
– Ну, каких-нибудь двадцать лет, – бурчит ее отец. – Для вечности – все равно, что секунда.
Компаньон стискивает зубы, но не считает себя побежденным.
– А ты помнишь проект Кёхлина и Нугье?
Эйфель делает вид, будто роется в памяти. На самом деле он прекрасно знает, о чем речь. Та башня показалась ему безобразной донельзя, и он приказал своим подчиненным подготовить другие проекты[12]12
Эйфелевой башня стала позже. Авторами первоначального проекта были подчиненные Эйфеля Морис Кёхлин и Эмиль Нугье. В 1884 г. Эйфель выкупил у них патент и значительно усовершенствовал проект, изменив конфигурацию башни.
[Закрыть].
– Ты имеешь в виду тот торчок, который они уже много месяцев пытаются нам всучить? Надеюсь, ты шутишь?
– Но их башня действительно стоит того, чтобы ты еще разок на нее посмотрел.
Эйфель пожимает плечами.
– Башня… Кому она нужна, эта башня!
– Может, и не нужна, зато видна отовсюду.
Услышав это, Эйфель замолчал и призадумался. Клер встает из-за стола.
– Я вас, пожалуй, оставлю…
Эйфель ласково улыбается дочери.
– Ты уверена, дорогая?
– Уверена… в чем?
– Что ничего не собиралась мне сказать?
Нет, отец действительно невозможен! Как же ей хочется, чтобы мама вернулась из царства мертвых и всыпала ему по первое число!
– Не беспокойся, – бормочет Клер, скрывая свои чувства.
Несмотря на злость, она целует отца, и запах его туалетной воды слегка разгоняет ее обиду. Она даже заставляет себя улыбнуться и бросает напоследок, пробираясь между столиками, заставленными шукрутом и пивными кружками:
– Я потом поговорю с тобой, папа.
– Когда только захочешь, милая!
Клер исчезает за тяжелой вращающейся дверью, Компаньон смотрит ей вслед, но видит главным образом мужчин, которые любуются ее фигуркой, соблазнительным, несмотря на строгий костюм, изгибом бедер. Трое за соседним столиком даже беззастенчиво указывают на нее друг другу пальцами.
– Она очень похорошела, твоя дочь.
– Ты находишь?
– Да, теперь она стала настоящей женщиной…
При этом замечании Эйфель отрывается от своих устриц: он искренне поражен.
– Женщиной? Не может быть!