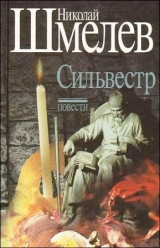
Текст книги "Сильвестр"
Автор книги: Николай Шмелев
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 19 страниц)
Глава VI СВЯТАЯ ЛОЖЬ
Как ни хотелось любимцу царскому Алексею Фёдоровичу Адашеву избежать шума и торжеств по случаю рождения первенца своего, а не удалось. И с отцом Сильвестром сговорился, чтобы крестить наследника не в Кремле, а в маленькой домовой церкви в усадьбе Адашевых на Арбате. И в восприемниках просил быть брата своего Данилу и тихую, робкую жену его, что сама лишь недавно родила, тоже сына. И гостей решено было не звать, отпраздновать сей день лишь в кругу домашних своих, по-семейному, без всяких пышностей и затей.
Да прознали про то царь и благоверная царица его Анастасия Романовна! И вот уже торжественно несут слуги царские в дом Адашевых серебряную купель – дар царя новорождённому крестнику своему, а за ней ларец с ожерельем дивного жемчуга заморского – дар матери его, а за ним короб лубяной, а в нём сорок соболей – то отцу младенца, а за ними и иной всякой рухляди великое множество – то поминки царя окольничему своему Фёдору Адашеву, и сыну его Даниле, и всей Адашевой родне.
И вот уже бежит, толкается, суетится по двору дворцовый служилый люд, расстилая по снегу от самых от тесовых ворот до высокого крыльца шемаханские ковры, чтобы проложить дорогу царственной чете. И вот уже стучат ножи булатные в поварне и мечутся слуги, и ключники, и иные прочие домочадцы по всему дому Адашевых, готовя пиршественный стол, и душа у них обмирает от страха, и гордятся они честию великою, коей удостоил царь – государь московский верного слугу своего и его семью. И уже перекрыла суровая стража царская все пути и проезды на Арбат и на Сивцев Вражек, и уже стоят по всем углам и закоулкам и на самой усадьбе Адашевых государевы стрельцы – кто с пищалью, кто с бердышом, а кто и во всеоружии на коне.
Одно только и удалось Алексею Фёдоровичу: царь приехал сам-третей с царицею своею да с князем Дмитрием Курлятевым-Оболенским,[46] ближним думцем государевым и большим приятелем всей Адашевой семьи. Уважил государь своего постельничего: хоть и любил он сам, властелин державный, пиры раздольные, и песни, и пляски, и скоморохов, и застольный шум, а едучи к Адашевым, приказал он всему своему шутейному воинству и всем ведомым бражникам дворцовым, по всякий день готовым к гульбе, только позови, оставаться по домам да по избам своим и Адашевым не докучать. А может, и не своим умом дошёл он до того, может, и Анастасия Романовна присоветовала то ему.
Тих и задумчив был царь, и тихо стоял он во время службы в маленькой церквушечке, окружённый Адашевой роднёй, и с улыбкой милостивой и кроткой принял он от отца Сильвестра на руки свои новорождённого младенца, с любопытством глядя на его сморщенное, крошечное личико, зашедшееся в крике. И тихо стояла рядом с ним государыня Анастасия Романовна, и не веселие светилось на дивном лице её, а грусть. Кто знает, может, и не о Боге, не о таинстве святого крещения думала она, глядя, как пухлые руки отца Сильвестра опускают крохотное розовое тельце её крестника в серебряную купель. А о том, что неполной до сих пор была любовь её, неполным счастие её женское. Пятый год уж пошёл браку их с царём Иваном, а наследника трону российскому всё нет и нет.
А окрестив младенца, уселись гости и хозяева в большой светлой горнице за накрытый стол. И пировали, и веселились, и беседовали промеж себя о многих больших и малых делах, и шутили, и хвалили хлебосольную хозяюшку за усердие и доброту, и желали всему дому Адашевых добра.
Постарался верный окольничий царский, постарались молодые сыновья его! Чего только не было за тем столом: и вина тонкие заморские, и стерлядь, и белужий бок, и пироги с вязигой, и фазаны, и жареные лебеди, и засахаренные груши, и изюм, и иные многие сладости и печенья, так и таявшие во рту. А первую чашу выпили во здравие государя царя, а вторую во здравие государыни царицы, а третью за новорождённого крестника царского, Андреем наречённого, а потом и за родителей его, а потом уж, бессчётно, за здоровье и благополучие всех, кто близок дому сему, и за славу рода Адашевых, и за всё православное христианство, и за величие державы Российской, да хранит её Господь.
А последнюю чашу царь Иван поднял за учителя и наставника своего, за отца Сильвестра, встав из-за стола и поклонившись ему в пояс:
– Прими от меня, отче, низкий поклон за науку твою и за попечение твоё. И живи, и здравствуй, святой отец, многие лета, и Бога моли за нас, грешных, как молил ты в дни юности и горького сиротства моего. Знаю я о тяжкой доле моей, и знаю я, что одному мне с ней не совладать. Нуждаюсь я в помощи твоей, святой отец. Нуждаюсь я в узде твоей крепкой ради непотребств моих и неистовых моих нравов. Не предавай меня, отче Сильвестр! Не предавай и ты, Алексей, и ты, Данила, и ты, князь Дмитрий… Не предавайте меня! И щедрой будет плата моя за ваше добро…
Странны были сии слова царя! И странно было слышать их в самый, казалось бы, разгар того мирного веселья, что так счастливо и долго царило за этим столом. Тень тревоги и недоумения пробежала по лицам присутствовавших. И не у одного из них в мгновенно замершем от испуга сердце тяжело шевельнулось предчувствие какой-то неясной, но грозной беды.
Что хотел сказать государь? И кому он грозил, кого подозревал, кого пытался удержать подле себя, обещая новые милости и любовь свою? Разве кто-нибудь из сидевших за столом дал хоть малейший повод для сомнений в своей преданности, в своём усердии, в рабской покорности ему? Тогда что же он, властелин державный, затаил у себя в душе? И что задумал он, всемогущий хозяин и жизни, и смерти каждого из них? Или то был просто хмель?
Но не грозны, а светлы и милостивы были очи царя, когда осушил он свой последний заздравный кубок, и улыбался он, и улыбалась царица его. А когда пожелал он, царь-государь великий, посмотреть дом своего любимца, посмотреть собрание его книжное, известное многим на Москве, смятение в сердцах притихших было сотрапезников царя и вовсе улеглось.
Было что показать хозяевам дома сего! Было чем погордиться им. Много диковин и редкостей заморских привёз домой окольничий Фёдор Адашев, когда ходил он послом к турецкому султану при государыне Елене Васильевне Глинской – матери царя. Привёз тогда он, Фёдор, многих мраморных богов языческих из некогда славных богатством и великолепием своим греческих городов; и драгоценную утварь церковную, купленную им на шумных константинопольских базарах или в пришедших в запустение древних православных монастырях; и узорочье богатое; и иконы древнего византийского письма – и Христа Пантократора, и Богоматерь Одигитрию, и Николу Мирликийского, и иных многих угодников и святых; и невиданной красоты ларцы индийские из слоновой кости; и кубки дивного веницейского стекла; и ятаганы турецкие, и сабли дамасские, и шлемы рыцарские, и арбалеты, и пищали малые, ручные, с искусной серебряной насечкой по бокам. И всё то было хранимо в доме Адашевых с любовью и великим бережением. И всему тому немало дивились царь и царица его, и хвалили хозяев, и радовались за них.
А всего больше дивился царь, с малолетства своего любивший и почитавшей премудрость книжную, богатствам библиотеки Адашевых, что Алексей, любимец его, начал собирать ещё в бытность свою вместе с отцом в посольстве в Константинополе. Каких только свитков, каких только книг редчайших не было в той библиотеке! Божественных и светских, на пожелтевшем, полуистлевшем пергаменте или на украшенной затейливой вязью и разводами бумаге, в роскошных сафьяновых переплётах или заботливо перевязанных и перетянутых тесьмой, на старославянском языке, на греческом, на иудейском, по-латыни, на немецком, на французском, по-польски… Много сокровенных дум, много тайн и мечтаний человеческих вместил в себя дом Адашевых! Много горя людского, и надежд, и опыта печального хранилось на тех полках и в сундуках… Так много, что никому, наверное, из смертных не по силам было бы всё то знать. А может быть, и не стоило знать.
Долго, с любовью и волнением, перебирал царь длинными своими пальцами все эти богатства. Долго вглядывался он в диковинные чужие письмена, пытаясь угадать их смысл. Тихо, сдерживая дыхание, стояли вокруг него и гости, и хозяева, опасаясь нарушить неведомое им течение державной мысли. Наконец царь поставил на место какой-то очередной фолиант и с сокрушением вздохнул:
– Нет, Алексей Фёдорович! Ты богаче меня. Такого, что у тебя здесь, у меня в моей казне нет.
– Бога гневишь, государь. Я знаю твою библиотеку: чуть не всю её перебрал руками своими. Поверь, ни одно собрание книжное во всей Москве не может сравниться с ней… Только у тебя всё больше Божественное. А у меня и то, и то.
– Ладно! Божественное, Алексей, – не твоя печаль. На то есть вот он, богомолец наш, отец Сильвестр. А ты… А ты дал бы мне что-нибудь другое, а? О мирском, об иных землях, об обычаях их – что там люди думают, как живут… Не всё же мне, грешному, Богу молиться да Четьи– Минеи читать… Вот это, к примеру, что?
– Доктор Эразмус.[47] Из Роттердама. «Похвала глупости».
– О чём?
– О том, что от века и поныне лишь глупость людская правит миром, государь.
– А! Это, значит, про нас. Про тебя, да про меня, да про народ наш православный, Богом спасаемый… Нет, этого нам не надобно. Этого и так полным-полно на Руси… Ну, а это что?
– Николо Макьявелли, державный царь. Ныне знаменитый во всех странах вельможа флорентийский. А книга его именуется «Государь». Наставление государю своему, великому князю флорентийскому, как и лучших людей, и чёрный народ в узде держать.
– Ну, и как же их держать?
– Умом, и силою, и хитростию, и неверием никому. А главное, пишет он, коли цель твоя благая – все средства хороши.
– Все?
– Он считает – все.
– А ты?
– Я считаю – не все.
– Не все? А какие же, по-твоему, не хороши?
– О том, государь, в Писании всё сказано: что хорошо, что можно человеку, а что нет.
– В Писании, говоришь? Ты прав. Много о чём сказано в Писании… А эта книга, она по-латыни?
– По-латыни, государь.
– Сумеешь перевести?
– Если и сумею, то плохо, государь. Больно затейливо написано. А есть у меня один толмач, государь, сильно грамотный, – он тут, при доме моём, обретается. Коли будет на то твоя царская воля – он переведёт. И хорошо переведёт.
– Твой холоп?
– Нет, государь, он вольный человек. По своей охоте да за жалованье помогает мне… У меня ведь холопей нет, государь. Мои люди – люди вольные. По своей охоте в доме моём живут. Я кабальных своих давно на волю отпустил.
– Всех?
– Всех, государь.
– Всех?! И я об этом не знаю ничего? Что же ты молчал?
– Не гневайся, государь! Прости мне, слуге твоему, невольную вину мою. То не по умыслу, а от небрежения житейского… Не знал я, что это удивит тебя, государь. Ведь уже многие на Москве живут таким обычаем. И давно живут…
– Алексей не один такой, великий государь, – вступился за хозяина дома Сильвестр. – И я своих холопей давно на волю отпустил. И князь Дмитрий, я знаю, отпустил. И другие такие есть…
– И ты? И князь Дмитрий? И другие? И я по сю пору не знаю ничего?
– Запамятовал ты, видно, государь, – не сдавался поп. – Я как-то докладывал тебе. И в «Домострое» я про то тебе писал…
– Да вы что, сговорились?! Князь Дмитрий! А ты что молчишь?
Дороден был князь Курлятов-Оболенский и горд древним происхождением своим от славного в веках государя литовского Гедимина. И было время, когда не склонял он головы ни перед кем, коли знал за собой правду. Да помяла жизнь и его: еле уцелел князь в смутах дворцовых, что раздирали боярство московское в малолетство Ивана-царя. И лишь случаем да, видать, заступничеством святого покровителя своего Дмитрия Солунского спасся он от ярости мятежной толпы во дни падения Глинских. И долго не было ему потом веры от царя, и всечасно молил он теперь Бога за вновь обретённую милость царскую и за новое возвышение своё. Сжалось сердце княжье под взглядом царя, и мелькнул страх в глазах его, спрятанных под кустистыми бровями. Но пересилил князь себя: на миру, как говорится, и смерть красна.
– И у меня кабальных холопей нет, государь. Только вольных и держу.
– Так. Значит, и ты князь. И вы, Адашевы. И ты, отче Сильвестр… А почему?
– Так лучше, государь. И по– Божески, и по-человечески, – ответил за всех Алексей Адашев. – Расходу меньше. А усердия от вольного человека больше.
– А в деревнях твоих?
– А в деревнях оброк.
– И то вам всем во всём выгоднее? Так? Так я понимаю тебя?
– Так, государь.
– И что же: и на конюшне у тебя, и в кузне, и в домашней работе, и в сторожах – все вольные?
– Все вольные, государь.
– Занятно! Занятно, Алексей Фёдорович… Ну что ж, не прогневайся тогда за любопытство моё. Веди нас, показывай, какая у тебя тут жизнь. Может, и я, убогий, что-нибудь нужное в хозяйстве моём сведую тут от тебя… А книгу ту латинскую смотри, Алексей, не забудь! Как уговорились – переведи.
Всю усадьбу постельничего и казначея своего исходил в тот день царь! Всё облазил, всюду побывал. И на конюшне был, и в амбарах, и в работной избе, и в кузне, и в саду, и на погребах, а везде видел лишь одно: порядок, и бережение, и чистоту. И люди Адашевых были все сыты и здоровы, и одеты справно, и взгляд их был весел, и лица приветливы, не измучены. И премного доволен остался царь-государь тем, что видели пресветлые его царские очи. И довольной осталась царица его.
А когда уже возвращались они к возку своему царскому, заметил государь чуть в стороне от амбаров и клетей дворовых одно приземистое строеньице, по самую, казалось, крышу вросшее в снежные сугробы. Да и не заметил бы он его, наверное, кабы не мелькнуло там в дверях чьё-то лицо и не спряталось тотчас же, едва увидев на дворе гостей.
– А там у тебя что? – спросил царь своего любимца.
– Сейчас мертвецкая, государь, – поколебавшись мгновение и потупив слегка взор, ответил Адашев.
– То есть как?
– То холодная изба, государь. По летним надобностям. А сейчас там мертвецы лежат, целая семья. Угорели третьего дня. Да ради такого праздника, государь, не стали их вчера хоронить. Завтра отпоём.
– А в дверях там кто был?
– Наверное, дьячок. Псалмы читает над усопшими…
– А… Ну, нет, туда мы не пойдём… Что ж, благодарствуй, Алексей Фёдорович! И смотри, береги крестника нашего! Придёт время – спрошу я тебя о нём…
Уехал поезд царский. Уехал за ним и князь Дмитрий в своём возке. А как скрылись из глаз царские сани, скрылись последние всадники из охранной сотни, всегда и повсюду сопровождавшие царя, снялась и стража дворцовая, истомившаяся и иззябшая на морозе.
Опустел двор Адашевых. Один лишь святой отец задержался ещё в гостях. Не любил благовещенский поп ни крика, ни гиканья, ни взмахов плетей по головам и спинам почтенных жителей московских, а без этого не обходился ни один выезд царский, ни летом, ни зимой. Тесна была столица российская! Вот уляжется суета, вернётся жизнь на площадях и улицах её в обычную свою колею – вот тогда, помолясь, тронется и он, грешный, благо и некуда теперь ему, смиренному служителю Господа, спешить. Ибо, окрестив дитя, исполнил он уже сегодня долг свой пред Богом и перед людьми, и не грех ему теперь, годов его преклонных ради, и отдохнуть.
– Алексей, – вдруг остановился поп, когда возвращались они вместе с хозяином от ворот к крыльцу. – Нет, не мертвецы у тебя там, в том строеньице. Там что-то иное у тебя… Солгал?
– Догадался, отче? – поднял на него глаза Адашев. – Многое ж ты видишь, отче Сильвестр. Иной раз и то, что не надо бы видеть тебе… Да, святой отец. Солгал. Ради страха солгал. Но не за себя – за царя…
– Страх? Какой страх, Алексей? Что там у тебя?
– Что? А хочешь сам убедиться, отче Сильвестр, – что? Коли не испугаешься – пойдём, покажу…
Не сразу подалась тяжёлая, обитая войлоком дверь, когда толкнулись они в выстуженные морозом сени этого приземистого строеньица, где, по слову Адашева царю, обитали лишь мертвецы. И не сразу глаза и ноздри их привыкли к дымной полутьме, к тому прокисшему, застоявшемуся духу давно обжитого человеческого жилья, которым встретила вошедших большая, но об одно оконце горница, населённая, как оказалось, совсем не мертвецами, а людьми. А ещё вернее – какими-то существами, похожими на людей.
Многое видел в жизни своей поп Сильвестр! Много болезней, и увечий, и ран, и горького убожества людского довелось ему встречать на своём веку. А такого – не видал. По каким же грехам, за какие же такие дела и преступления, Господи, ввергнул Ты этих людей ещё при жизни их земной в ад Свой кромешный, в геенну огненную, в мучения безысходные, превышающие всякую меру страданий и несчастий человеческих?!
Кто они, эти люди? И откуда они? Тела скрючены, вместо лиц – какое-то месиво в страшных наростах, и провалах, и буграх, вместо рук – обрубки, вместо ног – у иного обмотанная в тряпьё культя, а у иного и вовсе нет ничего… Лепра! Проказа гибельная! И лежачие, и ходячие, и сидячие, и дети есть, и глубокие старики, и женщины, не наружностью, а лишь одеянием своим похожие на женское своё естество… То-то прав был Алексей, говоря царю о мертвецах! Истинно, истинно мертвецы ещё при жизни своей!
И содрогнулся поп. И замерло сердце его, когда понял он, куда привёл его постельничий царский. Вскинул поп тревожный, растерянный взгляд на своего провожатого, но ничего – ни испуга, ни отвращения – не увидел он на бледном лице его. Знать, давно уже привык Алексей Фёдорович к зрелищу сему. И давно уже не тяготило и не пугало оно его.
– Мир вам, убогие! Храни вас Господь, – сказал Адашев, перекрестившись на тёмный киот с крохотной неугасимой лампадкой в углу.
– Здравствуй, батюшка Алексей Фёдорович, здравствуй, кормилец наш! Спаси тебя Христос, – прошелестели по избе в ответ нестройные голоса.
Но никто не сдвинулся с места, не приблизился к ним, когда переступили они порог сей обители смерти. Лишь умолкло жужжание прялки под низеньким оконцем, да оборвался мерный стук сапожного молотка, что зажал в беспалой, расщеплённой в кости руке своей длинноволосый парень с вытекшим глазом, пристроившийся на полу, да ещё запнулся на полуслове дребезжащий старческий голос в углу под лампадой, что-то читавший вслух. Одна лишь девочка лет пяти с пока ещё чистеньким, но, если вглядеться, уже тронутым болезнью личиком, улыбаясь и лопоча что-то своё, подбежала было к ним. Но рука Адашева даже не успела коснуться льняной её головёнки, как одна из женщин, видно, мать её, оттащила девочку назад и усадила рядом с собой на скамью.
– А что Иван, старец праведный? – спросил Адашев. – Как он, жив ещё? И в памяти ли?
– Жив, жив, боярин! Жив он, кормилец ты наш, – зазвучали голоса. – Он без тебя не умрёт, он тебя ждёт… Утром ещё был в памяти. Вон он на полатях – может, спит, а может, так лежит…
И правда: в тёмном углу за печью, укрытый лоскутным одеялом, лежал и смотрел на них весь почерневший, ссохшийся старик. С головы на окостеневший лоб его свисала слипшаяся от пота седая прядь, в груди его что-то клокотало, беззубый, широко разинутый рот хватал и не мог ухватить воздух. И если бы не лихорадочный блеск глаз, вряд ли в могиле череп его как-нибудь отличался бы от того, чем была сейчас его голова. Болезнь обглодала старика до самых костей, не оставив ему ни носа, ни бровей, ни даже, казалось, кожи на щеках.
– Здравствуй, Иван, – сказал Адашев, склоняясь над стариком. – Узнаёшь меня? Видишь, я попа тебе привёл. Будет кому за тебя Бога молить.
– Спаси тебя Господь, боярин, – с трудом, задыхаясь, прохрипел ему в ответ старик. – Только поторопился ты… Я не сегодня, я завтра помру… Завтра, как солнышко сядет, так и помру…
– Откуда ты знаешь, дед? На всё воля Божья. И никому её не дано знать.
– Знаю, боярин. Знаю… Я долго жил… Я много такого знаю, чего не знаешь ты…
– Ну, а коли знаешь, тогда самое время и о душе подумать. Исповедуешься, причастишься, душу свою очистишь от греха… Далеко ведь ты собрался, дед. И нелёгок туда путь…
– Мне не в чём исповедоваться, боярин. Нет на мне греха…
– Так не бывает, дед. Все мы грешны перед Господом нашим. Все мы в ответе перед Ним…
– Вы – да… И ты, боярин, грешен. И поп, что пришёл с тобой, тоже грешен. А на мне нет греха… А за что мне кара сия, болезнь моя чёрная, и за что страдания мои, и за что покарал Он малых сих, безвинных перед Ним, что приютил ты, боярин, у себя… То я у Него спрошу. А не Он у меня…
– Прими святое причастие, сын мой, – не выдержав, всё-таки вмешался хранивший дотоле молчание Сильвестр. – Отложи гордыню свою. Отложи гнев, и мятеж в сердце твоём, и словеса богохульные твои. Ибо не дано нам знать промысел Его, и не нам судить о Нём… Смягчись, гордый человек! И забудь об обидах твоих. Со смирением и покаянием должно встретить всякому христианину конец свой в юдоли его земной. И воздастся тогда ему по вере его…
– Нет, святой отец… Ступай себе с Богом. Не утруждай себя… Не надо мне причастия церковного. И не тебе, поп, понять меня, не тебе быть заступником моим пред Господом нашим Исусом Христом… Вон Евфимий, старец убогий, там сидит. Он из наших. Он меня и причастит…
Старик замолчал. Молчали и сожители его. И долго длилось то молчание, нарушаемое лишь потрескиванием фитиля в лампадке да тяжкими, от вздоха до вздоха, хрипами у старика в груди.
– Ну, раз так, Иван Егорыч, значит, так тому и быть, – сказал наконец Адашев. – Ты вольный человек. И не мы, а Он тебе судья… Скажи только: покойно тебе? Боли не мучают? Может, вина прислать для облегчения или иного чего?
– Спасибо, боярин, спасибо, милостивец… Не надо вина. Ничего мне теперь не надо… Ноги, ноги мои горят! Ноги жжёт огонь дьявольский… Ах, в воду бы их… Вели, боярин, воды ушат принесть… Может, хоть полегчает чуть-чуть…
Кивком головы Адашев приказал сидевшим в молчании на лавке бабам принести воды. Когда же они втащили из сеней большой ушат с плавающими в нём поверху льдинками и поставили его у полатей, Адашев скинул с себя кафтан, закатал по локоть рукава и, чуть приподняв невесомое тело старика, привалил его к стене. Затем, опустив исхудавшие, в язвах, со съеденными болезнью ступнями ноги его в ушат, он вытащил из кармана какую-то тряпицу, смочил её и осторожно, двигая рукою сверху от колен к голеням, стал обтирать их, стараясь как можно меньше нажимать на лопнувшую в иных местах кожу. Движения его были ловки, сноровисты – видно, это всё было ему не впервой.
Пока Адашев делал своё дело, глаза старика были закрыты. Сведённые судорогой черты лица его смягчились, дыхание выровнялось – похоже, что огонь в ногах от студёной воды и вправду начал стихать. Один лишь раз, когда Алексей всё же чуть сильнее, чем следовало, нажал на какое-то особо болезненное место, старик застонал, но сразу же смолк.
Наконец Алексей вытер ноги старика насухо и, вновь приподняв его, уложил на спину на постель. Старик молчал – казалось, он начал засыпать. Но когда Адашев уже было повернулся, чтобы уходить, он застонал опять:
– Боярин…
– Что, Иван Егорыч? Или всё ещё жжёт?
– Нет, не жжёт. Отпустило… Спаси тебя Христос, благодетель ты наш… Завтра… Завтра, боярин, приходи. Перед заходом солнца… Я тебе ещё не всё сказал. Я тебе последние свои слова не сказал… Вижу я жизнь твою, боярин. Далеко вижу… Многие люди московские будут Бога молить за тебя, за правду и милосердие твоё. Но тяжек твой крест. И велика жертва твоя… А я… А я знаю, боярин, как обойти тебе твою судьбу. Пусть и под самый твой конец. Не она тебя сломит, а ты её. Коли послушаешь меня… Приходи завтра, боярин. Как солнце начнёт садиться. Я хочу проститься с тобой… А попа с собой больше не бери…
Не сразу потом пришёл благовещенский поп в себя от виденного, и долго ещё сидели они в молчании в доме Адашевых с Алексеем Фёдоровичем вдвоём. Одно, что и сделал постельничий царский, возвратясь из смертной той избы, – вымыл руки и ополоснул лицо своё тёплой водой из кувшина, что принесла ему одна из сенных девушек. Да ещё переменил кафтан свой на лёгкую душегреечку, отороченную собольим мехом.
– Не боишься, Алексей? – спросил наконец Сильвестр. – А если она прилипчива, немочь та чёрная?
– Боюсь, святой отец. Как не бояться? Оттого и царя отговорил туда ходить… Правда, сказывали мне знающие люди ещё в бытность мою в Царьграде, что-де редко когда проказа пристаёт к лекарям, пользующим её… Да кто ж то может доподлинно знать?
– А коли не знаешь, чего ж судьбу испытываешь? Ты же не один, у тебя семья…
– Все мы, отче, под Богом ходим. И сам ты знаешь: ни един волос не упадёт с головы человека без воли Его…
– Всё так, сын мой. Знаю. Не упадёт… Да зачем тебе здесь-то, у себя на дворе, страсти такие устраивать? Ну, деньгами бы пожертвовал, приют бы где устроил, коли уж душа так за них болит… А самому в это вязаться? Ноги им обмывать? Ох, боюсь, Алексей, что то гордыня твоя великая! Выше меры людской хочешь стать, выше всех нас, грешных, вознестись… Так? Или я не прав?
– Нет, отче. Не прав… То не гордыня, то иное что-то. А что – и сам не сумею тебе сказать… Кабы не случай, ведь и ты бы, отче, про строеньице то не прознал… Нет, то дело между мной и Богом, а не между мною и людьми… А за служение моё убогим тем кому-кому, а не тебе бы, отче, мне пенять. Сам-то ты как живёшь? Скольких людей ты из рабства выкупил, скольких от смерти голодной спас, скольких пригрел, скольких приютил? Так что ж ты удивляешься, что я десяток-другой прокажённых у себя на дворе прячу? Совесть и у меня, отец святой, есть. Я ведь тоже Бога боюсь…
– Я, Алексей, другое дело. Я человек Божий. На мне сан. И что мне Господь не простит – тебе простит… Ты в миру живёшь. Молись и кайся, греши и снова кайся – какой ещё с тебя спрос?
– Какой, отче? Такой же, какой и с тебя. Только ты с Господом напрямую говоришь, а мне ещё и с самим собой надо договориться. А это, сам знаешь, иной раз потруднее, чем с Ним…
Лукавил благовещенский протопоп! Конечно же лукавил он, мудрый змий, испытывая юного друга своего… Долго жил поп на свете, и много сил душевных, много слёз и упований потратил он в своей жизни зазря, пытаясь достучаться до людских сердец. Оттого-то и детей своих духовных учил поп всё больше не прямо, а как бы заходя со стороны и взывая более к житейской выгоде их, чем к искре Божией в окаменевших их сердцах. И оттого-то и царя прибрал он к рукам не столько увещеваниями и призывами к милосердию, ибо бесполезны были они, сколько «страшилами своими детскими» да ещё расчётом выгод и блага его державного, коли сумеет он, царь, обуздать неистовый свой нрав.
И как же было не радоваться ему, старику, ему, священнослужителю вечностоящей церкви Христовой, видевшему столько горя и алчности людской вокруг себя, что не за монастырской стеной и не в потаённом лесном скиту, а посреди моря житейского, в самом средоточии людских страстей и пороков, ещё теплились, оказывается, милосердие и сострадание к ближнему! Истинно, истинно: одним праведником деревня держится, а одним мучеником – весь род людской! И не погибла ещё Русская земля, коли жива ещё совесть в ней! И не к пропасти, а к правде пойдёт смиренный и богопослушный народ её, коли поведут его и впредь такие вожди, как сей бледный, суровый юноша, поставивший превыше всего для себя милосердие и долг – долг, смягчённый милосердием, и милосердие, утверждающее долг.
Храни тебя Господь, Алексей Фёдорович! И да пребудут вечно с тобой чистота твоя, и целомудрие душевное, и щедрость, и снисхождение к малым сим. И доколе крепка вера в сердце твоём, и доколе видит взор твой горе человеческое и небезразлично оно тебе – власть твоя людям не страшна!
…Уже стемнело на дворе. Уже отзвонили вечерню у Николы на Песках и по другим арбатским церквам. А двое ближних советников царских, правивших державой Российской заодин, все никак не могли подняться из-за стола…
Нелегка служба царская! Всё дела да дела, да заботы, да сидение – то у царя в Верху, то в думе, то в Челобитной избе у Чудова монастыря, то по приказам царским. А так посидеть, потолковать вдвоём, дать отдохнуть душе – всё недосуг да недосуг.
– А если боюсь я, отче, прокажённых тех и, бывает, сам не рад затее моей, а всё-таки иду к ним? Как считаешь, это ложь? А коли ложь, то перед кем: перед Богом или перед собой? – спрашивал Алексей.
– Ложь, сын мой, – отвечал ему поп. – И перед Богом ложь, и перед собой. Но не перед людьми! То святая ложь, Алексей. И без этой лжи миру бы не стоять, и людям друг с другом не жить, а давно бы погибнуть всем по грехам своим.
– А как ты думаешь, отче, было ли святое Евангелие словом Божиим лишь к избранникам Его? Или к простому всенародству, неповинному в тяжкой жизни и печалях своих земных? И может ли когда-нибудь царство и жизнь человеческая, обыденная, устроиться по заповедям евангельским или то одна лишь мечта? – спрашивал Алексей.
– Может, сын мой! Верю, что может. И ты, я знаю, тоже веришь, только страшишься сомнений своих. А ты не страшись – без них тоже нельзя, – отвечал ему благовещенский протопоп, глядя с улыбкой ласковой и кроткой на юность его…
А за окном, за высокой оградой усадьбы Адашевых, спала Москва. И не было ей никакого дела до того, кто там, какие мудрецы пытались угадать её судьбу. И не знала она, да и не хотела знать, что кто-то, измученный собственной совестью и состраданием к людям, взывает к Богу, прося благословения и милости Его всему всенародному христианству: и чёрным людям, и лучшим, и старым, и малым, и вдовам убогим, и последнему бродяге, заночевавшему где-нибудь в поле, в чужом стогу.
И может быть, – кто знает? – в самом неведении том и было её счастие. Много обещаний, много заверений жарких и искренних слышала Москва на своём веку. И давно уже не верила она никому. А жила как живётся, не заглядывая в завтра и не поднимая головы от земли – в суете, да в толкотне, да в злобе и заботах сегодняшнего дня.
А может быть, в неведении и неверии том и была её погибель.






