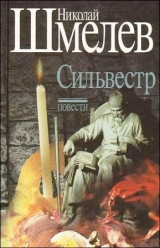
Текст книги "Сильвестр"
Автор книги: Николай Шмелев
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 19 страниц)
Глава VII КРЕМЛЁВСКИЙ МЯТЕЖ
Свершилась наконец воля Божья! Свершилось то, чего ни много ни мало – три столетия ждала Русская земля. Пала Казань.
От века в век, из поколения в поколение грабили и пустошили поганые святую Русь, и уводили в плен великое множество жителей её, да не из одних лишь украинных земель, а бывало, что и из-под самых стен Москвы. С незапамятных времён и в городах, и в сёлах стращали русские люди детей своих злым татарином, что, аки тать, крадётся в ночи. А стращая, молились всем святым, чтобы оно и вправду не обернулось так на следующее же утро, ибо набег тех диких орд, и визг их, и крик, и свист безжалостных плетей ожидались повсюду в Русской земле во всякий день и во всякий час. И уж не чаяли люди московские, что придёт наконец день, когда услышит Господь молитвы их… Ан день этот всё-таки пришёл!
Вся Москва от мала до велика высыпала 29 октября 1552 года встречать царя, возвращавшегося из казанского похода. От самого села Тайнинского и от Яузы-реки вплоть до Сретенки, и до Лубянки, и до стен древнего Кремля стояли по обе стороны царского пути многотысячные толпы московичей. Никогда прежде не видела Москва такого ликования народного. И никогда прежде не знала она столь восторженного единения всех обитателей её в радости, и славе, и гордости за Отечество своё – и простого всенародства, и белого духовенства, и чёрного, и всех лучших людей.
«Дивен Бог творяй чюдеса!» Лишь его, Всевышнего, промыслом, да счастием юного царя, да усердием воевод его отважных – Александра Горбатого-Шуйского, Михаилы Воротынского,[48] Андрея Курбского,[49] Василия Серебряного и иных преславных военачальников, да ещё трудами великими, и кровью, и мужеством всего воинства российского погибла Казань. И не подняться больше ей, гнездилищу сил сатанинских, никогда – и ныне, и присно, и во веки веков!
Толкались, пересмеивались, переминались с ноги на ногу люди московские, горя нетерпением увидеть царя и славу его. И был в той толпе всякий человек соседу своему ближний друг и брат, и позабыли люди в сей великий час и заботы свои, и вражду, и вечный страх перед жизнью и тайнами её. И даже московские воры и те отложили до времени дерзостный их промысел, страшась нарушить праздник в душе своей и опечалить ближнего своего. А буде кто в простой простоте своей шепнёт на ухо соседу какую нелепицу, вроде того, что будто бы царь в осаде той казанской оказался робок и малодушен и всё больше на коленях стоял перед иконами, а не татар поганых воевал, то и такого шептуна бездельного не хватали, не тащили по начальству, а лишь шикали да отмахивались от него: дескать, будет тебе зря пустое молоть, али Казань не взята? А коли кому мало и Казани в свидетельство милости Божией на нём, венценосце державном, так что ж тогда сказать про рождение долгожданного наследника его, царевича Димитрия, что всего две недели назад отметила колокольным звоном вся Москва?
А когда показался у стен Сретенского монастыря пышный поезд царский, повалился весь московский крещёный люд на колени, как один. И взревело, застонало, заголосило великое многоголосье народное. И многое множество простёртых в самозабвенном восторге рук всплеснулось над толпой. И закружились, заметались над куполами и колокольнями московскими тучи трепещущих крылами своими голубей.
Блажен тот, кого сподобил Господь увидеть сей день вечной славы России, день великого торжества её! Юн, и весел, и величествен был царь в золотых одеждах своих, восседавший на белом как снег скакуне. И печальны были лица царственных пленников его, что, окружённые толпой бритоголовых татарских мурз и князей, пешие следовали за ним. И блистали оружием, и доспехами воинскими, и дивной красотой горячих коней своих чиноначальники царские и верная стража его. И высоко над толпой развевались на ветру древние, омытые многою кровью христианской хоругви славных его полков. И не было видно конца длинной веренице повозок и телег, просевших под тяжестью золота, и серебра, и шёлков, и кованых сундуков с иным разным добром, добытым воинством российским в том смертном бою.
А навстречу царю двигалась другая процессия – Макарий– митрополит с иконой Владимирской Божьей Матери в трясущихся от старости и волнения руках, а за ним высоко вознесённый над головами людскими Животворящий Крест, а за ним архиепископы и другие иерархи церковные, и архимандриты, и игумены, и белое священство, и черноризцы смиренные из многочисленных московских монастырей. И возносились ввысь, к престолу Небесному, древние их хвалебные гимны и песнопения, и плакали, и крестились святые отцы, и возглашали осанну царю и всему боголюбивому православному воинству – спасителям и избавителям народа христианского от плена египетского и многовековых мук его.
А когда сошлися царь и митрополит, и принял царь святое пастырское благословение от возлюбленного отца своего духовного, и обнялись, и облобызали друг друга они, и возблагодарили Господа, и сказали склонённой ниц, замершей в благоговении толпе приветственные слова – пуще прежнего возликовали люди московские, воистину поверив наконец в долгожданное избавление своё. И много радостных слёз было пролито в тот славный час на улицах и площадях Москвы, в толпе народной. И до самых врат Успенского собора в Кремле сопровождала царя громокипящая радость его счастливых подданных, и перекатывалась волна за волною по всему его царскому пути, и растекались потом тихими, журчащими ручейками по московским улицам и переулкам – и по высоким боярским хоромам, и по домам купеческим, и по убогим избёнкам чёрного народа, и по настежь открытым в тот день московским церквам.
Три дня пировала Москва! Три дня угощал, и чествовал, и бессчётно дарил царь в древних палатах кремлёвских верных сподвижников своих. Много злата-серебра, много кубков фряжских, и оружия, и бархатов и шуб собольих, и коней, и поместий обширных было роздано в те дни – и митрополиту, и всему священству российскому, и воеводам царским, и дворцовым чинам, и простым воинникам, кто ранен был или прославился в битвах тех яростных и страшных у неприступных казанских стен. А на четвёртый день повелел царь великий заложить у Фроловских ворот кремлёвских девятиглавый храм Покрова Богородицы в ознаменование победы русского оружия над извечным врагом России – Казанской Ордой. И вновь собралась вся Москва на торжественный молебен в честь того дела великого и Богу угодного, и вновь на коленях благодарили Господа и царь, и митрополит, и все жители московские за неизречённую милость Его, и молили Его о даровании тишины, и покоя, и безопасной жизни державе Российской на вечные времена.
И дивился тогда, в те счастливые дни, народ московский, приученный к вечным смутам, и несчастиям, и нестроению людскому, сколь мирной и покойной могла быть жизнь. Ни врагов ниоткуда не видать, ни про мор и голод не слыхать, и не грабит никого никто, и в Пытошную избу не волочёт, и привоз товару всякого отовсюду обильный во все дни. А люди смотрят весело, и в гости друг к другу ходят без опаски, и дети рождаются здоровые, и пьянство лютое, отчаянное поутихло, и смерть прибирает лишь тех, кто по старости и дряхлости своей давно уже ждёт её. И царь спокоен, и слуги его милостивы, и человека вроде как и не неволит никто.
Жить бы так и жить людям московским в богоспасаемом граде Москве вечно! В тишине, и любви, и трудах усердных, Бога славя да царя своего благочестивого, и радуясь жизни, и не опасаясь ниоткуда себе беды… Да не дремлет Сатана! Не дремлют силы адовы: горше нет для него, для дьявола, зрелища, чем покой человеческий, и хитёр он, и дерзостен, и изобретателен в кознях своих. А человек слаб – и духом и телом, и нет ему иной защиты от козней лукавого, от когтей его алчных, кроме молитвы смиренной к Господу. Да всегда ли она, молитва та, до Него дойдёт?
И полугода не прошло сей жизни счастливой, как разразилась над Москвой новая беда.
Занедужил вдруг царь. То ли квасу хватил после бани чересчур студёного, то ли сколдовали его злые колдуны, напустив из дальних урочищ лесных, из убежищ своих тайных порчу гибельную, то ли опоили его, самодержца российского, свои же слуги каким-нибудь зельем заморским. А кто опоил, каким злодейским обычаем – попробуй то узнай.
Ещё утром был он, венценосец державный, бодр и весел, и шутил с царицею своею, и таскал по комнатам дворцовым младенца-сына своего спелёнутого, наследника своего долгожданного, смеясь и подбрасывая его на руках. А к вечеру слёг. Да так слёг, что пришлось звать к нему попа: горел царь, и задыхался, и стонал, и метался в горячке огненной по постели, то и дело теряя сознание и вновь приходя в себя. Билась в слезах, и молилась, и ломала руки царица Анастасия Романовна, видя заведённые глаза, и оскаленный рот, и смертный пот на челе юного супруга своего. Толкались, суетились у царского одра насмерть перепуганные лекари дворцовые, то пуская ему кровь, то прикладывая ко лбу и к груди его холодные примочки, то пытаясь разжать его плотно стиснутые зубы и влить в них очередную ложку какого-то известного лишь им одним целебного снадобья. Вздыхали, качали бородами ближние бояре царские, братья царицы – Данила да Никита Романовичи да Василий Михайлович Захарьины-Юрьевы, рассуждая вполголоса, откуда такая напасть и что ещё надо было бы предпринять, чтобы отвести сию нежданно-негаданно свалившуюся на всех беду… А царь, очнувшись на мгновение и вновь проваливаясь во тьму, твердил одно: «Попа! Попа мне… Душу спасти…»
Послали за Сильвестром. Мужествен и твёрд был духом своим наставник царский, и привык он всего ожидать от судьбы. Но и он дрогнул, и он замер, поражённый, увидев безжизненное тело царя, распростёртое на постели, и осознав, что, похоже, и вправду кончается он, самодержец российский, в расцвете сил и юности своей. Трясущейся рукой перекрестил поп царя, прошептав что-то, не слышное никому, и понурил седую голову свою, дивясь неисповедимым путям Господним… Долго стояли вкруг постели умирающего царя братья Захарьины и благовещенский протопоп. И долго длилось молчание их, нарушаемое лишь сдавленными рыданиями царицы Анастасии Романовны, в бессилии и изнеможении уткнувшей простоволосую голову свою в неподвижные колени царя. Наконец государь открыл глаза:
– Худо мне, отче… Отхожу… Пришёл мой час…
– Положись на Господа, царь… Ты молод, силы твои велики… Не должно, сын мой, никому из смертных терять надежды. Как пришла она, болезнь твоя нежданная, так и уйдёт…
– Нет, святой отец. Знаю, не подняться мне уже… Лишь на то уповаю я, грешный, что есть еше время для меня принять схиму… Ионой… Ионой назовите меня тогда – слышишь, Сильвестр?
– Воля твоя, государь. А мы все слуги твои.
– Но это ещё не всё, отче Сильвестр… Не могу я уйти, не устроив царство своё… Что в духовную записать? Кому власть, кому венец свой передать? Нуждаюсь в совете твоём, святой отец…
– На всё воля царская твоя, государь. Как скажешь ты, так тому и быть.
– Не крутись, святой отец… Хотя бы перед концом моим близким, прошу тебя, не крутись… Сыну моему, младенцу сущему, и матери его, царице моей благоверной, блюдя обычай российский? Или брату моему возлюбленному,[50] князю Владимиру Андреевичу, мужу зрелому и властному? Или ещё что присоветуешь? А, Сильвестр?
– Не знаю я, государь… Не знаю. Поверь мне, убогому… Сам посуди: мыслимое ли то дело мне, смиренному служителю церкви Христовой, мешаться в такие великие дела? Как наставит тебя Господь – так и поступай…
– И вновь прошу, вновь молю тебя, отче: перестань петлять… Не крутись, не до того сейчас… Как быть мне, святой отец? С чем предстану я пред Господом моим? И какой ответ дам Ему в долге моём царском, в державе моей, Он же, благий, вручи мне её?
– Иване, Иване… Сын мой духовный! Или не видишь ты, что не по силам мне, недостойному, ноша сия? Зачем понуждаешь меня? Зачем возлагаешь на меня бремя решений властных, не подобающих ни сану, ни худородству моему?
– Негоже говоришь, святой отец… Нехорошо говоришь… Или не ты был пастырь и наставник мой во всех делах моих, мало не со дня воцарения моего? А теперь? Бросаешь меня?
– Нет, государь! Нет! Коли так… Коли так, то дозволь мне тогда, смиренному, молитву сотворить здесь, при постеле твоей? Дозволь воззвать к Господу – может, просветит Он меня?
– Молись, отче… Молись… Я подожду… Бога зову в свидетели: без совета с тобой волю свою последнюю я не оглашу… И духовной моей не подпишу…
И упал благовещенский поп на колени перед лампадою, пред ликом Господа нашего Исуса Христа, что висел в углу царской опочивальни. И осенил себя размашистым крёстным знамением, и воздел очи свои горе. А перекрестившись, уронил поп многодумную голову свою на грудь, и прикрыл веки, и затих, погружаясь в сокровенные тайны своего сердца и уходя от мира сего мятежного к иным, горним мирам.
Молча, сдерживая дыхание, смотрели на него все, кто был в царской опочивальне, – и братья Захарьины, и лекари дворцовые, и сама царица, привставшая в тревоге и смятении с постели умирающего супруга своего. Лишь один царь, казалось, был безразличен ко всему. Откинутая в изнеможении голова государя недвижно покоилась на подушках, и бессильны были длинные, за один лишь день до синевы исхудавшие руки его, вытянутые вдоль одеял, и лоб, и остро вздёрнутый кверху кадык его были мокры от пота. Но мутные глаза царя оставались раскрыты, и по лёгкому дрожанию их век можно было понять, что царь в памяти и тоже ждёт, на что наставит верного богомольца его Господь.
Что мог сказать повелителю своему благовещенский протопоп? А вернее, что должен был он сказать? И какова она, воля Господа? И какова она, воля державного царя? А самое главное– как лучше будет оно для Русской земли, коли и вправду не сегодня-завтра призовёт Всевышний питомца его пред светлые очи Свои?
Не готов был поп к такому испытанию. И не думал он никогда, что настанет в его жизни день, когда придётся ему отвечать на столь великий и страшный вопрос. И застонал, и заметался поп в горькой тоске, качая седою своею головою и кладя один за другим земные поклоны до самых до дубовых половиц…
Что может хотеть царь? И что может быть в той духовной? Одно из двух. Либо престол российский наследует первенец царя царевич Димитрий, пеленочник малый и беспомощный, а правительницей при нём до совершеннолетия будет государева вдова, царица Анастасия Романовна, либо передаст царь престол двоюродному брату своему, князю Владимиру Андреевичу Старицкому, мужу славному и воинскою доблестью и умом своим высоким, государственным, а царицею при нём будет мать его, богомольная княгиня Евфросинья. И сомнения нет, что царь хотел бы в согласии с московским обычаем оставить трон прямому наследнику своему. Но тут есть опасность для блага державы Российской, и опасность та воистину велика! Не Анастасия Романовна будет править, а лихие и алчные братья её, бояре Захарьины. И вельможество российское конечно же не потерпит их над собой, и оттого будут на Руси опять несогласие в людях и мятеж. Но таких же бед и несчастий должно ожидать, коли царём станет Владимир Андреевич, только мятежной стороной тогда будут Захарьины, и вся их многочисленная родня, и все могущественные московские роды, близкие к ним. И как бы ни был достоин по добродетелям своим царского венца князь Старицкий, не миновать и при нём раздоров, и смуты, и великого нестроения в державе Российской. А что оно означает – не раз уже видели то люди московские, и не дай им Бог снова увидеть его…
«Господи, просвети! Господи, яви мне волю Свою! – молился поп. – А если не то и не то? А если Мономахов венец младенцу, а правителем при нём до прихода его в совершенные лета – государев брат? Вестимо, ни Захарьины тогда не будут сыты, ни Владимир Андреевич доволен… Но как же иначе избежать смуты, и шатания, и произвола многих сильных на Руси? Захарьины как были ближе всех к трону, так и останутся, и вся сила, и все богатства их будут при них, только править не будут. А Владимир Андреевич будет многие годы владеть и править самовластно и блюсти государство Московское твёрдою рукой: светел он, князь, мыслию своею, и благочестив, и о благе державы всечасно радеет. Так неужели нельзя его уговорить не искать царского венца, обязав крёстным целованием и строгой заповедью церковною хранить волю царя?… Ах, перережут, перережут они, окаянные, друг друга!.. Перережут? Могут перерезать. А могут и нет. И если всем всё растолковать, всех примирить и обязать всех святым крёстным целованием под страхом проклятия в жизни вечной жить друг с другом в согласии и любви – не может же быть, чтобы не поняли они, лучшие люди земли Московской, что есть свет, а что есть тьма? И в чём их долг, и в чём их спасение по Бозе и по совести своей?… Но примет ли умирающий царь выбор сей разумный? А если не примет? А если последним мановением перста своего велит бросить его, попа бестолкового, его, слугу своего недогадливого, псарям? Господи, спаси! Господи, сохрани меня от гнева его!»
Бледен был поп, когда поднялся он с колен. Но ещё более того побледнели лица царицы и братьев её, когда услышали они слова его дерзостные и поняли, что предлагает он.
– Предал, дедушка?! И мужа, и меня, и сына моего? А я так верила тебе! – только что и могла, всплеснув руками, вымолвить царица, поражённая таким неслыханным отступничеством. – И кого?! Ближнего друга и покровителя духовного своего!
– Ты что, поп, рехнулся? Что ты несёшь? Или перекупили тебя Старицкие? Или жизнь твоя надоела тебе? – стеной надвинулись на него, и зашумели, и затрясли кулаками братья Захарьины, горя негодованием против умысла сего коварного, что обрекал их на милость Старицкого князя и ведомой всем суровостью и властностью своею старухи – матери его.
И был крик, и была брань великая в царской опочивальне, у постели умирающего царя. Будто забыли братья царицыны, что близится, близится для царя час великого таинства Божия – смерти его безвозвратной здесь, на земле, и ухода его в жизнь вечную. И будто забыли они, что должно всякому христианину со смирением, и покаянием, и со вздохами печальными встречать приход её, куда бы ни явилась она – в хижину убогую или в чертоги царские. И будто забыли они в гневе и злобе своей неистовой о присутствии главного лекаря дворцового и помощников его, коим не должно было знать ничего из великих тех и тайных дел, что вершатся у государя в Верху.
Тихо плакала в неутешном горе своём царица, прислонившись к смертному одру царственного супруга своего. И ругались, и грозились братья её, требуя от попа отречения от его бездельных, изменнических слов. А поп упрямился, и возражал, и перечил им, пытаясь убедить могущественных и грозных своих противников, что всё то будет во благо не только державе Российской, но и им же самим.
А царь… А царь молчал. Глаза его были закрыты, обострившиеся черты лица неподвижны, и можно было подумать, что сознание вновь покинуло его. Но нет, царь был в памяти и слышал всё, что происходило у постели его.
Вся жизнь его недолгая, все печали, и радости, и несбывшиеся мечты промелькнули в те краткие мгновения перед ним в лихорадочном, воспалённом болезнью его мозгу. И жаль ему было себя пронзительной, горькой жалостью, и не хотелось ему, юному, умирать, и сжималось сердце его в тоске и тревоге за младенца-сына и любимую жену свою. Что будет с ними, горемычными, когда покинет он их? И что будет с державой его, коли пресечётся в ней прямой корень царский, и прервётся связь времён, и вместо твёрдого, освящённого Богом и обычаем порядка опять воцарится в ней многомятежная воля народная, не знающая ни удержу, ни узды в гибельных страстях своих?… Господи! Господи! Почто Ты оставил меня? Почто отвратил лик Свой светлый от раба Своего? Неужто и вправду грехи мои выше меры Твоей? Помилуй мя, Господи! Помилуй и прости… Видно, и впрямь велика вина моя пред Тобою, коли попустил Ты быть раздорам, и дележу, и брани сей у одра моего, пока я ещё жив…
– Зовите дьяка Ивана Висковатого… Духовную писать, – открыв глаза, прошептал наконец помертвелыми губами своими царь. И сразу смолкли возбуждённые голоса споривших, и опять установилась в опочивальне царской тишина. – Да зовите князя Ивана Мстиславского[51] и князя Владимира Воротынского – быть им душеприказчиками моими… И спасибо тебе, отче Сильвестр, за прямоту твою. Вижу, что ничего ты не утаил от меня, что было на душе твоей. Но… Но тебе, отче, советовать, а мне решать… А воля моя последняя царская такова, и вам всем, и всему вельможеству московскому, и всей державе Российской крест целовать на ней: трон наш царский, великими предками нашими нам завещанный, оставляем мы законному наследнику нашему царевичу Димитрию Иоанновичу. А государыне царице нашей Анастасии Романовне быть при нём правительницею, доколе не придёт он, царь Димитрий, в совершенные лета. А вам всем, боярам и ближним людям нашим, наследника нашего и мать его оберегать, и слушаться во всём, и служить им прямо и бесхитростно, по всей правде, и душу, и живот свой положить за них, коли придёт в том нужда… Да пошлите не мешкая за боярами и за всеми думными людьми, чтобы ехали тотчас же сюда, во дворец, крест целовать по воле моей. А ко кресту их приводить душеприказчикам моим, князю Ивану да князю Владимиру, а при них быть дьяку Ивану Висковатому с духовною моею. А сам я, немощи моей и близости смертного часа моего ради, выйти к ним не могу. Сил моих больше нет… Да не забудьте послать за князем Владимиром Андреевичем! Пусть и он целует крест наследнику моему, царевичу Димитрию… А теперь оставьте меня с царицею моею. Я устал…
Но и посылать ни за кем не надо было. Уже давно бояре, и епископы, и иные чиноначальники московские, прослышав, что умирает государь нежданною смертию, толпились в передних палатах дворца. Были тут и седые, старые слуги государевы, служившие ещё отцу покойному его, и новые люди, возвысившиеся лишь в новые времена. Были и те, кого держал царь на отдалении от себя, и самые близкие к нему, делившие днями и ночами заботы и думы царские у него в Верху.
И всяк, кто бы ни был в час тот скорбный у дверей царской опочивальни, думал лишь об одном, забыв о делах и заботах своих: что происходит там, за этими дубовыми дверьми? Как он, что с ним, с государем великим? И неужто верен он, тот слух о близкой кончине царя, что с быстротой молнии, за полдня, разнёсся сегодня по Москве?… Вот отворились двери опочивальни, вот пробежал оттуда с безумными глазами ещё один лекарь царский… Вот вынесли лохань с кровью – видно, жилы отворяли царю… А это Иван Висковатый, дьяк, с чернильницей и свитком прошёл в опочивальню. Неужто духовную велено писать?… А это братья царицыны все трое вышли. И поп Сильвестр с ними. И с князем Иваном Мстиславским, и с князем Владимиром Воротынским говорят… А это аналой зачем-то притащили, и Святое Писание, и распятие на нём… Так, значит, правда? Значит, ко кресту будут приводить? Новому царю присягать? А кто он, тот новый царь? Пеленочник малый или Владимир Андреевич князь?
А когда огласил дьяк Иван Висковатый зычным голосом своим последнюю волю царскую, совсем замешались бояре и чины дворцовые, не зная, как им по той воле быть. Обычай, конечно, обычаем, да как присягать малому мимо старого? Вестимо, воля царя есть воля Бога! И не должно всякому христианину по вере его иметь хотя бы малого сомнения в том. Но что ждёт их, лучших людей московских, и семьи их, и вотчины, и должности, службою усердной добытые, коли присягнут они младенцу несмышлёному, в пелена завёрнутому, а на деле-коварным, и вероломным, и властолюбивым дядьям его? Ах ты, Господи… И откуда она, по каким грехам напасть сия негаданная? И что сулит державе Российской, и вельможеству, и народу её многострадальному эта новая беда?
И не успел дьяк Висковатый окончить чтение той духовной, как разгорелась в ближних людях царских вражда. Загудели голоса под сводами дворцовыми, замахали кулаками, затрясли бородами бояре, и схлестнулись в яростном споре и брани сосед с соседом и брат с братом, забыв в гневе своём про всякое благочиние и приличествующую месту и часу сему печальному тишину. Много горьких и злых слов, и укоризн, и обвинений в измене, в забвении долга и блага государственного прозвучало тогда в толпе взволнованных, взбудораженных государевых слуг, сгрудившихся у царских дверей. И много застёжек затейливых и узорочья заморского поотрывали бояре и князья друг у друга с кафтанов в горячке спора и возбуждения. И много досады учинили они умирающему царю, ибо даже тяжёлые дубовые двери царской опочивальни не могли заглушить от него их крик.
А накричавшись вдоволь, разделились бояре и чины дворцовые надвое.
Одна, большая часть пошла ко кресту и целовала крест царевичу Димитрию, благословляя волю царскую и отдавая себя и детей своих на милость Бога и государя во всём. И был первым среди них набольший боярин и сродственник царский князь Иван Фёдорович Мстиславский, а за ним князь Владимир Иванович Воротынский, а за ним Иван Васильевич Шереметев, и Михайло Яковлевич Морозов, и трое братьев Захарьиных-Юрьевых, и Иван Фёдоров-Челяднин, и князь Дмитрий Палецкий,[52] и иные многие бояре, и князья, и думные люди царские. А последним, соблюдая древний чин и порядок российский, подошёл к кресту постельничий царский, окольничий Алексей Фёдорович Адашев, не проронивший ни слова во всех спорах тех жарких – то ли по молодости и невысокому достоинству рода своего, то ли по иной какой причине, ведомой лишь ему.
А не пошли ко кресту тоже люди великие и в державе Российской известные. Не пошёл гордый князь Владимир Андреевич Старицкий со всеми боярами своими, не желая служить пеленочнику малому и его родне. Ибо был князь государю двоюродный брат, и по древней старине российской, а не по обычаю князей московских, все права на престол были его, как старшего в царствующей семье. Не пошёл князь Иван Михайлович Шуйский, и князь Пётр Щенятев не пошёл, и князь Иван Турунтай-Пронский, и князь Семён Ростовский, и князь Дмитрий Оболенский-Немой, рассуждая, что негоже грудному младенцу быть царём, а царём должно быть князю Владимиру Андреевичу и по чести, и по добродетели, и по воинским доблестям его. Но что особо поразило многих – не пошёл и Фёдор Григорьевич Адашев, отец любимца царского: этот-то почто заартачился? Али мало ему, худородному, милостей царских? Али мало ему чина боярского, что был обещан уже ему? Или так просто не пошёл, спроста, по стариковской дурости своей?
Не удержался князь Владимир Воротынский, душеприказчик царский, коему велено было приводить вельможество московское к кресту, попрекнул злыми и непочтительными словами князя Владимира Андреевича в гордыне и мятеже его. Взвился Старицкий-князь в ответ, побагровел от гнева, слыша такие укоризны дерзкие себе:
– Как смеешь ты, холоп, браниться со мной? Кто ты такой, чтобы распоряжаться здесь, у трона державы Российской?
– Смею! Смею, князь! – отвечал ему Воротынский. – Смею не только браниться, но и драться с тобой, коли придёт нужда. То не прихоть, а долг мой, усердного слуги моих и твоих государей, Иоанна и Димитрия! И не я, а они повелевают тебе исполнить последнюю волю господина твоего… Не станешь целовать крест – пеняй, князь, на себя! И виноватых в судьбе своей потом уж не ищи…
И снова вспыхнули в древних палатах дворцовых брань и многоголосье великое – между теми, кто целовал крест царевичу Димитрию, и теми, кто целовать его не хотел. Гулко, страшно звучали за дверьми опочивальни ожесточённые, охрипшие от крика голоса спорящих. Словно вновь подкатилась к самому царскому порогу та волна мятежа и гнева народного, что столь памятна была царю со дней юности его. И не выдержал умирающий царь того крика, и, как ни был он немощен и слаб, повелел он, самодержец российский, позвать пред очи свои государевы главных зачинщиков смуты и неповиновения в людях своих-князя Владимира Андреевича, да князя Ивана Михайловича Шуйского, да старца того строптивого, отца постельничего царского Фёдора Григорьевича Адашева.
Печальное зрелище открылось им, когда ступили они, ослушники воли государевой, на порог царской опочивальни. И если бы не знал каждый из них царя со дней его младенческих, может, и не узнали бы они его – до того исхудал царь за недолгие часы болезни своей, до того истончилось, и обострилось, и помертвело лицо его, и до того беспомощен и жалостен был он, венценосец державный, неподвижно простёртый на одре своём среди скомканных подушек и одеял.
– Брат… Брат мой возлюбленный… – задыхаясь, и тоскуя, и борясь со слабостью своею, прошептал, увидев их, государь. – Почто упрямишься? Почто предаёшь и сына моего, и царицу мою, сестру твою? То грех великий, брат! И взыщется он на тебе…
– Нет, Иван, – отвечал ему с твёрдостью пышущий силой и здоровьем Старицкий-князь, чья голова мало что не доставала до потолка низенькой царской опочивальни. – За державу Российскую болею. За неё страшусь. И младенцу бессловесному присягать не могу…
– Вижу, вижу, что ты задумал, брат! Трона моего ищешь? Сам державою моею владеть хочешь, мимо наследника моего? Бойся Всевышнего, брат!
– На всё воля Божья, государь. А мне пеленочнику несмышлёному не служить. – Что ж… Бог тебе судья, брат. Он, Всевидящий рассудит нас с тобой… Ну, а ты? А ты, князь Иван Михайлович? Ты, верный наш слуга, кому привык я доверять, как себе? Ты-то почто бунтуешь? Чем прогневили мы тебя?
– То не бунт, государь, – смутился славный честью и заслугами своими князь Шуйский, слыша не брань, не властный окрик себе от царя, а лишь жалостный человеческий стон. – Воля царская твоя для меня свята! И сам знаешь, никогда не перечил я ни матушке твоей покойной, ни тебе… А только невместно нам, Шуйским, присягу ту принимать от Мстиславских да Воротынских! Мы Рюриковичи, а они кто?
– Они душеприказчики мои, князь… А коли так, коли при них не хочешь – целуй крест при мне… Только всех других с собой не веди. Сил моих на то нет… Ну, а ты, Фёдор Григорьич? Ты, обласканный мною сверх всякой меры? Ты, отец ближайшего подручника моего? Ты-то как посмел?
– Посмел, государь! Посмел, потому что не гораздо учинил ты по воле своей! – затряс седою головою старый Адашев, не смиряясь, а лишь сильнее ожесточаясь на укоризненные те слова царя. Видно, уже прощался он, упрямый старик, с миром сим бренным, и не о выгоде житейской, а о правде вечной скорбела его душа. – Тебе, государь, и сыну твоему царевичу Димитрию усердствуем мы повиноваться во всём. Но не Захарьиным-Юрьевым! А ведь то они, не иные кто, будут властвовать на Руси именем младенца бессловесного, коли и вправду призовёт тебя Господь к Себе. А мы, сам знаешь, уже испили во дни малолетства твоего всю чашу бедствий от правления боярского, и алчности, и беззакония их. Не должно то опять повториться на Руси. Не должно!.. А посему лучше было бы, если бы написал ты в духовной не только сына своего, наследника трона российского, но и законного правителя при нём. А иного достойного правителя, кроме брата твоего Владимира Андреевича, в государстве твоём нет…






