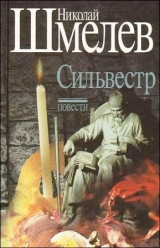
Текст книги "Сильвестр"
Автор книги: Николай Шмелев
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 19 страниц)
Платили! И долго будут ещё платить. Оттого-то и живёт везде русский человек по-скотски, в вечном страхе, и раболепии, и горькой нищете, что всяк на Руси ненавидит прежде всего соседа своего, и его и считает виноватым во всём, и никогда не простит никому, кто либо делает, либо думает что по-своему, не так, как все.
Кому помешали Матюша и товарищи его? Чем ущемили они гонителей своих? Ну, Бога вместе искали истинного. Ну, Писание читали и толковали, бывало, по-иному, с пристрастием, не закрывая глаза на иные тёмные в нём места. Ну, хотели, чтобы во храме Божием молящиеся не мучились, не стояли на одеревеневших от усталости ногах до скончания службы, а сидели бы на скамьях, как сидят они везде в иных христианских землях. Кому от этого было худо? Царю, государству, церкви Христовой, народу русскому? Да никому! Никому не было худо. А вот вцепились всей стаей и растерзали невинных, аки звери хищные! Нашумели, накричали, настращали людей, чтобы и впредь никто головы своей не смел поднять от земли, и опять… И опять погрузились в вечную свою дремоту.
Но не одну лишь печаль – и радость тоже испытывал поп. А всё ж таки удалось ему, хитроумному, отстоять любимую икону свою! Не попустил Господь свершиться чёрному делу, отвёл руку, дерзнувшую было посягнуть на святая святых, на образ Пресвятыя Богородицы, покровительницы всех страждущих и скорбящих на Руси…
А ведь, по сути дела, прав был дьяк Иван! Прав! Много соблазну было в сей маленькой иконке для суровой и подозрительной души русского человека. Не зря так ругательски ругался дьяк, не обмануло старого упрямца собачье его чутьё… Слишком тёплой, слишком живой была Пречистая на этой иконе, и чересчур уж материнским, небожественным состраданием к людям светилось её лицо. И слишком уж земным, прямо-таки наяву пахнущим тёплой детской кожей и материнским молоком был младенец у неё на руках… Прав был дьяк: не писали так раньше на Руси! Это в иных, дальних странах завели теперь такой обычай: мешать в одно Божеское и человеческое и понапрасну тревожить душу смертного пустыми надеждами на избавление от страха жизни и страданий его ещё здесь, на земле.
Понапрасну? А, собственно, почему? Где, в какой священной книге, в каком Божественном откровении сказано, что сие человеку не дано? Земной поклон тем двум псковским мастерам, да и тем, кто навёл их на эту мысль: Бог, и Сын Его Небесный, и Владычица Матерь Божия – то не страшные немилостивые судии человеку, брошенному от века на произвол судьбы и погибающему от собственной беспомощности и гибельных своих страстей, а вечные сберегатели и горние заступники его, радующиеся каждому доброму деянию и каждой удаче его в устроении жизни нашей на земле.
Спору нет: и Андрей Рублёв, и Феофан Грек, и Дионисий великий писали не так. Ввысь, к Богу, к Свету несказанному и непостижимому рвалась их душа.
И омерзительна была им земная жизнь со всей неправдою, и грязью, и жестокостью её. И лишь в Небесах, у престола Всевышнего, искали они надежду и спасение, презирая всё, что было, что есть и что будет с человеком в юдоли его земной… Но так ли оно, люди добрые? Прислушайтесь к сердцу своему! Может ли человек от рождения и до смерти жить в исступлении, проклиная свой земной удел и уповая лишь на жизнь вечную? Может ли он забыть, что зачем-то ведь послал его Господь на землю, и отдал ему её во владение, и заповедал ему жить на ней в трудах и любви? И вовсе не мачеха ему земля, а мать родная, вспоившая и вскормившая его. И не проклинать он должен жизнь свою на земле, а благодарить Создателя за милость Его неизречённую – возможность жить и быть.
Нет, не ересь это псковское письмо, православные, не зловредное новомыслие! И не гордыня то сатанинская людей, возомнивших себя равными Богу, как шумел тогда, тряся бородой, государев дьяк. Не гордыня то, а стон истомившейся, исстрадавшейся души человеческой. А в стоне том – надежда: либо Господь приблизится к человеку, вняв наконец его мольбам, либо человека приблизит к себе. И не когда-нибудь, не в день Страшного Его Суда, а ещё здесь, на земле.
«Помилуй мя, Господи! – шептал, припав лбом к холодному каменному полу, поп. – Открой мне волю Свою! Твоей ли тайною или недомыслием людским повелось так от века, что не приемлет мир лучших сынов своих и исторгает их из себя? И что означает сие, что обрёк Ты их, товарищей моих, на муки смертные, а меня пощадил? И долго ли мне, убогому, нести на плечах моих ношу мою, или и для меня уже где-то готов топор палача?…»
Но не только богомольный поп, а и государь Иван Васильевич после скончания сидения того соборного не пошёл к себе. Отпустив синклит церковный, государь сначала подозвал Алексея Адашева и о чём-то долго расспрашивал его. А потом, окружённый стражей с факелами, спустился он, государь великий, по потайному ходу из Грановитой палаты вниз, в дворцовые подземелья, осторожно ступая по склизлым каменным ступеням и опираясь на плечо верного постельничего своего.
Долог был царский путь по этому подземелью, сквозь мрак и могильный холод его. Сто ступеней вниз, то и дело задевая за сырые, вырубленные в известняке стены его, потом площадочка и ещё одна потаённая дверь, а потом по узкому длинному проходу, где идти можно было лишь в затылок друг другу, согнувшись и держась за идущего впереди, и где плескалась под ногами вода, и шарахались от идущих крысы, и то и дело хрустели под сапогами кости тех, кто нашёл здесь последнее своё успокоение, Бог весть, сколько лет, а может быть, и веков назад… А когда кончился наконец этот узкий лаз, открылось перед ними в чадящем свете факелов низкое, но просторное помещение, вроде большой пещеры, с узкими, забранными решётками клетушками вдоль стен. Это и была тайная государева темница, куда бросали лишь важных государственных преступников. Отсюда их и таскали до суда на пытку в Пытошную избу, сюда же, в эти клетушки, и кидали их после суда, кого на голый пол, кого, получше, на соломенную подстилку для верности приковав, однако, и тех и других ещё и цепью к стене.
Как ни таил царь свой приход, а его уже здесь ждали. Успевший привыкнуть к подземному полумраку глаз царя сразу отличил в толпе стражников, выстроившихся с факелами вдоль стен, кучку людей, одетых во всё чёрное, во главе с низкорослым, косая сажень в плечах бородачом, в руках у которого была большая связка ключей, надетых на кольцо. Заметил государь и его тусклый, из-под мохнатых бровей взгляд, и низкий лоб, и его тяжёлые волосатые руки, заткнутые за кушак.
Поймав на себе взгляд царя, бородач низко, в пояс, поклонился ему.
– Ты кто? – спросил царь.
– Коломенский дворянин Григорий Лукьянов сын Скуратов-Бельский, великий государь.
– А по должности кто?
– Состою при Разбойном приказе, государь. А ведать мне велено твою, государя великого, тайную тюрьму. И ослушников твоих царских стеречь, и смирять, и поблажек им никоторые не давать.
– А ты небось даёшь?
– Нет, государь, не даю.
– А если попросит кто, худого здоровья али близости смерти ради, от цепи отковать – откуёшь?
– Такого при мне ещё не бывало, государь. То дело несбыточное.
– А Матюша Башкин где у тебя, Григорий Лукьяныч, сидит? Охота мне у него про одно рассуждение его спросить. Да без свидетелей; наедине.
– Не прогневайся, государь, но того нельзя. В беспамятстве он, да так, что ни кнутом не разбудить, ни водою не отлить… Больно уж усердно отделали его в Пытошной избе. Думаю, день-два ещё, больше не проживёт…
Тень досады и неудовольствия исказила лицо царя. Дурачьё, костоломы. Спрашивается, к чему тогда было и утруждать себя, продираться сюда сквозь подземный лаз, да ещё тайком от всех? Но делать нечего… Царь фыркнул и повернул было назад. Но чей-то отчаянный, надрывный вопль, вернее, даже не вопль, а вой, вдруг вырвавшийся из одной из этих клетушек вдоль стен, остановил его.
– Царь! Царь! Отпусти меня! Я погибну здесь! А какая вина на мне? Почто держишь меня в цепях, почто казнишь?
Тотчас же зазвенели цепи и в соседних клетушках, и заскулили, и завыли оттуда, сливаясь в хор, горестные голоса других узников, взбудораженных тем одиноким воплем. Подземелье загудело, заволновалось, стража схватилась за мечи, но Скуратов взмахнул рукой– и всё затихло.
– Это кто? – спросил, переборов охвативший его было испуг, царь.
– Ивашко Пересветов, служилый человек, – ответил Скуратов. – А почто он здесь, мне, государь, неведомо. Не я его сюда определил.
– Царь! Царь! – продолжал вопить несчастный из своей клетки. – Я тебе писал! Я тебе добра хотел! И ты послушал меня! А потом вдруг – в кандалы и сюда? За что?!
– Алексей! – обернулся царь к Адашеву. – Это он мне тогда челобитную писал?
– Он, государь.
– Как он здесь оказался?
– За что кричит, за то и оказался, государь… После той челобитной определили его, по твоему указу, на твою государеву службу. И жалованье ему дали, и деревеньку добрую в поместье нашли. А он пропил всё и опять в долговую яму попал. А там стал кричать, что он царю-де ближайший друг и что он скажет, то царь-де и сделает… Теперь он здесь. Чтобы не кричал.
– А здесь не унялся – тоже кричит?
– Кричит, государь. Лекарь говорит: в разуме повредился, теперь уж до самой смерти не перестанет кричать. Одного лишь Григория Лукьяныча и боится, А его нет – опять кричит.
– Царь! Царь! – продолжал надрываться челобитчик царский, хватаясь исхудалыми руками за решётку и звеня кандалами на ногах. – Он зверь! Он человечью кровь пьёт! Прогони его! Малюта лютый, Малюта зверь – вот ужо государь голову тебе снесёт! А меня воеводой пожалует – я ему писал!
И опять сжатые губы царя скривила гримаса досады и раздражения. Отвернувшись, он процедил Адашеву сквозь зубы:
– Мог бы и распорядиться, чтоб больше не кричал. Власть у тебя на то есть…
– Да ведь нет на нём вины, государь, – тихо, побледнев, ответил Адашев. – Он теперь Божий человек., Что с него возьмёшь?
– Ну да! Он человек Божий, а тебе, мол, царь, что? Брань на вороту не виснет… И много ещё у меня здесь таких друзей, Григорий Лукьяныч?
– Этот один. Другие, государь, сидят тихо.
– А знаешь, Григорий Лукьяныч, что хотел я спросить у Матюши Башкина? Он, вестимо, еретик, а всё ж, бывает, и еретики не все врут… Знаешь, чему он людей своих учил? Да и на дыбе повторял? «Умер-де кто, то умер, по то место и был…» А? Что скажешь на то, мой слуга, темницы моей государевой начальник?
– Скажу, государь, то же, что и он: по то место и был.
– Ну, тогда прощай, коломенский дворянин Малюта Скуратов-Бельский! Да смотри, сидельцев своих береги. Нет перед Богом у них теперь другого заступника, кроме тебя. А мне и ближним людям моим в дела твои мешаться недосуг…
Возвращался царь прежним же путём. Незачем было знать ни ближним людям царским, ни простому всенародству московскому о душевных слабостях царя и мягкосердечии его к ослушникам своим. Сроду никогда не бывал он, государь великий, в этом подземелье! Так чего ради его на сей раз туда понесло? Али на душе саднит? Али неправое дело свершил сегодня Освящённый Собор при его, царя, участии?
Нет, и так много всякой мути и смятения в умах на Москве! Пусть себе спит она, не ведая ни о чём… Мир праху твоему, Матвей Башкин! И мир праху твоему, служилый человек Ивашко Пересветов! Но коли уж умер – то воистину умер, по то место и был человек. А живым должно и дальше жить.
Глава X ЛИВОНСКАЯ ВОИНА
Велик и славен первопрестольный боголюбивый град Москва – воистину третий Рим, четвёртому же Риму не бывать, пока стоит мир! И велико, более всех иных именитых царств и земель царство Московское. И велик, и светел, и всемогущ царь и государь всея Руси, и нет на всех пространствах земных иного царя, кто был бы равен ему в блеске и силе его самодержавной власти, и богатстве его казны, и неустрашимости его войска, и в смирении и послушании его подданных.
Где ещё, в свите какого иного чужеземного властителя было бы сразу четыре царя? Шиг-Алей-царь,[61] да Дербыш-Алей-царь, да царь Симеон, он же крещёный казанский царь Едигер,[62] да взращённый в Москве царь Александр, в младенчестве своём тоже царь казанский Утемиш-Гирей… А сколько царевичей знатных и князей владетельных гарцевали на горячих своих конях вкруг московского царя, когда он выступал во главе войска своего в поход, или стояли, служа ему, вдоль стен Грановитой палаты, когда Москва принимала великих послов из иных славных земель и царств? Казанские, астраханские, ногайские царевичи, царевичи и князья из Иверской земли, из Черкас, из Чечни и Кабарды, из Шемахи и Дербента и из иных многих ближних и дальних стран, добровольно поддавшихся под высокую руку белого царя, уповая на защиту и покровительство его. А уж о прямых потомках великокняжеских родов, идущих от Рюрика или от Гедимина, и говорить было нечего: любой из них по достоинству и чести своего рода был выше многих иных прегордых европейских властителей, пробившихся к трону из простого всенародства где многомятежным выбором человеческим, а где оружием либо хитроумием своим.
А каких только пышных посольств, из каких только прославленных, а иной раз и не слыханных никогда доселе стран, не видела тогда Москва! Что ни день, скачет государева стража от Каширской, либо от Дорогомиловской заставы, либо вдоль по Сретенке, расчищая себе плетьми путь сквозь сбежавшуюся со всех сторон чернь. И полощутся знамёна, и блестят доспехи, и трубят в трубы бирючи, и дивится праздный народ московский на такое великолепие, задрав в изумлении головы свои и разинув рты. То посол от императора Максимилиана,[63] то от самого грозного владыки турецкого[64] Солимана Великолепного, то Сигизмунд Август шлёт своих гордых, высокомерных панов к великому князю московскому, то шведский король Густав Ваза[65] своих верных дворян, больше похожих по обличью на торговых мужиков, то ливонский магистр присылает своих спесивых, молчаливых рыцарей, закованных в броню. А то, тревожно и зорко озираясь по сторонам, в хвостатых лисьих шапках и перетянутых кушаком кафтанах едут послы от хана крымского, а то в белых чалмах и атласных халатах-степенные, невозмутимые старцы от эмира бухарского, или от персидского шаха, или из Хорезма, а то и победнее какие люди едут, но тоже по великому государеву делу – из Сибирского, к примеру, ханства или из Ногайской орды.
А за ними всякий раз движутся обозы с дарами и подношениями царю и ближним людям его, и чего только в тех обозах нет! И сундуки, и ковры, и кони, и эфиопы страшные, и верблюды горбатые, а то и львы в золочёных клетках, и павлины, а случалось, что и чудо дивное, всем чудесам чудо, – слон, невозмутимо отмахивавшийся хоботом от докучливых московских мух. А за обозами посольскими – гости торговые с товаром разным: с узорочьем и атласом, и сукнами алыми, и камкой, и с припасом воинским, предназначенным на продажу, и табунами низкорослых, но жилистых и крепких степных коней, и с сушёной рыбой, и икрой в бочках, и с шафраном, и имбирём, и прочими пряностями индийскими, к которым Москва уже начала тогда постепенно привыкать.
Дивные настали времена! Со всем теперь белым светом торговала Русь. Астраханские купцы, и бухарские, и армяне, и левантийцы, и жиды из порубежных с Литвою мест, и ганзейские гости, и ливонцы, а в последнее время и аглицкие торговые люди, пробившиеся в Московию через студёное Белое море и многую тесноту учинившие московскому купечеству своим нахальством, а главное-своим умением, сбив цену, в мгновение ока продать весь свой товар… Пока ещё наши чешут в затылках! А они уже с деньгами восвояси пошли, славя Бога и щедрое гостеприимство московского царя.
И всех тех послов и торговых гостей ближние люди царские встречали с честью, смотря по достоинству кого. И по подворьям посольским и по избам на постой их разводили, кого где пристало, и корм им из казны давали, и от какого лиха или от любопытства бездельного за забором да за крепкою стражею их берегли.
Далеко за морем, и в Европе, и в ближних странах порубежных разнеслася тогда весть о новой могущественной и славной Москве, о которой раньше в иных землях мало кто и знал. А причина того нового величия державы Российской была прежде всего во многих доблестях и здравом рассуждении самого московского царя и мудрых советников его. Где ласкою и обхождением учтивым, а где богатою казною и подношениями, а где ловкостью и твёрдостью верных слуг своих, посылаемых по государеву посольскому делу, а где и оружием, и угрозою воинской, коли все иные средства были бессильны, добивался юный царь московский того, чего прародители его, как ни бились, добиться не могли.
Надо было купить мир с Литвою – пусть не вечный, а хотя бы перемирие на несколько лет, – и кого только из воинственных, но алчных и суетных вельможных панов королевства Польского и Литовского не задарила тогда богатыми подарками Москва. А задарив, развязала себе руки для действий в иных местах, где враг был не так силён, а победа не так трудна. А надо было очистить всю Волгу от поганых, пробиться к Каспию и стать твёрдой ногой на южных своих рубежах – и вот уже нет в Астрахани Ямгурчея-царя,[66] и бежит он в страхе от московского войска в пределы крымские, и режутся насмерть промеж себя князья его и родственники, и воюют не с Москвою, а с соседями своими, кочевой Ногайской ордой, пытаясь ухватить себе хоть малый кусок от некогда славного, но развалившегося в прах Астраханского царства. А Москва лишь усмехается, лишь потирает руки, похваливая то одного, то другого из них и дожидаясь, пока не перережут они все, ведомые разбойники, друг друга до конца.
Но и тут – мудрая осторожность чтобы только не задеть без нужды кого, не возбудить какого нового противника себе! Просит, к примеру, государя давний подручник Москвы, ногайский хан Исмаил, пожаловать, вывести из Астрахани враждебных ему князей. А ему ответ: «Этих князей скоро нам вывести нельзя потому, как взяли мы Астрахань, то астраханским князьям своё жалованное слово молвили, чтоб они от нас разводу и убийств не боялись. Так чтоб в других землях не стали говорить: вера вере недруг, и для того христианский государь мусульман изводит. А у нас в книгах христианских писано: не велено силою приводить к нашей вере. Бог судит в будущем веке, кто верует право или неправо, а людям того судить не дано».
А надо было унизить возгордившегося не в меру шведского короля и обезопасить русские северные земли от посягательств буйных его баронов, так в докончание славных наших воинских побед, чтобы он, король, и думать впредь забыл о брани и вражде с могущественной Москвой, пишет канцлер российский Алексей Адашев на письме его послам горькую, но правдивую укоризну: мы-де, государи российские, – исконные государи, «а про вашего государя в рассуд вам скажем, а не в укор, какого он рода и как животиною торговал и в Шведскую землю пришёл: это делалось недавно, всем ведомо». И потому-де не по достоинству шведскому королю иметь дело прямо с царём московским, а должно ему, как и прежде, ссылаться с наместниками новогородскими, людьми в державе Российской великими. И тоже расчёт был верный: как ни горд был Густав Ваза, а смирил свою гордыню пред царём и великим князем всея Руси. И не только клятвою обещался рубежей московских впредь не воевать, но и дал российским купцам полную волю торговать в Швеции, где хотят, и товары свои возить через неё во все иные страны, и корабли им для того дела велел давать. А что ещё и более того – обещался он, король, впредь через свою землю всех иноземных мастеров и в ремесле искусных людей беспрепятственно в Московию пропускать и никакой помехи и докуки им нимало не чинить.
А советникам победоносного царя, попу Сильвестру и ближним приятелям его, всё мало! Жмут и дальше на самодержца российского: время-де наше пришло, отдохнула Русь, сил набралась в тишине и единении народном – пора начинать новую, последнюю войну, против последнего разбойничьего гнезда на границах российских, царства Крымского! Сколько ж можно быть царям московским холопами крымского хана – ведомого всему миру вора и погубителя народов христианских? Сколько ж можно истощать и простое всенародство российское, и лучших людей, и землю нашу, и святые монастыри ради ежегодной дани и поминок хану и всей алчной его родне? И терпеть что ни год набеги диких орд его чуть не до самой Москвы, и грабёж их, и смертоубийство, и сокрушаться о толпах пленников русских, уводимых на аркане в неволю бусурманскую? Ополчайся, царь, на последнего своего врага! За тебя Бог, за тебя люди твоя. За тебя горе и слёзы всех сирот, и вдов, и матерей земли твоей многострадальной, что триста лет не имела покоя от проклятых тех варваров, не знавших жалости никогда и ни к кому.
– Пора, пора, государь! – убеждал царя неугомонный поп. – Наши люди уже узнали дорогу в Крым – и полем, и морем. И дорога та оказалась не так уж и страшна. Дьяк вон Ржевский со своими молодцами мало что не до Бахчисарая дошёл! И, сам знаешь, было бы наших чуть поболе – не только Ислам-Кермень да Очаков, но и сам ханский юрт ему бы, Девлет-Гирею-царю, не удержать… А какой разгром им, поганым, князь Дмитрий Иванович Вишневецкий[67] учинил! А сколько с ним было казаков его? Сказать – и не поверит никто! Известно, воровать, да мучительствовать, да мирных людей грабить – на это они, злодеи крымские, мастера. А против воинского строя да боя огненного – где они, храбрецы? Ищи ветра в поле!.. А теперь, государь, и вовсе время удобное: в Крыму голод, и мор, и резня междоусобная. И воеводы твои говорят, что хану теперь и десять тысяч войска против тебя не собрать. А ты и двести тысяч можешь выставить, и триста, коли будет в том нужда…
– Ишь развоевался, святой отец! И откуда только в тебе такая прыть? – усмехался в ответ царь. – Послушать тебя: сели на коней, свистнули, и айда! Двести тысяч, триста тысяч… А сколько из них хотя бы до Перекопи дойдёт, не говоря уж про Бахчисарай? Сколько дорогой от безводья да бескормицы перемрут, да коней поморят, да пушек потопят в том же Сиваше?
– А разве я тебя прямо сей же час в Крым зову? – не сдавался упрямый поп. – Понятно, надо подготовиться. Дело великое! Страшное дело: либо им, разбойникам, конец, либо тебе. Но со Швецией у тебя, слава Богу, мир, и с Ливонией, и с Литвою мир – так почему ж не стянуть всё войско, что у тебя есть, к Дону и Днепру, и суда там построить, и припас всякий собрать; и заставами крепкими и станицами удалых казаков твоих дорогу в Крым оборонить? Далеко, государь, это не значит, что не дойдёшь! Надо только обувку покрепше, да харчей за спину поболе, да дорога чтоб знакомая была… Да ещё лоб свой не забудь перед походом перекрестить.
– Хватит, поп! – терял терпение царь. – Не серди меня. Что ты понимаешь в воинских делах? Знай свою Псалтырь, а в такие дела мешаться тебе не след. Оставь их тем, кому по службе своей надлежит о том рассуждать… Ну, завоюем мы Крым, а дальше что? Думаешь, султан турецкий позволит тому делу сбыться, не вступится за холопа своего? А как я с ним, султаном, буду воевать? Ты подумал о том?
– Подумал, государь! – не отступался от своего бесстрашный протопоп. – Одному тебе, ясное дело, с султаном не совладать. Да ведь ты не один! Доколе ж всем вам, государям христианским, терпеть разбой и притеснения его? Уж и до Вены дошёл! Заключи союз с императором, и с польским королём, и с иными христианскими властителями, чтобы стоять вам всем против султана заодин… Всем вам угроза! Всем вам гибель идёт от него…
– И опять, отче, одни лишь мечтания твои. Пустое говоришь! Не пойдут они на союз.
– Да как же не пойдут? А зачем тогда император присылал своё посольство к тебе? А о чём больше всего толкуют паны радные, когда Сигизмунд Август шлёт их сюда, к твоему царскому величеству?
– Император больше всего хлопочет, чтобы нам веру нашу переменить, папу римского на шею себе посадить. А паны радные всё Смоленск назад требуют да мне грубят, царский титул за мной признать не хотят…
– А ты их обмани! Императору посули просьбу его после победы над султаном всемилостивейше рассмотреть и дело на то мало-помалу подвигать. Мол, дело то великое, враз его не решить! Пятьсот лет наша церковь была сама по себе. Мы-де не зарекаемся от воссоединения духовного всех братьев наших во Христе, но спешить с этим нельзя: то дело надо делать постепенно, чтобы народ наш православный не взволновался, чтобы не было нам и державе нашей порухи ни в чём… Замотаем, государь! То да сё, да пятое, да десятое – император и сам умается, и отстанет от нас… А с панами и того легче. Сколько уж поколений подряд ханы крымские разоряют их и жгут! И сколько уж слёз пролила Речь Посполитая в бессилии своём… И им Смоленск пообещай! Не сейчас, конечно, нет, а потом, после победы нашей вместе над ханом крымским. А уж после победы там видно будет, что и как…
– Ах, сладко поёшь, лукавый поп! Заслушаешься! Да кабы всё так просто было, как ты говоришь…
– Я не пою, государь… Я голос слышу! Голос Того, Кто послал меня к тебе тогда, во дни воцарения твоего. И этот голос говорит мне, что время твоё, государь, пришло. На тебе печать Бога, и спасение державы твоей в тебе. Ты, царь, будешь покорителем Крыма! И после тебя забудет Русская земля о всякой угрозе с Востока навсегда…
Воистину сладко пел благовещенский протопоп! И исполнены были высокой мудрости его слова… Но, увы! Быстро течёт время. И как говаривал некогда один древний мудрец, в одну и ту же реку нельзя вступить в другой раз. И Тот, Кто послал попа к царю тогда, десяток лет назад, был тот же. И сам поп мало в чём изменился с тех пор. Да царь был уже не тот.
С год как, а может, и больше того стали примечать ближние люди царские, что вновь будто бы начал тяготиться царь делами и сидением думным, и к молитвам вроде бы поостыл, и попа Сильвестра к себе в Верх, в покои свои, уже не так часто зовёт, и дома на Москве не сидит, всё скачет где-то по полям да угодьям охотничьим, и пирует там, и зверя бьёт, и бумаг себе никаких слать не велит. Да и царицу свою благоверную, государыню Анастасию Романовну, тоже вроде бы уже не так, как прежде, лелеет, а в опочивальню её похоже что и вовсе дорогу забыл.
И хотя по-прежнему блюдёт он, царь, обычай государственный, и с думою своею советуется по всем делам, и на пирах по-прежнему сидят к нему ближе всех лучшие люди земли Московской, чьи прародители служили ещё прародителям его, и послов иноземных принимают те, кому то по службе пристало, а только если прикинуть, кто теперь больше видит его царственный лик и слышит его царственное слово, то выходит оно всё не по-прежнему. То не поп, и не Алексей Адашев, и не Избранная Рада царя, а всё больше иные какие-то люди: вроде бы не случайные, нет, и тоже именитые, и тоже с заслугами, а всё ж таки для Москвы народ пока ещё легковесный, молодой и по доблестям своим отнюдь не из тех, кого привыкли люди московские видеть впереди.
Всё чаще и чаще теперь случалось так, что придёт поп Сильвестр в Большой царский дворец или Алексей Адашев принесёт царю на подпись какой-нибудь указ, а им ответ:
– Государя нет.
– Как так нет? Только вчера вечером был! Ещё и Заутреню сегодня поутру отстоял… Куда же он ускакал?
– Нам то неведомо. Сказано: на охоту. А куда – нам то не положено знать.
– Один уехал?
– Нет, не один.
– А кто с ним?
– Шиг-Алей-царь, да князь Михаила Темрюкович Черкасский, да боярин Василий Михайлович Захарьин, да боярин Алексей Данилович Басманов с сыном Фёдором, да князь Афанасий Вяземский, да иные ближние его люди…
– А когда обещался назад?
– И про то тоже не знаем ничего…
А царь был в это время уже далеко! Добро, коли на Лосиный остров подался или в Сокольники, а то мог и под Дмитров ускакать, и на Волок Ламский, а то и того дальше – в Александровскую слободу, на большую охоту, на много дней. И не скоро дождёшься его теперь назад! А самое досадное было то, что и не сказал никому ни слова, куда ускакал, на какой срок – ни попу, ни Адашеву, ни другому кому из Избранной Рады своей, а раньше такого не бывало никогда. Конечно, завтра же пришлёт нарочного с поручением доставить ему туда из дворца либо то, либо другое, что забыл второпях. Но дело-то ведь не в этом, дело в том, что не счёл он, государь великий, нужным объявить накануне волю свою государскую никому из советников своих… И то был тревожный знак!
Нет хозяина в доме-нет и жизни в нём никакой. И домашние его ползают как сонные мухи по стеклу, и всё валится у них из рук, и все дела в доме том стоят… А царю и горя мало! Знай пирует себе с приятелями своими в каком-нибудь теремке, спрятавшемся в глухом лесу, и бражничает, и песни поёт, и в бубен звенит, и скоморохов потчует, и девок красных ласкою своею дарит. Благо при каждом таком теремке на случай приезда высоких гостей всегда было готово все: и ватага весёлых скоморохов, и гусляры, и девки румяные, кровь с молоком, на ласку отзывчивые. А чем да и как они все там жили, когда не было гостей, – про то неведомо было никому.
– А скажи, царь, – спрашивал, бывало, раскрасневшийся от вина и от песен государь московский Шиг-Алея-царя. – Где пируют лучше? У меня или у вас, у татар? Ты, говорят, мастер был пиры задавать, когда в Казани государил…
– У тебя, великий царь, – отвечал ему бывший казанский властитель, единственный из сидевших за царским столом, у кого в короткой его татарской бородке уже видна была седина. – У нас женскому полу, по вере нашей, на пиру быть нельзя. И скоморохов у нас нет…
– А скажи, правду то люди говорят, что у вас чуть не каждый пир кончается дракой али резнёй?
– Нет, государь. То неправда.
– А зачем же тогда ты всех мурз своих и князей порезал да поубивал, позвав их на пир? Про то все знают! Великий грех на тебе, царь…
– Не всех, государь! Кого надо было, того и порезал. И до сего дня не раскаиваюсь в том… А иной раз, государь, смотрю я на тебя, как ты, белый царь, живёшь… И думаю: да как же он, великий, терпит такое непочтение и непослушание себе? От своих же холопей, кому и глаз-то не должно сметь поднять на него? Как позволяет он такое им?
– Это ты про кого?
– Сам знаешь, про кого… Кто недавно отмолил у тебя жизнь изменников твоих, князя Семёна Ростовского и сродственников его? Кто заставил тебя волю твою царскую переменить?… Аж на литовских рубежах беглецов тех поймали! Куда ж ещё больше, какие ещё тебе нужны были доказательства измены их?
– Князь Семён изменил по дурости да по малодушию своему. Не со зла…
– А тебе что за дело, почему он изменил? Коли бы то было у меня, давно торчать его голове на колу! А за ним бы и всех заступников его на кол посадил…






