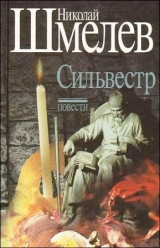
Текст книги "Сильвестр"
Автор книги: Николай Шмелев
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 19 страниц)
– А и дерзок же ты… А и дерзок же ты, Сильвестр! И дерзостны речи твои… – сдвинет тогда грозные брови свои Бог-Отец. А может быть, и не сдвинет, может быть, лишь усмехнётся на нелепые, мятежные слова его в великом милосердии Своём. – Так у нас здесь не говорят… Но… Но да будет и с тобой милость Моя. Есть и у тебя перед Небом заслуги, не одни только грехи… Что ещё… Что ещё ты хочешь спросить у Меня? Говори…
– А ещё… А ещё, Господи, всю жизнь, сколько помнил я себя, хотел я Тебя спросить об одном… Боже великий, Господь милосердный! За что?! За что обречён каждый из нас, смертных, на горе и страдания в юдоли своей земной? Виноват ли он в чём, не виноват… Грешен ли он пред Тобой, или это дитя малое, неразумное, неуспевшее даже помыслить-то ещё ни о чём, не только что совершить… За что людям и муки, и слёзы, и тоска чёрная, неизбывная, и глад, и мор, и болезни, и разорение великое, и смерть? И детям безвинным, и жёнам непорочным, и калекам, и старцам согбенным… За что, Господи?!
– Так… Так, раб Божий Сильвестр… Что ещё?
– А больше ничего… Больше мне нечего спросить, Господи… Я всё спросил… Куда укажешь мне теперь? В ад кромешный, в геенну огненную? И это приму, Господи, безропотно, без слёз и стенаний, уповая лишь на милосердие Твоё в день последнего Твоего Суда… И это приму, Господи, ибо заслужил…
– Нет… Не туда теперь путь твой, Сильвестр, – ответит ему Господь. – Не в ад. Но и не в рай. В пространства межзвёздные теперь твой путь, и быть тебе там до срока, до того грядущего в веках Дня, когда свершатся наконец судьбы мира и восстанут мёртвые из гробов… Ибо и Я пока не знаю, раб Мой верный Сильвестр, истинную меру вины человеческой… И меру подвига тех немногих, кто во всём следовал воле Моей и заповедям Моим… Дал Я человеку жизнь, и дал Я ему землю, чтобы трудился он на ней в поте лица своего, и украшал её, и любил ближнего своего, и жил в мире с ним и согласии, и думал о душе своей бессмертной, и сторонился сам и других отводил от всяческого зла… Но свернули люди с этой прямой, светлой дороги куда-то не туда, и выбились они из воли Моей… И даже когда послал Я им Спасителя, Сына Моего Небесного Исуса Христа, они не приняли Его и прогнали Его прочь… Куда они дальше пойдут? И к чему придут в гордыне своей, в тщеславии и недомыслии своём? Не знаю… И я не знаю этого, Сильвестр… Посмотрим, время ещё есть… Но одно Я твёрдо знаю, протопоп, и одно скажу тебе: уже назначен срок, назначен День великий – День Страшного, последнего Моего Суда над миром… Иди, раб мой Сильвестр! Иди и жди того великого Дня… Жди, и Я призову тебя…
Тихо в маленькой кельице. Тихо в монастыре… И тихо, не шелохнётся веточка, не треснет сучок на морозе в вековом, дремучем бору за монастырской стеной. Всё вымерзло вокруг, всё застыло в оцепенении, скованное стужей и сном. Глубокая ночь на дворе, и до рассвета ещё далеко.
Нет, не дотянула до утра лампадка! Задрожал, зашипел в последний раз огонёк у неё на дне и погас. Теперь что смотреть во тьму, что не смотреть– всё одно. Истинно, истинно, как в гробу… Господи, так когда же? Когда же наконец блеснёт в этой тьме Твой свет? Пора… Пора, Господи… Стынет, вязнет кровь в жилах его, и уже холодеют его члены, и не слышит он больше сам сердца у себя в груди… Нет у него больше сил цепляться за жизнь! Неужто не выпил он ещё до дна чашу свою?… Утомился я, Господи. Слишком много было всего…
И опять мутится, плывёт, уплывает куда-то сознание его, и тёмное знакомое забытье вновь подбирается к нему, и медленно, тяжело окутывает его сон – мутный, колеблющийся, похожий на смерть… А может, это и есть смерть? Значит, так и не удалось ему дожить до светлого Христова Рождества, так и не удалось в последний раз услышать дивный звон монастырских колоколов, возвещающий о рождении Того, кому суждено было спасти мир?… А, не жалко! Не жалко даже и этого. Не жалко теперь уже больше ничего… Слава Господу нашему Исусу Христу! Слава сыну Божьему, вознёсшемуся на Небеса!.. Так вот оно, значит, как… Так, значит, это и есть она – смерть?!
Уйдёт ночь. Вернётся, отстояв заутреню, в кельи свои соловецкая братия, и мальчик-послушник принесёт ему горячего сбитню и ломоть хлеба и осторожно, жалея его, тронет его за укрытое ветхим тулупом плечо. Ибо давно уже старец сей древний не встаёт со своего одра, и не переступает порога кельи, и не посещает никаких монастырских служб… А тронув – вскрикнет, испугается, всплеснёт руками: как ни видим был всем близкий конец старца, как ни ждали скорого ухода его в жизнь вечную, а всё-таки смерть есть смерть, и никогда не привыкнет человек к ней. Омоют его, уложат в сосновый гроб, отпоют, похоронят – и не останется больше от него на земле и следа.
Глава II АЛЕКСАНДРОВСКАЯ СЛОБОДА
А, незачем было обманывать себя! Всё. Сон ушёл. И больше ему, помазаннику Божию, государю и великому князю всея Руси, как он ни бейся, не заснуть до самого утра.
И винить в этом некого. Сюда, в душную, жарко натопленную царскую опочивальню, к тому же ещё наглухо обложенную сверху донизу толстыми персидскими коврами, ни один звук снаружи обычно не доходил. А если и слышалось здесь что когда, так только, может быть, далёкий тоненький посвист вьюги там, вверху, в дымоходе, под самой крышей, да ещё вот тягучий скрип сверчка за изразцовой печью, занимавшей собой чуть не полстены. Но на вьюгу, как известно, управы нет, а сверчка царь любил и никому его трогать не велел.
Так и есть – на часах полночь. Значит, опять он спал часа два, не больше, а может, и меньше того. И опять ничто не смогло одолеть его, царственного страдальца, вершителя судеб людских: ни ранняя, с четырёх утра, заутреня в стылой, промозглой полутьме дворцовой церкви, ни долгая обедня в чёрном монашеском одеянии, на коленях, со слезами, со смиренной молитвой к Господу, с земными поклонами до кровоточащих ссадин на лбу, ни утомительно длинный день, проведённый в государственных делах и заботах, а больше всего – в Пытощной избе, под вопли, и стоны, и смертную мольбу истязуемых на глазах его людей, ни буйное, пьяное застолье с ближними его, его любимцами – удалыми опричниками, под их хмельные, воинственные крики, их раздольные песни, среди скоморохов, и дудошников, и весёлых плясунов… Ничто – и даже тот долгожданный, последний в его сутках час, когда, дрожа от нетерпения, он поднимался из-за пиршественного стола и затворялся у себя в опочивальне с надушённым, разрумяненным Федькой[4] Басмановым, этим чудищем, этим дьяволом сладострастия, горькой мукой, и любовью, и проклятием его. Какая баба, какая девка могла сравниться с ним – с его наглым бесстыдством, его ласками, его безошибочным знанием каждой жилочки, каждого хрящика в теле царя!..
Нет, недолго длился царский сон. И сегодня, и вчера, и месяц, и год назад – одно и то же! И так, считай, всю жизнь. Особенно же в последние лет пять, с тех пор, как покинул он лукавую, вязкую, как тина, в своём глухом, но упорном непослушании первопрестольную Москву и переселился со всем своим двором сюда, в Александровскую слободу. Нет покоя царю. И нет на всём белом свете ни лекаря такого заморского, ни травки такой заветной, что могли бы хоть ненадолго прервать эту дурную, сводящую с ума череду бессонных ночей, измучивших и истерзавших царя и превративших его к сорока годам в старика.
Конечно, дороден пока ещё царь Иван, и плечи его широки, и грудь, и чрево его высоки и величественны, как и подобает царю. И неутомим он пока ещё и в делах, и в походах, и в гульбе, и в плотских утехах своих. Но… Но и волос уже нет на голове, и борода его почти вся выпала, и мешки под глазами сизые, набрякшие слезой, и руки его уже дрожат, если не остановить эту дрожь глотком-другим медовухи либо старого, доброго рейнского вина… А! Ударить бы кулаком по этому зеркальцу, стоящему в изголовье его постели, чтобы разлетелось оно, проклятое, вдрызг, чтобы перестало каждую ночь напоминать ему о том, что и его дорога до могилы не длиннее, чем у всех других… Но да разве это изменит хоть что-нибудь? Над всем он, царь великий и всемогущий, властен. Над всем… Но только не над собой.
Полночь. Душно. Душно и тихо в царской опочивальне… Скрипит сверчок за изразцовой печью, горит, мерцает свеча на поставце, под образом Спаса – «Ярое око», гневным, непрощающим взглядом своим следящего за ним из темноты, с почерневшей, потрескавшейся от старости доски… Вот так же следил он, наверное, и за прародителями его и сто, и двести лет назад… О, как страшится всегда царь этого взгляда из темноты, этих первых мгновений своего пробуждения! Пока он ещё не встал, не размял одеревеневшие со сна члены, не налил себе ковчежец вина и, перекрестясь, не осушил его единым духом до дна…
И страшится царь этой иконы, и ненавидит её, но избавиться от неё – выше его сил. Как бы там ни было, сколько бы бед и несчастий ни знал московский царствующий дом, а всё-таки оберёг, сохранил его Христос милосердный – от века и до нынешнего дня! И нет сегодня ни в Европе, ни на всех пространствах земных такого властителя, кто мог бы сравниться с царём московским древностью своего рода, своим прирождённым, изначальным правом на власть, доставшимся ему Божием соизволением, а не многомятежным хотением человеческим, не знающим, как известно, ни закона, ни границ. И как бы там ни было, как бы ни погибала Русская земля, как бы ни терзали её дикие орды степные, и жгли, и полонили, и грабили её, и какая бы брань и братоубийственное междоусобье ни поднимали русских людей друг на друга – а всё ж стоит она, твердыня православная, держава его Российская! И живёт, и славит имя Господне. И будет она стоять, пока мир стоит.
Нет, хоть и сверлит, мучает его каждую ночь из темноты это «Ярое око», и следит за ним из угла этот вечный Судия, вечный соглядатай души его, а всё-таки знают и он, царь-государь московский, и весь народ православный, и все страны, и соседние, и отдалённые, что пребывает на нём, царе Иване, благодать Божия и хранит его Христос вышней силою Своей… Висела эта икона в его опочивальне с тех пор, как он помнит себя, – и пусть висит! Да и ничего нового Христу Спасителю о нём, царе московском, наверное, уже и не узнать. Все грехи его, вся мерзость, и разврат, и злодейства его великие, кровопийственные, известны в Небесах уже давно. И если не испепелил его до сего дня огнь Небесный – значит, угодны дела его Всевышнему, значит, творит он благую волю Его, неисповедимую для людей, ибо нет в мире власти аще не от Бога, и Бог есть Власть, и Власть есть Бог…
Помилуй мя, Господи… Помилуй смиренного раба Твоего… Помилуй и прости… Так кто же он есть, царь московский Иван, прозванный народом своим Грозным? Бог? Или человек? Земная ипостась Всевышнего, чьё слово либо мановение перста есть воля самого Творца? Или же тварь жалкая, ничтожная, погрязшая в грехах и преступлениях своих, за которые там, в жизни вечной, ждёт его ответ, как и любого другого злодея на земле? Кто он, самодержец российский, – меч карающий, рука Провидения или же чудовище, не знающее ни удержу, ни меры в злодеяниях своих?… Длинны, ох как длинны ночи царские… Но нет ему ниоткуда ответа на этот вопрос, что задал он себе впервые без малого двадцать три года назад, в 1547 году, когда блаженной памяти митрополит московский Макарий венчал его на царство Мономаховым венцом.
А, плохое то было время! Шаткое, мутное время… И не было тогда ему, государю великому, воли ни в чём.
Во всём он должен был советоваться с холопями своими, во всём слушаться их – то жалкого старикашку, попа лукавого и невежественного Сильвестра, то худородного дворянишку, страдника убогого Алёшку Адашева[5], околдовавших, опутавших тогда его по рукам и по ногам… Всё, чему учили они тогда его, слуги дьявола, – всё то было об одном: да, ты царь, ты власть, но ты человек, и человеческий закон – это и твой закон, и Суд Божий-это и твой Суд. Будто и не было до него, Ивана, ни Давида-царя, ни Соломона, ни императоров римских испокон веков вершивших суд и расправу над родом человеческим по произволу своему, исполняя лишь волю Божию и не слушая никого из лукавых доброхотов своих…
Фарисеи! Книжники! Зачем хвалились вы учёностью своею? Зачем терзали душу царскую, юную, неокрепшую, сердце его, мягкое, уступчивое, ложью, вами же выдуманной, но почерпнутой якобы из древних книг? Зачем с таким упорством подсовывали мне всё, что против меня, и прятали от меня всё, что за меня?
Что говорит вам, лицемерам, отец ваш духовный, мудрый философ греческий Аристотель? Али вы забыли? «Не должно внимать тем, которые увещевают нас заботиться о близком человеке, так как мы люди, и о том, что бренно, так как мы смертны, а следует как можно более стремиться к бессмертию и делать всё возможное, чтобы жить сообразно с тем, что в вас наиболее сильно и значительно».
А о чём свидетельствует Плутарх[6], великий знаток деяний древних царей, предков наших Божественных? Помните, как убивался великий Александр, когда, сам того не желая, пронзил в порыве ярости копьём брата своего названого Клита[7], спасшего ему некогда жизнь, заслонив собой от удара вражеского меча? И что ему сказал на то философ Анаксарх? «И это Александр, на которого смотрит теперь весь мир! Вот он лежит, рыдая, словно раб, страшась закона и порицания людей хотя он сам должен быть для них законом и мерой справедливости, если он только победил для того, чтобы править и повелевать, а не для того, чтобы быть прислужником пустой молвы. Разве ты не знаешь, что Зевс для того посадил с собой рядом Справедливость и Правосудие, дабы всё, что ни свершается повелителем, было правым и справедливым?»
Длинны, ох как длинны ночи царские! И нет ему, государю великому, покоя ни в чём… Встанет иногда царь со своей лежанки укрытой собольей шубой, подойдёт к киоту, снимет длинными, уже тронутыми подагрой пальцами нагар с оплывающей свечи, пройдётся мягким, рысьим своим шагом из угла в угол по толстому ковру, плеснёт себе в ковчежец ещё глоток вина – и вновь, вздохнув, усядется на постели, и вновь погрузится в думы свои царские, тяжкие… О чём? Да всё о том же: о Боге, о державе Московской, о себе…
И вновь… И вновь, как и прошлую ночь, как и много, много ночей подряд, слышит он где-то там, за спиной у себя, голоса: то тихие, умоляющие, переходящие в еле слышимый шёпот, то грозные, громкие – будто окрик с Небес.
– Уймись… Уймись, царь Иван! Уймись в кровопийстве своём… Или всё ещё мало тебе тех бесчисленных, кого ты уже казнил лютой, позорной смертию без вины, лишь по прихоти твоей? Или мало тебе славного покорителя Казани[8] – князя Александра Горбатого-Шуйского? Или мало тебе мудрейшего в совете твоём, правителя московского и первого вельможи твоего – боярина Ивана Фёдорова[9]? Или не сыт ты ещё кровью собственной семьи своей? Кровью многих древних родов боярских, истреблённых тобой под корень, со всеми чадами и домочадцами, вплоть до малых младенцев в колыбели? Или всё ещё мало ты побил и служилого дворянства, и смердов, и воинских, и посадских людей и вольных хлебопашцев, и холопей, натравив на державу твою неповинную свирепых псов – царских опричников, затмивших в безжалостном злодействе своём татар Мамаевых, ордынников поганых? Какой ответ, Иване, ты дашь Богу? Чем оправдаешься перед судом Его?
– Нет, маловеры! Нет, потатчики[10]! Нет, семя Иудино, волки в овечьих шкурах, лишь ждущие своего часа, чтобы растерзать меня, а вместе со мною и все царство моё! – отвечает этим голосам царь Иван, вскакивая с постели и начиная вновь метаться от угла к углу. Дыхание со свистом вырывается у него из груди, глаза стекленеют, на стиснутых губах появляется пена, остроконечная жиденькая бородёнка его воинственно вздёргивается вверх, грозя невидимым врагам. – Не время сейчас для милосердия! Нет, не время! Не скоро вы дождётесь конца казням и мучительству. Не скоро дам я вам спокойно спать в своих постелях. Не раньше, чем последний из вас сам приползёт ко мне с верёвкой на шее, отдаваясь в мою полную, безраздельную власть… Я ещё только начал! Я ещё только лишь верхушки задел, а к корням и не прикасался. За корни, за корни надо приниматься! Нет ещё страха на Руси настоящего, нет покорности священной воле царской – шатается народ, сопротивляется, бежит по лесам и украинам дальним, плутует, сговаривается, не слушается никого. Всё в трясину, всё в вязкое, гиблое, чавкающее болото – все замыслы царские, все дела мои великие! А хуже всех Тверь, Новгород и Псков… Нет, подлая чернь новгородская, нет, крамольники тверские, – ничего я вам не забыл! Не забыл я, как в позапрошлую осень из-за вас пришлось мне повернуть назад всё войско, весь последний, решительный поход ливонский… Разбежались, подлые смерды, по чащобам лесным! Бросили и наряд пушечный, и обозы, и орудия стенобитные – всё бросили погибать в болотах и топях, в дождях и снегах. Всё, что такими тяжкими трудами собирала держава Московская… Оголодали, видишь ли! Обовшивели, опухли, жилы надорвали в той непролазной грязи… О подлое племя, рабы лукавые! Такой поход погубили! Быть бы уже всей Ливонии моей. И быть бы уже концу этой проклятой войне…
Нет, страх! – гремит, вскидываясь, царь. – Только страх, только ужас смертный по всей земле! Иначе не побороть ни мне, ни потомкам моим этого вязкого, необъятного болота, песков сих зыбучих, гибельных, в которых испокон веков тонуло и увязало всё доброе, все благие дела на Руси… О, берегись, надменная Тверь! Берегись, Господин Великий Новгород! Берегись, лукавый и непокорный Псков, гнездилище смуты и корысти! Настал ваш час! Настал день жертвы великой и кровавой! А кто из вас виновен, кто нет – суди о том Бог… Не вас казню – казню всю землю Русскую. Народ русский казню! За лень его беспробудную, за дикость и невежество, за то, что никакими уговорами, никакой лаской его не проймёшь… За тупость его, и ложь, и звериную изворотливость, за слепоту его, и упрямство, и вечное его сопротивление своему же благу… Пусть содрогнётся земля! Пусть содрогнётся весь народ от мала и до велика, и в теремах высоких, и в избах курных, и в посадах, и в дальних погостах, и в монастырях. Пусть ужаснётся каре Небесной, доселе невиданной, без пощады, без снисхождения – ни к младенцам грудным, ни к дряхлым старцам, ни к вдовам, ни к больным и увечным, ни к лучшим людям, ни к сану монашескому. Ни к кому!.. Нет, Господин Великий Новгород – извечный глава всякого мятежа, всякого несогласия на Руси! Огнём и мечом! Дед мой не добил тебя – так я добью… А рожать у нас, слава Богу, бабы ещё не разучились. Новых народят! Новым народом населят землю Русскую. Но другим народом! Покорным, и благочестивым, и мягким как воск. Ибо отныне и впредь народ этот будет в полную меру знать лишь то, что он только одно и должен знать-страх. И не перед Ордой, не перед татарином степным! А перед Богом, данным ему судией и властелином – царём и самодержцем всея Руси…
– Уймись. Уймись, царь Иван! Уймись, несчастный, в разврате своём, – шепчут, умоляют его сквозь сдавленные рыдания всё те же тихие; еле различимые в ночном безмолвии голоса. – Скольких дев юных, нерасцветших, ты растлил, сколько жён непорочных обесчестил… Сколько отроков невинных погубил ты в грехе содомском… Или мало тебе Федьки Басманова – уже давно не раба, а хозяина твоего, что вертит, играет тобой, как пожелает его подлая душа? Или мало тебе болезней твоих потаённых, постыдных, сжирающих тело твоё и уже состаривших тебя? До срока сгниёшь, царь! В пса смердящего, шелудивого превратишься, в язвах, в гноищах мерзостных погибнешь, ибо бессильны против них и молитвы, и лекаря заморские, и колдуны лесные со всеми чародействами их… Уймись, Иван! Уймись в блуде своём, в игрищах бесовских! Разгони эту свору – и скоморохов, и плясунов, и лицедеев размалёванных, и мальчишек развратных, которыми ты окружил себя… Останови это наваждение, останови эту заразу на Руси, от тебя же, царя и властелина московского, исходящую… Какой ответ, Иване, ты дашь Богу? Чем оправдаешься ты, безумец, перед Судом Его?
– Прочь, изыди! – грозит царь Иван скрюченным своим кулаком во тьму. – Умолкните, лицемеры! Умолкните, кликуши монастырские! Не вашего убогого ума это дело. Не вам судить царя ни в доблестях, ни в грехах его… Выше разума человеческого тяжкий долг царский. И выше разума человеческого печаль его… Так неужто не могу я хоть на миг забыться от трудов моих непосильных, от забот моих державных? Неужто нельзя и мне, вершителю судеб людских, хранителю и оберегателю всей земли Русской, хоть простого участия, простой ласки человеческой, и кубка вина, и песни раздольной в кругу товарищей моих? Оглянитесь… Оглянитесь назад вы, плакальщики и плакальщицы! И Александр, и Цезарь, и Август Октавиан[11] – кто из них был безгрешен? Кто не знал пороков и слабостей человеческих? Но не по грехам судят о них потомки, а по доблести и славе их… Велики были их божественные деяния! И велик был их разврат. Но что истории и людям до него? Вспомните, святоши, вспомните, лицемеры: разве посмел кто когда осудить великого Тиберия[12] за ту жизнь, что он вёл у себя, на острове Капри? За толпы весёлых мальчишек и девчонок, до последних дней жизни окружавших его? За этих изобретателей неслыханных, чудовищных наслаждений – спинтриев, скрасивших ему его одинокую старость на пустынном острове, вдали от всех? Ему – дряхлому, но мужественному старцу, вплоть до самого своего конца державшему всю империю Римскую в своём властном кулаке? И когда ещё Рим был так велик и славен, как при нём?… Нет! Не такой безделице, как лицемерные жалобы ваши, и вопли, и стенания, поколебать меня. В делах я царь! А в утехах своих я человек. Но как и дух мой царский, так и плоть моя неподсудны людскому суду…
А Федьке… – внезапно останавливается на бегу царь: по лицу его пробегает судорога, и вслед за ней в хищных глазах его вспыхивает мстительный, безжалостный огонь. – А Федьке Басманову скоро не жить… Обнаглел, лукавый раб! Возомнил о себе, о неземной красоте своей… Так, значит, думаешь, Феденька, что ты теперь господин всему? Что за поцелуи твои жгучие, дьявольские я теперь и корону с себя сниму? Ошибаешься, дружок! Ошибаешься, любовь моя ненаглядная… Скоро… Скоро я докажу тебе и другим, кто из нас двоих здесь господин… Страшно докажу! И будет тебе, Феденька, казнь лютая, доселе неслыханная. И ужаснётся ей вся Москва, весь крещёный мир… Зарежешь ты, Феденька, отца своего, дурня старого, бородатого. Зарежешь по слову моему царскому, на глазах у всех. Зарежешь, подлая душа! Не поморщишься – знаю я тебя… А потом и тебе конец… Лети потом ввысь душа твоя бесталанная, жалуйся святым заступникам твоим! Одним грехом больше, одним меньше – мне уже нечего терять! Либо всё простит мне Господь Вседержитель, либо… Либо нечего…
– Ничего! Ничего не простится тебе, Иване! Тебе, зверю, тебе, чудовищу кровожадному… Уймись… Уймись царь Иван! Уймись несчастный, не умножай грехов своих! Ибо и так уже выше всякой меры человеческои злодеяния твои-раздаётся во тьме ночной голос гневный, голос трубный. И сжимается в испуге царь Иван, и смертный пот выступает на челе его, и голова его уходит в плечи. Дрожащей рукой, озираясь по сторонам, осеняет он себя мелким-мелким крестом: где Он – тот, кому принадлежит сей глас? Здесь ли, рядом с ним, или же там, в пространствах небесных? Или же в гулко бьющемся, обмирающем от ужаса и ожидания расплаты собственном его сердце? Но молчит ночь, и нет ему, царю московскому, ниоткуда ответа на вечную муку его и страх. Разве что ещё налить себе ковчежец вина и осушить его одним жадным глотком… Потрескивает, оплывает свеча под образами, поскрипывают дубовые наборные половицы под тяжестью его грузного тела, умолк за печью, утомившись, сверчок…
– Поздно… Поздно, Господи… – тоскуя и сокрушаясь, шепчет Иван. – Слишком многое уже свершилось, и назад ничего уже не вернёшь… Нет мне прощения, как Ироду-детоубийце![13] И знаю я: ждёт меня вечная мука там, за гробом, и ждут меня котлы кипящие, и щипцы раскалённые, и пламень огненный, не утолимый ни слезами, ни мольбой… Страшусь я Суда Твоего, Господи! Страшусь горькой участи своей! Страшусь, и плачу, и молю Тебя здесь, на земле, лишь об одном: отпусти! Отпусти меня в монастырь, сними с меня бремя моё, венец мой тяжкий, освободи меня от забот моих непосильных о земле, о народе моём… Не виноват я, Господи, в рождении своём, и не искал я сам доли моей царской, не вырывал я венца державного из чужих рук… Ты! Ты, Господи, возложил его на меня! Ты же видишь: изнемогаю я под бременем моим, и силы мои оставляют меня, и нет покоя душе моей истомившейся, израненной коварством и непокорностью людской… Не могу я не казнить! Я царь! Я должен казнить рабов моих ради их же блага, ради блага державы моей, её же, Господи, Ты вручил мне при рождении моём… Но если казнь есть грех, и кровь есть грех, и каждая слезинка человеческая на мне – отпусти, Господи! Смилуйся надо мной, рабом твоим несчастным, невиноватым во власти моей, в долге моём страшном, нечеловеческом перед людьми. Отпусти. В монастыре, на Белом озере, в уединении, в слезах и молитвах, в беседах тихих со старцами святыми, в трудах и смирении окончу я свои дни. И кто знает? Может, и я, недостойный, отмолю себе прощение Твоё, отмолю хоть малую толику из того, что по долгу царскому пришлось мне взять на совесть мою… Отпусти, Господи! Отпусти ради Сына Твоего Небесного, ради мучений и страданий Его на кресте…
– Лжёшь, царь! – гремит в ушах Ивана всё тот же голос страшный, голос трубный – голос Того, Кто знает о нём всё. – Лжёшь! И не поможет тебе юродство твоё… Никуда, ни в какой монастырь ты не уйдёшь! Сам не уйдёшь! И лживы все слёзы, все стенания твои… Попрал ты, зверь, заветы Мои, и нет тебе прощения! Как упырь лесной, упиваешься ты, ненасытный, кровью человеческой. И кровь эта взыщется на тебе… Трепещи, несчастный! Грядёт Мой Суд над тобой, и страшной будет расплата твоя! Не на благо, а на горе людское употребил ты власть, данную тебе… Трепещи, Иван! Трепещи, червь, посягнувший и в помыслах и в деяниях своих на равенство со Мной…
Душно, тяжко в царской опочивальне! Теснят царя, давят на него стены и низкий, нависающий над головой потолок, и ни звука не доносится сюда извне, из мира, занесённого снегами и спящего непробудным сном. И сверлит, не отпускает царя взгляд из освещённого свечой угла – взгляд «Ярого ока», Господа нашего и Спасителя Исуса Христа. Нет больше сил у царя бороться с собой, со страхами своими ночными. И рушится он, державный властелин, наследник славы и величия римских кесарей, перед образом этим древним на колени, и припадает пылающим лбом своим к прохладной половице перед поставцом, и затихает так, шепча слова молитвы, и слёзы чистые, младенческие – слёзы покаяния текут у него по лицу… Долго, до полного оцепенения телесного стоит царь на коленях перед киотом, незаметно для себя впадая в беспамятство и уносясь мыслию и сердцем туда, в иные, чудные миры, где царят Любовь, и Всепрощение, и Вечный Покой. Тихо, в молчании и смирении проходят так минуты, а может быть, и часы…
Но вот осторожно, крадучись, приоткрывается тяжёлая дубовая дверь опочивальни, и в неё просовывается лохматая голова. Голова любимца и ближнего советчика царского, добровольного палача и послушного исполнителя самых страшных, самых потаённых замыслов государевых Григория Лукьяныча Малюты Скуратова-Бельского:[14]
– Пора, государь… Скоро к заутрене… Четвёртый час…
Тяжело вздыхая и кряхтя, царь поднимается с колен, Вздрогнуло пламя свечи перед киотом, заметались, заходили по стенам опочивальни тёмные, колеблющиеся тени… И будто и не было здесь никогда жалкого, полубезумного страдальца, распростёршегося ниц перед образами, раздавленного бременем своих печалей, и грехов, и смертной тоски! А был и есть царь – государь и великий князь всея Руси, величественный и грозный, Богочеловек, одного слова которого достаточно, чтобы обречь смерти целые страны и народы, населяющие их.
– Во имя Отца и Сына и Святого Духа!.. Входи, Лукьяныч… Входи… Как почивал, отец параклезиарх?
– Не спалось, государь… Душа не на месте. Великий день, великий час настаёт! А дел ещё не перечесть.
– Да, настал он наконец, великий сей день! Долго ж мне пришлось дожидаться его… Всё проверил, Лукьяныч? Заставы высланы? Дороги перекрыты? Смотри, на тебя надеюсь! Чтоб ни одна живая душа не проскользнула вперёд нас… Нежданной-негаданной должна быть кара для изменников моих! Как снег на голову, как гром с небес посреди ясного дня… Чтоб не успел никто нигде схорониться от гнева моего, ни детей, ни жён своих попрятать, ни имения своего раздать, ни закопать…
– Всё сделано, государь, как ты велел. Ничего не забыто. Заставы высланы, дороги перекрыты – вплоть до Клина и дальше – до самой Твери… Но люди мои доносят, государь, что уже всполошились изменники твои. Плач и стон уже стоят в Твери, и в Новгороде Великом, и во всех пятинах его.[15] Прощаются, молебны служат в церквах и монастырях, чтобы отвратил Бог праведный гнев твой от них, чтоб умилостивил он сердце твоё… Упредили нас, государь! И упредил кто-то из ближних твоих…
– Знаю! Знаю, Лукьяныч, что упредили. И знаю, кто упредил… Думаю, и ты, Лукьяныч, тоже знаешь, кто упредил. Знаешь! Но хоть и знаешь – молчи. Пока молчи… Подожди, дай срок! Управимся с этим походом – сочтёмся и с ними. Быть! Снова быть на Москве казням великим и кровавым! Дай только покончить с крамольниками новгородскими, с доброхотами Сигизмундовыми…[16]
– Так каждого десятого, государь? Без разбору, боярин ли, поп, житный ли человек – всё одно?
– Нет, Лукьяныч… Мало! Мало каждого десятого… Великое дело нам с тобой предстоит, Лукьяныч! Небывалое дело! И вся надежда моя на тебя… Руки твои, а грех… А грех мой. Я отмолю его за нас обоих перед Отцом нашим Небесным. Я! А ты… А ты молчи. Делай – и молчи… Нет, Лукьяныч, поторопился я. Не домыслил до конца. Каждого десятого – это мало! Об этом забудут на другой же день… Каждого десятого – это в Твери! Там надо только спесь древнюю ссадить, чтобы и думать забыли о князе своём Михаиле,[17] его же покарал за гордыню его Господь, о вековом соперничестве своём с Москвой. Им хватит и каждого десятого… А в Новгороде– каждого третьего! Ни один дом, ни одна семья чтоб не осталась без покойника, убиенного, утопленного, замученного в гневе моём… Всем опала! Всем казнь! Либо увечье смертное, либо правеж и мучительство, пока неотдаст последнюю рубаху с себя и последний грош из имения своего… Чтоб никогда больше не поднялся Господин Великий Новгород! Чтоб и ближние, и дальние потомки его забыли и думать о славе, о былом величии правления народного… Не великий, не богатый, не вольный и своевольный Новгород нужен державе Российской! А место тихое, и тусклое, и покорное в убожестве своём. Чтобы не на кого было оглядываться народу российскому, чтобы некому было завидовать ему. Издохнет Новгород, а с ним издохнет и крамола на Руси. На вечные времена… Ну, а Псков… Ну, а как с Псковом быть – там, Лукьяныч, увидим. Покорятся псковичи, отдадут все имение своё безропотно и без утайки – помилую. Не покорятся – и там каждого третьего на кол! Либо на перекладину тесовую, либо в реку Великую с камнем на шее, под лёд…






