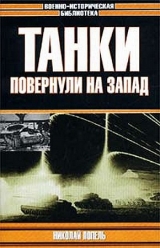
Текст книги "Танки повернули на запад"
Автор книги: Николай Попель
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 23 страниц)
– Не стреляй, товарищ командир. Я свой, советский… Тут, как заваруха началась, мы один поезд увели на запасные пути, к пакгаузу. Там пленные красноармейцы. Да пятнадцать теплушек с цивильными. Как бы немцы чего не сделали или ваш брат сгоряча не пальнул по ним…
Когда Филатов с бойцами подбежал к поезду, там уже суетились гитлеровцы: из канистр поливали стены теплушек бензином. Увидели наших и – кто куда.
Лязгнули засовы, заскрипели тяжелые двери.
– Выходи, братва!
Пленные красноармейцы вооружались немецкими автоматами, винтовками и бежали в центр города, откуда доносилась все усиливающаяся пальба. Там, на забитых машинами улицах, я столкнулся нос к носу с Подгорбунским, одетым в зеленый немецкий ватник с капюшоном. Он был окружен людьми в гражданском.
– Товарищ генерал, – торопливо доложил Володя. – У меня тут сводный отряд. Дядько, у которого я в саду с рацией сидел, со мной вместе железку на Винницу рвал, а потом своих дружков привел…
Отсветы пожара падают на людей в лоснящихся ватниках, разбитых сапогах, латаных валенках. Один из них, сухощавый, нескладно длинный, с шеей, обмотанной шарфом, подходит ко мне. В руках у него черная немецкая винтовка.
– Вы, товарищ генерал, в нас не сомневайтесь. Хоть под оккупацией были, а советскую власть на немецкую похлебку не променяли.
– Я и не сомневаюсь…
– Тогда спасибо. Тут меня старики в бок толкали. Говорят, гляди, генерал сейчас велит у нас оружие отобрать, какую-нибудь проверку устроит.
– Никаких проверок. Коль вы нашему офицеру помогли, значит, свои. А если хотите еще доброе дело сделать| пробивайтесь со старшим лейтенантом к складам, не дайте немцам поджечь их или взорвать. Принимайте охрану.
Долговязый молчал, жевал губами, исподлобья смотрел на меня.
– Ну, а если не желаете, – сказал я, – ваша воля. Вы – народ гражданский…
– Да что вы, товарищ генерал! – не выдержал Подгорбунский. – Это ж такие мужики…
– Не спеши, сынок, молод ты еще, – перебил длинный. – Не понять тебе, что нам генерал сказал.
Он хотел еще что-то добавить. Но вместо этого провел рукавом по усам, сделал шаг ко мне, перебросил винтовку в левую руку, а правой крепко сжал мою ладонь. Я почувствовал костлявые пальцы, шершавые бугорки мозолей.
Подгорбунский со своим «сводным отрядом» скрылся за высокими гружеными машинами, запрудившими тесные улицы. А я решил пробиваться на северную окраину, к нашим главным силам. Ориентироваться в ночном незнакомом городе, где из-за каждого угла можешь получить автоматную очередь или гранату, – куда как нелегко. Бронетранспортер петляет по мостовым, по сугробам, протискивается сквозь проломы в заборах, пересекает заснеженные сады и огороды.
Стрельба замирала. Изредка донесется скороговорка автомата, и снова тишина.
Выскочили на дорогу. Я вынул из полевой сумки карту, отстегнул компас и принялся определять точку стоянки. Кругом ни души. Дорога безлюдна. Но вот на ней показалось быстро растущее пятно. Машина мчалась к городу. На всякий случай кивнул бойцу у пулемета.
– Лихо шпарит, – с восхищением заметил водитель, – Мотор дай боже.
Я оторвался от карты. Поднес к глазам бинокль. Черт поймет на ходу – чья она. Вроде немецкая. Но наши командиры часто разъезжают на трофейных.
Легковая приближалась. На обоих крыльях трепыхались флажки. Метрах в тридцати машина резко затормозила. Открылись задние дверцы, и на землю выскочили… немецкие автоматчики.
Прежде чем я успел сообразить и раньше чем гитлеровцы успели нажать на спусковые крючки, морозную утреннюю тишину рассекла длинная пулеметная очередь. Четверо немцев свалились в снег.
Мы подбежали к машине. Трое лежали убитые, четвертый агонизировал.
Я рванул никелированную скобу передней дверцы. Из машины, подняв руки, медленно вышел невысокий плотный человек в шинели с бобровым воротником. К черной форменной фуражке с высокой тульей и серебряным шитьем были прикреплены бархатные наушники. Нежданно-негаданно нам досталась крупная птица. Я задал обычные вопросы: «Имя, должность?» – Ich will nicht sprechen, – спокойно и высокомерно процедил немец. «nicht» так «nicht». Мне нет времени возиться с гитлеровцами. В штабе разберутся.
Бойцы вынесли шофера. Раненный в голову, он потерял сознание, но лежал с открытыми глазами и стонал. Снег под его головой становился красным. Я приказал перевязать шофера. У офицера при обыске обнаружили бумажник с серебряной пластинкой – «Дорогому коллеге в день пятидесятилетия. 20 марта 1939 года». На рукоятке «вальтера» выгравировано ничего не говорящее мне имя владельца – Рудольф Хюбе.
Я залез в машину. Под толстым, двойного брезента верхом было тепло. В нос ударил запах немецких блиндажей – мужские духи, табак, вероятно, шнапс и еще что-то.
Это был «хорьх». Но не стандартный, о котором я имел представление, а изготовленный по особому заказу. Такие попадались нам лишь несколько раз. На них разъезжали генералы либо офицеры генерального штаба. Я утверждался в мысли, что мы захватили действительно кого-то из фашистских начальников. Скорее всего, не войсковых, а гестаповских. В этом меня убедили документы из портфеля, прикрепленного к внутренней стороне дверцы.
Я считал уже обыск машины законченным, когда обратил внимание на какую-то ручку пониже ветрового стекла, перед сиденьем офицера. Дернул ее. Выдвинулся ящик вместе с портативной пишущей машинкой. К валику прижата бумага – три листа, прослоенные копиркой. Пробежал убористые буквы немецкой машинописи. То был допрос двух пленных советских офицеров. Возможно, он производился здесь же, в машине. Еще раз осмотрел все вокруг. На резиновом коврике перед задними сиденьями были следы крови.
Когда я вылез из машины, агонизировавший автоматчик уже затих. Умер и раненный в голову шофер. Гестаповец, сняв фуражку, стоял над ним. В этой его позе мне почудилась игра в солдатское братство, настолько привычная для эсэсовца, что он не в состоянии был изменить ей даже сейчас, в плену.
В штабе армии установили, что нам попался зондерфюрер, ведавший гестаповской службой на большой территории. В Святошино, в штабе фронта, куда немца доставили самолетом, выяснились дополнительные подробности: гестаповец неплохо говорил по-русски и в последнее время насаждал фашистскую резидентуру в прифронтовом районе.
А «хорьх», изготовленный по особому заказу (с ведущими передними и задними колесами), безотказно служил мне до самого Берлина.
На оживших улицах Казатина увидел Бойко. Он стоял, осажденный толпой, и, смеясь, сбив на макушку шапку, что-то рассказывал.
– Вот, – Бойко показал на меня, – товарищ генерал вам на все вопросы ответит.
Завязалась одна из обычных в таких случаях бесед. Казалось бы, мы должны уже были привыкнуть к своей роли освободителей, к слезам и радости людей, бросающихся на грудь. Но, оказывается, к этому нельзя привыкнуть.
Меня спрашивали о Ленинграде и о Москве, о том, сколько хлеба будут давать по карточкам, когда кончится война, и, как всегда, кто-нибудь неуверенно: а не отступим ли мы, не вернутся ли немцы?
Одна из женщин развернула передо мной отпечатанную в ярких красках афишу. Девушка с завитыми локонами в накрахмаленной наколке подавала обед дружелюбно глядевшей на нее семье благодушного бюргера. На другой картинке та же девушка в небольшой комнатке писала за столом письмо. На этот раз ей дружелюбно улыбался Тарас Шевченко с портрета, висевшего на стене.
– Нет, вы только подумайте, товарищ генерал, – возбужденно говорила маленькая женщина, – за кого они нас принимают? Поезжай, дура, в ихний проклятый райх, они тебя, темную, человеком сделают, крахмальный передничек носить научат, ихним кобелям прислуживать…
Она с яростью разорвала плакат.
Тягачи буксировали трофейные машины, на бортах которых появились надписи мелом: «Бензин», «Запчасти», «Снаряды».
От Бойко я узнал, что Подгорбунский с разведчиками послан вперед, охрана складов поручена какому-то взводу.
– То есть как взводу? – удивился я и тут же направился к складам.
По мере приближения к ним, улицы становились все оживленнее, и транспортер двигался все медленнее. Водитель не переставал нажимать на кнопку клаксона.
Не доезжая до складов, я слез с транспортера и пошел пешком. Не сделал и трех шагов – навстречу долговязый железнодорожник со своими приятелями. На рукавах красные повязки.
– Вы куда? – поинтересовался я.
– Нашего старшого, Володю, вперед послали. Приезжал тут один подполковник. «Не разведчику, – говорит, – макароны сторожить». Вместо него прислал другого лейтенанта, конопатого. А тот велел нам домой идти. Не ваше, мол, дело охрану нести… Там у них якась-то кутерьма заваривается, – долговязый махнул рукой.
– Вы не спешите? – спросил я.
– Да куда ж нам спешить?
– Тогда давайте со мной.
– Ай да, дружина, – скомандовал железнодорожник.
Склады кое-кого манили к себе. Было тут и бескорыстное любопытство. Было и желание поживиться.
Изголодавшееся население тоже тянется к таким помещениям, от подвала до крыши набитым всякой снедью, тем более что в городе за время оккупации выплыл на поверхность всякий сброд.
«Конопатый» лейтенант метался по огромной территории склада от одних ворот к другим, размахивал сизовато поблескивающим, наганом. Какие-то люди уже деловито выкатывали огромные, как мельничные жернова, колеса сыра. Кто-то нежно прижимал к груди темные бутылки рома. Кто-то бережно нес ушанку, насыпанную до краев сахаром…
За время наступления у иных появилось легкое отношение к трофейному добру. Это же, дескать, отбитое у врага, чего стесняться.
Здоровый детина, картинно распахнув на груди шинель, орал:
– Я от Сталинграда вон докуда допер и что же, шоколаду плитку не заслужил? На, стреляй!
Потерявший терпение, охрипший лейтенант тыкал в грудь бойца наганом. И, право же, у меня не было уверенности, что он не выстрелит. Кое у кого из офицеров, особенно молодых, сложилось мнение, будто личное оружие – самый веский довод, когда надо убедить подчиненного.
Я резко отвел лейтенантскую руку с наганом.
– Уберите сейчас же.
Лейтенант оторопело уставился на меня, застегнул кобуру, вытянулся. Солдат торопливо застегивал шинель. Толпа молчала.
– Разрешите быть свободным? – прерывающимся голосом спросил боец.
– А как же шоколадка? – в свою очередь спросил я. – Ведь от Сталинграда шел? Небось заслужил плитку;.
Может, из-за этой плитки и освобождал город?
Солдат не отвечал.
– Человек, который от Сталинграда до Казатина людям свободу нес, заслужил великую благодарность народа. А вы ее на кусочек шоколада променять хотите. Все, что мы делаем, делаем для народа, и все, что у врага отвоевы– ваем, принадлежит народу до самой последней крошки. Сколько мы голодом иссушенных ребятишек видели, женщин и стариков голодных?.. Идите! – приказал я. – Все идите, чтобы ни одной души здесь не было.
Бойцы расходились. Я обратился к стоявшему все время по стойке «смирно» лейтенанту.
– Какого вы года рождения?
– Одна тысяча девятьсот двадцать третьего.
– Когда кончили курсы?
– Двенадцатого ноября одна тысяча девятьсот сорок третьего года.
– Раньше были на фронте?
– Никак нет.
– Оружие вам дано, чтобы врагов бить, а не своих солдат стращать. Тем более что их испугать трудно. Они такое видели, что вам еще и не снилось. Понятно?
– Так точно.
– Вот пришли железнодорожники с красными повязками. Вам в помощь. Ясно?
– Так точно.
– Идите.
Лейтенант повернулся с безукоризненной четкостью, на какую способны курсанты при сдаче экзамена на офицерское звание.
Но на этом складские передряги не кончились. Немцы не желали мириться с потерей своего добра. Хотя «своим» они могли считать его лишь условно. Здесь было продовольствие почти со всей Европы, а на ящиках с макаронами стояло клеймо наших фабрик и дата – 1939 год.
Бомбежка продолжалась дотемна. От фугасных бомб дрожали стены. Весь двор был в осколках стекла. Дежурившие на крышах железнодорожники сбрасывали с кровли «зажигалки».
По рации я вызвал зенитный дивизион. Однако и он не мог утихомирить вражескую авиацию.
Бомбежка продолжалась два дня. Два дня бойцы рыжего лейтенанта вместе с железнодорожниками и зенитчиками отстаивали склады. На третий – колонна трофейных грузовиков с мукой, сахаром, маслом, крупой, миновав сорванные воздушной волной ворота, потянулась по улицам города. Это был новогодний подарок танкистов жителям многострадального Киева.
3
Я часто вижу наступление в кино. Из орудийных стволов лихорадочными вспышками вылетает пламя, с нацеленных в небо «катюш» срываются веретенообразные снаряды, на экране мелькают танки, самолеты, с дружным «ура» пехотинцы бегут среди разрывов…
Все так: и залпы, и танки, и цепи стрелков. Но наступление – это труд, тяжелый кровавый ратный труд. Танкисты на поле боя ремонтируют свои машины. Пехотинцы не столько бегут, сколько идут, делая по 30, 40, а то и 50 километров в сутки, и останавливаются лишь для того, чтобы снова рыть землю. Шоферы по трое суток не вылезают из кабины. Связисты разматывают и сматывают катушки, ползут по проводу в поисках обрыва. Врачи, шатаясь от усталости, круглые сутки извлекают пули, осколки, ампутируют конечности. Нормальный сон, отдых – несбыточная мечта. Засыпают в танке, на марше, у руля, со скальпелем в руках. Засыпают на снегу, в сырой траншее, в воронке от снаряда… Но спать нельзя. Отдых может обернуться твоей гибелью или гибелью людей, так или иначе зависящих от тебя.
И даже в такие дни нечеловеческого напряжения находится кто-то, уверенный в своем праве на покой, жирную еду, развлечения.
Транспортер зачихал и нехотя остановился, водитель полез в мотор. Я зашел в ближнюю хату. Она была побольше, посолиднее соседних, наличники сверкали зеленой краской.
В сенях встретила хозяйка.
– У нас уж стоят начальники. Двое суток, как стоят.
– Пускай их стоят.
В просторной горнице дым коромыслом. Кудрявый капитан в гимнастерке без ремня лихо отплясывает на затоптанном полу. За столом старший лейтенант с напряженным красным лицом выводит нетвердым голосом – «Разпрягайте, хлопцы, конив…»
Две сверх меры веселые молодки суетятся у стола, на котором банки со свиной тушенкой, американской колба– сой которую бойцы называли «вторым фронтом», тонкими ломтиками английского бекона и крестьянскими кринками (отнюдь не с молоком).
– Кто там еще приперся? – недовольно уставился на открытую дверь старший лейтенант.
Плясун остановился, посмотрел на меня, медленно опустил руки, нерешительно вытянулся.
– Т т-товарищ генерал… Капитан Анисимов… И в замешательстве умолк.
Я видел где-то это толстогубое лицо с кудрями, падавшими на гладкий молодой лоб.
– Какой части?
– Зам по тылу командира…
Минувшей ночью я был в этом полку, занимавшем оборону километрах в восьми к западу от Казатина. Люди два дня не видели горячей пищи, ходили в мокрых валенках – сапоги в тылах, а тылы отстали.
– Собирайтесь, – приказал я капитану. Умолкнувший певец ошалело смотрит на меня, хватает с подоконника шапку, срывает с гвоздя шинель и, пошатываясь, направляется к выходу.
– Разрешите пройти, товарищ генерал.
– Кто вы такой? Удостоверение личности.
Это был начальник полевой почты одной из стрелковых дивизий, действовавших с нами. Я велел Балыкову записать фамилию загулявшего почтовика.
Капитан Анисимов решением Военного совета был разжалован в рядовые и направлен в штрафной батальон.
Но, конечно, дело не решалось наказанием того или иного лоботряса или пенкоснимателя. (Это о них солдаты говорили: «Кому – война, а кому – мать родна».) Слаженность всего механизма наступления зависела от честности и самоотвержения тысяч людей, от множества обстоятельств. Горячая, сытная пища и доставка газет, боеприпасы и обувь, бинты и консервированная кровь, бумага для писем и запчасти для танков – все по-своему важно. Но чем дальше продвигались передовые части, чем больше растягивались коммуникации армии и шире становился ее фронт, тем сложнее было Военному совету решать эти вопросы.
В Попельне, в школьном зале с еще сохранившейся на стене надписью «Gott mit uns», мы с Катуковым собрали начальников политорганов соединений. Каждого из них Катуков поднимал одним и тем же вопросом: «Как кормите бойцов?» Инструкторы поарма дополняли доклады.
Едва я успел выступить, как меня вызвали к ВЧ. Член Военного совета фронта Кальченко спрашивал о Казатине – расчищены ли улицы, помогаем ли местным властям, проводим ли митинги, подбрасываем ли продукты.
– Крепко держите город? – спросил Никифор Тимофеевич.
– Немцам не отдадим.
– А как с Бердичевом? Доложите обстановку. Я признался, что положение на правом фланге не совсем ясно, собираюсь туда ехать.
– Ближайшие пятнадцать минут не выезжайте, – предупредил Кальченко. – С товарищем Катуковым и с вами будет говорить командующий.
Ватутина тоже интересовал Бердичев.
– Поймите, это – ключ к Шепетовке, ко Львову. Возьмете Бердичев, легче дышать будет Киев, у фронта новые возможности появятся. Вечером обязательно доложите обстановку у Бердичева, – закончил Ватутин.
Было решено, что Катуков останется в штабе руководить наступлением, а я немедленно, не дожидаясь конца совещания, выеду к Гетману, корпус которого дрался на правом фланге.
Грузный Гетман в расстегнутой пышной дохе (подарок монгольской делегации, с которым генерал не расставался всю зиму), возвышаясь на маленьком табурете, объяснял мне обстановку у Бердичева. Город сильно укреплен – минные поля, артиллерия, врытые танки. Бригада Гусаковского пыталась взять с ходу. Но обожглась. Понеся потери, откатилась километров на шесть – восемь к востоку.
– Силенок у Гусака маловато, – цедил Гетман. – Стрелковый полк с ним действует – три с половиной солдата. Ночью снова наступали. С севера батальоны Орехова и Карабанова, с юга батальон Боридько. Орехов и Карабанов ворвались в город. А пехота отстала. Немцы за танками дверь захлопнули. Те в окружении теперь кукуют. Думать тошно… Танков двадцать, человек полтораста вместе с автоматчиками… Боридько продвинулся на ноль целых ноль десятых… Гусак горючего просит, боеприпасов, людей…
Гетман сопел, уставившись на карту.
– Понятное дело – немцам Бердичев вот так нужен, – комкор провел ладонью по горлу. – Железные дороги, шоссейные… Надо к Гусаковскому ехать, на месте решать.
Больше от Андрея Лаврентьевича ничего не добьешься. То, что ему известно не доподлинно, с чьих-то сомнительных слов, так при нем и останется. Гетман считает: лучше отмолчаться, уклониться от ответа, чем доложить недостоверное…
– Если не возражаете, сперва подзаправимся. Ординарец внес два сверкающих алюминиевых котелка с неизменным гороховым супом. Положил на стол пайки ржаного хлеба. Адъютант достал из полевой сумки ложки нержавеющей стали и старательно протер их чистой тряпочкой. Гетман не признавал «генеральской» столовой, личных поваров. Приезжая в части, обедал на батальонной кухне. Единственная роскошь, которую позволял себе командир корпуса, – ложки из нержавеющей стали («Больно уж легки алюминиевые, в руке не чувствуешь»).
– У Гусаковского в бригаде сейчас генерал Ломчетов – представитель штаба фронта. Знаете? – спросил Гетман, обжигаясь супом.
Я кивнул головой.
Гетман сел в сразу накренившийся «виллис». Я забрался в свой транспортер.
Темнело, когда в зарослях кустарника к юго-востоку от Бердичева мы нашли командный пункт Боридько. Беспроволочный солдатский телеграф, как обычно, предупредил комбата о приезде начальства.
Боридько без шинели выскочил из землянки. Замер около «виллиса». Гетман не спеша сошел с машины. Махнул рукой:
– Ладно, там доложишь.
Спустились в добротный блиндаж, отрытый еще немцами. Дверь из толстых досок с железными скобами, стены выложены березовыми кругляшами. Откуда-то украденный раздвижной стол со следами полировки. Немцы всегда обосновывались прочно, землянки оборудовали так, словно будут жить годами. Махорка еще не перебила чужой запах, смешанный с сыростью.
Не раздеваясь, усаживаемся за стол. Боридько докладывает о неудачной ночной атаке. Гетман слушает не перебивая, качает головой в такт словам комбата.
Боридько поглядывает на командира корпуса, на меня. Его возбужденное лицо со светлыми глазами отражает горечь, надежду, предчувствие неприятностей.
– Что, майор, ждешь, когда начальство долбить будет? – поднимает Гетман голову.
Боридько обреченно улыбается, разводит руками – ваша, дескать, воля.
– Не стану клевать, Федор Петрович. Сделал, что мог. Давай думать, как дальше воевать.
Неожиданно Гетман перебивает себя:
– Генерал Ломчетов был?
– Ночью с нами ходил, боевой генерал…
– Говорил что-нибудь?
– Нет, все молчит, трубку сосет. С утра к подполковнику Гусаковскому поехал.
– Поехал так поехал… Зови командиров рот. Я иду к танкистам. Люди возятся у машин… Не слышно обычных шуток, подначек. Неудача горькими складками легла на хмурые лица. Там, в темнеющем впереди Бердичеве, дерутся стиснутые со всех сторон товарищи. Слабым эхом доносятся выстрелы.
Меня спрашивают об окруженных: будем вызволять?
– Будем, обязательно будем, – заверяю я. – Только нелегко это.
Бойцы должны знать о прочной обороне немцев, о приказах гитлеровского командования, запрещающих сдачу Бердичева. Рассказываю все, что мне известно о противнике, его приготовлениях, о настроениях немцев, об их планах вернуть Киев.
– Ну это уж черта с два, – вставляет кто-то. И снова:
– А хлопцы наши как там в городе?
– Рад бы сообщить. Да знаю столько же, сколько вы.
Молчание. Тяжелое молчание.
Мне дорога эта тревога за товарищей. Если судьба попавших в беду людей сжимает твое сердце, лишает тебя покоя, значит, ты впрямь проникся чувством фронтового братства.
Быстро смеркается. Наступает новогодняя ночь. Мы сидим на сваленных деревьях. Вспышки самокруток освещают перемазанные лица.
– Может, нынче ночью по случаю Нового года попытаться? – предлагает маленький танкист в шлеме, сползающем на глаза.
– Может, – соглашаюсь я.
Опять «виллис» и транспортер петляют по полям. Ищем не найдем командный пункт бригады Гусаковского.
Когда совсем было отчаялись, а Гетман израсходовал весь запас ругательств, из кустов на слабо освещенную месяцем дорогу выскочил солдат.
– Стой!
И, лязгнув затвором, вскинул карабин.
– Чумной ты мужик, – успокаивает солдата, вылезая из машины, Гетман. Сразу стрелять готов.
– Виноват, товарищ генерал-лейтенант, – узнал комкора боец.
– Ни черта ты не виноват. Где капэ?
Машины свернули в кустарник. Мы идем, не выпуская из рук провод, который нам показал часовой. В темноте Гетман чуть было не свалился в ровик. Ругаясь, поднимается он в летучку командира бригады.
Слепит резкий электрический свет от маленькой голой лампочки, покачивающейся над столом. Нелепо переломанные черные тени скользят по стенкам, потолку.
Доклад Гусаковского еще горше, чем доклад Боридько. Да, немцы ударили во фланг, отсекли танки. Те автоматчики, что сидели на броне, проскочили в город, остальные либо полегли, либо откатились на исходные.
– Что делает противник? – помолчав, спросил Гетман.
– Минирует подступы к своему переднему краю, подтягивает артиллерию, бросает ракеты.
– Ждет нас?
– По-видимому, ждет.
– «По-видимому», – раздраженно ворчал Гетман. – Где донесения от Орехова?
Гусаковский протянул большой блокнот с узкокрылым орлом на обложке. Гетман брезгливо поморщился.
– Своей бумаги нет…
Читаем торопливые карандашные записи радиста, поддерживающего связь с Ореховым.
«31.12. 6:17. Нахожусь вместе с Карабановым в квадрате 13–85. Веду бой пехотой и танками противника».
«31.12. 10:48. Вас слышу хорошо. Атаки противника прекратились. Подбитые танки действуют как неподвижные огневые точки. Один танк сгорел вместе с экипажем».
«31.12. 14:40. Отбили сильную атаку. Несу потери живой силе. Боеприпасы экономим. Прошу огонь по квадрату 13–86 б».
«31.12. 20:24. Отбили пять атак. Много раненых. Медикаментов нет. Положение сложное. Воды нет. Держимся. Вас слышу хорошо».
«31.12. 22:00. Противник ведет минометно-артиллерийский огонь. Маневрируем в квадрате 13–85. Положение трудное. Раненые в танках и в подвалах».
Одно донесение не совсем обычно. На вопрос Гусаковского Орехов докладывал об отличившихся: звание, фамилия, телеграфно короткое представление к награде.
Гетман резко захлопнул блокнот.
– Передайте Орехову: «Ч» три пятнадцать. Будем пробиваться в город. Где квадрат 13–85?
Гусаковский обвел карандашом площадь в районе вокзала, примерно 400 на 400 метров.
– Ставьте задачи, организуйте взаимодействие. Я – на передний край.
Гетман шумно встал, запахнул доху. Потом вдруг, вспомнив, обратился к молчавшему все время Ломчетову:
– У вас будет что-нибудь?
Генерал, не торопясь, вынул трубку, выпустил дым.
– Нет, чего уж тут…
Я видел Ломчетова впервые. Маленькое бледное лицо, мешки под узкими черными глазами, тонкогубый рот. Генерал очень худ, не по возрасту гибок в талии.
– Если не возражаете, товарищ комкор, я с вами, – говорит Ломчетов, надевая шинель.
Уже выйдя из летучки, Гетман бросил Гусаковскому:
– Приготовьте к бою управленческие танки. Распорядитесь, чтобы почистили тылы: всех – в атаку.
С молодым длинноногим командиром стрелкового полка, щеголявшим в хромовых сапогах со шпорами, я направился к пехоте. Майор доложил, что у него в батальонах осталось по тридцать – сорок активных штыков.
Обошли притихшие перед атакой роты, рассказывая бойцам об окруженных в городе танкистах.
Нехотя валил традиционный в новогоднюю ночь снежок. Небо озарялось плавными всплесками ракет и медленно гасло. В темноте, зябко ежась, приплясывали солдаты. Стряхивали с ушанок снег, согнувшись, курили в рукав. Люди заметно устали, перемерзли. Мысли их в эту ночь бродили где-то далеко.
Артналет прогнал сонливость. Слева затарахтели танки Гусаковского, затараторили скороговоркой пулеметы. Пехота тоже двинулась вперед.
По частым пушечным выстрелам из города можно было предположить, что немцы ждали этой атаки. Минные разрывы черными пятнами усеяли поле.
Молчаливый капитан, заместитель командира стрелкового полка по политической части, зло сплюнул, вынул из лаково блестящей широкой кобуры парабеллум и быстро пошел к залегшей впереди цепи.
Снег сыпал теперь густо, сплошняком. Сглаживал воронки, следы танков. От белизны его посветлело.
Командир полка сменил наблюдательный пункт. Связисты ползли, разматывая катушку.
Неподалеку, справа, ударили танковые пулеметы немцев. Минные разрывы наползали на балку, в которой залегли батальоны.
– Полковую батарею вперед! – приказал майор. – Выдвинуть разведвзвод на правый фланг.
Нагнулся ко мне, вытер мокрое от снега лицо.
– Последний резерв пустил в дело.
Бойцы толкали короткоствольные полковые пушки. Разведчики на бегу меняли автоматные диски.
По контратакующим немецким танкам ударила замаскированная на опушке иптаповская батарея. Короткое пламя распласталось над землей.
Бой принимал затяжной характер, и теперь рассчитывать на успех не приходилось. С нашими силами мы могли делать ставку лишь на стремительный рывок.
В летучке Гусаковского я застал Гетмана. Он ходил из угла в угол. Офицеры почтительно молчали. Ломчетов сосал свою трубку.
– От Орехова ничего нет. Стрельба в городе вроде не такая сильная, сказал, ни к кому не обращаясь, Гетман и повернулся к углу, в котором сидел радист.
– Вызывайте, все время вызывайте Орехова… Потом подошел к столу.
– Товарищи офицеры, надо привести в порядок подразделения, днем снова будем атаковать, оттягивать силы от Орехова.
Ломчетов кашлянул. Гетман вопросительно посмотрел на него. Генерал вынул из брючного кармана кожаный кисет, не глядя, тонкими пальцами набил трубку и подошел к столу.
– Да будет позволено мне сказать.
– Пожалуйста, товарищ генерал, – Гетман отодвинулся, пропуская Ломчетова.
– Я не полномочен изменять решения комкора. Тем более в присутствии члена Военного совета армии. Однако полагаю своим долгом изложить здесь свои соображения, ибо буду докладывать их командованию фронта.
Он быстро обвел всех взглядом жестких черных глаз.
– Считаю сегодняшнее ночное наступление ошибкой. А если не бояться резких слов – авантюрой. Бригада и действующий с ней стрелковый полк не располагали достаточными силами для овладения городом. Теперь, как я слышу, готовится еще одна бессмысленная, по моему глубокому убеждению, атака…
– Так ведь в городе наши люди, танки! – перебил Гусаковский.
– Да, товарищ подполковник, – и люди, и танки. Война как мы знаем, без жертв не обходится… Окруженное подразделение будет героически защищаться и выполнит свой воинский долг до конца. А силы, находящиеся восточнее города, я имею в виду вашу бригаду, товарищ Гусаковский, – пополнятся и во взаимодействии с подошедшими частями овладеют Бердичевом…
Офицеры – кто с интересом, кто с недоумением, а кто и сочувственно прислушивались к веско произносимым словам.
– На войне, – продолжал Ломчетов, – приходится порой жертвовать одними подразделениями, чтобы другие получили возможность выполнить боевую задачу. Это – азы, и прошу прощения, что я вам их напоминаю.
В летучке стало тихо. Монотонно стучал движок. В такт ему вспыхивало и опадало белое пламя лампочки.
Первым заговорил подполковник Сербии. Заговорил горячо, жестикулируя, поправляя указательным пальцем ржавые стрелки усов.
– Верно, совершенно правильно товарищ генерал нас учит, критикует наши ошибки, вскрывает недостатки… Надо нам перестраиваться в свете его указаний, делать выводы…
Гетман встал, исподлобья взглянул на Сербина, и тот умолк на полуслове.
– Вы, товарищ генерал, о живых людях как о покойниках говорите, – упругие щеки Гетмана побагровели, глаза сощурились.
Я знал, что Гетман – человек очень выдержанный и, если он идет на прямой конфликт с представителем штаба фронта, значит, протест его сильнее всяких иных соображений.
– Там люди кровью обливаются, – гремел Гетман, забыв о своих мудро-житейских правилах. – А вы, товарищ подполковник, – Гетман резко повернулся к Сербину, – больно спешите перестраиваться. Спешить надо было вчера ночью, когда Орехов вперед прорвался, а вы, вместо того чтобы с ним находиться, черт знает где болтались…
– Я высказал свое мнение, – поморщился Ломчетов. – А вам, товарищ генерал-лейтенант, решать.
– Не было так, чтобы танкисты своих братов на съедение врагу бросали, кипел Гетман. – От каждой нашей атаки Орехову великая польза. Даже если не ворвались в город. Мы на себя те силы оттягиваем, который. смяли бы его. Я атаки прекращу лишь в том разе, если прямой приказ дадут.
Гетман перевел дыхание и уставился на меня.
– Такого приказа вы не получите, – твердо сказал я. – Военный совет армии согласен с вашим решением.
Генерал Ломчетов выразил только свое личное мнение.








