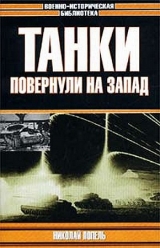
Текст книги "Танки повернули на запад"
Автор книги: Николай Попель
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 23 страниц)
В эти дни мне пришлось стать арбитром в споре, который возник между капитаном Клейманом и подполковником Потоцким.
Потоцкого сблизила с Клейманом антигитлеровская пропаганда среди венгров. Потоцкий занимался ею увлеяенно, с полной отдачей сил и знаний. И вдруг между лфиятелями – спор с взаимными политическими обвинениями, колкостями.
Клейман подготовил радиопередачу, которая должна была вестись из расположения бригады Потоцкого. Полтоцкий пробежал текст и заявил, что такая агитация только на руку Гитлеру. Клейман вспыхнул, упрекнул Потоцкого в интеллигентском гуманизме, бесхребетности и ярочих грехах. Горячности обоим было не занимать.
Я привык считаться с мнением Клеймана, опытного, образованного работника, смелого офицера. Но и у Потоцкого, как я убедился за недолгий срок нашего знакомства, была ясная голова, живая, свободная мысль.
Неторопливо читаю машинописный текст перевода, пытаясь понять, кто же все-таки прав. Спорщики сидят рядом за столом, насупленные, ожесточенные, стараясь не смотреть друг на друга. Не переставая курят из одного портсигара.
Все вроде бы правильно в обращении. Чем дольше продлится война, тем большие бедствия обрушатся на Венгрию. Бомбовые удары превратят в развалины ее прекрасные города, танки перепашут плодородные нивы. Венгерские солдаты, кончайте войну, сдавайтесь в плен.
Так примерно составлялись многие обращения. Почему же недоволен Потоцкий?
– Зачем стращать, запугивать? – Потоцкий щелкает массивной крышкой портсигара. – Венгры отлично понимают, что ждет их страну, если продлится война. А мы все одно и то же талдычим. Как граммофонная пластинка:
«Превратим в развалины, сметем с лица земли». Геббельс, ручаюсь, вколачивает им сейчас то же самое: большевики хотят уничтожить ваши города и села… Разве у нашей армии нет сегодня иных задач, кроме разрушительных? Почему не разъясняем эти задачи? Почему не обращаемся к социальному чувству солдат? Почему не находим слов для интеллигенции?..
Клейман так же азартно говорит об апробированных методах антигитлеровской пропаганды, о накопленном опыте.
– Апробированные методы не заменяют собственную голову! – взрывается Потоцкий.
Я слушаю спорщиков, даю им выговориться. Пожалуй, в соображениях Потоцкого есть резон. Действительно, за проверенные методы нельзя держаться лишь потому, что они проверенные. Годы, месяцы, когда они проверялись, уже миновали. Может быть, не грех присмотреться к новому времени, новым обстоятельствам и кое-что поправить.
Не совсем решительно, не без колебаний, я склоняюсь к мнению Потоцкого. Надо больше, конкретнее говорить о гуманизме наших целей, надо привлекать к себе этих и без того запуганных людей.
Высказываюсь об этом сдержанно, без категорических формулировок. Во-первых, мне самому не все еще ясно здесь. Во-вторых, не хочу обидеть честного работника Клеймана.
Но сутки спустя неожиданная встреча, непредвиденный разговор заставляют меня пожалеть о половинчатости собственного заключения.
За тем же столом передо мной сидит человек с младенчески нежной, фарфорово-розовой кожей, с блестящими черными волосами, будто по линейке расчесанными на пробор. Неужели такая внешность может быть у того, кто уже два года кочует по фронтовым дорогам, сутками торчит на наблюдательном пункте, спит в блиндаже с коптящей свечой? Выходит, может. Трижды раненный, награжденный орденами и медалями командир капитулировавшего венгерского полка полковник Эндре Мольнар делится своими мыслями. Он неторопливо, взвешивая в уме каждое слово, произносит по-немецки фразу за фразой. Терпеливо ждет, пока Клейман переведет, благодарит кивком головы и продолжает. Когда меня зовут к телефону, полковник Мольнар задумчиво смотрит в окно, иссеченное косыми брызгами, машинально поправляет крахмальные манжеты, белеющие из-под обшлагов отутюженного мундира.
– Венгерские полки утомлены, деморализованы, – рассказывает он. – Безверие опустошает души офицеров и рядовых. Ради чего война? Когда нет ясного ответа, невозможно самому идти на гибель и вести других. Не– возможно, господин генерал! Даже смелым людям, исполненным венгерского духа. Плен – крайний выход. Но когда человеку некуда деваться, он думает и о крайнем выходе – о плене, о самоубийстве. Я знаю: многие честные офицеры после Сталинграда и Воронежа задумывались о йяене. И мне не вчера пришла на ум эта мысль. Но я продолжал воевать и делал это так, как требует присяга. Три раза проливал кровь, довольно туманно представляя себе, во имя чего ее проливаю. Слова, которые это объясняют, давно уже не действуют ни на меня, ни на большинство моих товарищей. Награды, которые компенсируют пролитую кровь, слабо тешат гордость…
Он задумался, замолчал. Клейман давно уже перевел последнюю фразу, а он все молчал. Нелегко давалась полковнику его исповедь.
– Добровольная сдача в плен – это измена присяге. Измена чему-то одному ради чего-то другого. Только ради того, чтобы выжить? На это идут люди, доведенные до отчаяния, потерявшие веру в свою родину… Когда я утвердился в мысли добровольно сдаться русским, то решил это сделать вместе со своими солдатами. Если такой шаг оправдан для меня, то он еще более оправдан для моих подчиненных. Родина была ко мне благосклоннее, чем к ним. Я не знал нужды, унижения, бесправия. Я принадлежу к классу тех, кого марксисты называют «эксплуататорами». Так, кажется? Хотя эксплуатировать мне некого и богат я лишь по сравнению с нищим… Но как я мог перейти к вам с белым флагом и повести за собой моих солдат, если в ваших газетах пишут, что надо истребить всех нас до единого? Это я читал сам в приказах маршала Сталина. Правда, в листовках вы обещаете не убивать пленных. Но чего не напишут в листовках, желая развалить армию Противника… Вас, вероятно, удивит, что кадровый венгерский офицер-«эксплуататор» давно интересуется Советской Россией. У нас мало и необъективно пишут о ней. Я читал даже мемуары царских офицеров, которые воевали против вас после революции. Вы, наверно, и не подозреваете о существовании таких книг?
– Эти мемуары у нас издавались, я читал многие из них.
Полковник Мольнар пропустил мой ответ мимо ушей. Он был слишком поглощен своим признанием.
– Так вот, генерал Деникин вспоминал с сожалением, что он издал приказ, обращенный к бывшим царским офицерам, поступившим на службу к большевикам: если офицеры немедленно не перейдут на его сторону, их ждет суровый и беспощадный полевой суд. Генерал Деникин признал, что его приказ, пугавший офицеров, был лишь на пользу большевистской пропаганде. Вы понимаете меня, господин генерал?
Я промолчал, лишь мельком глянув на Клеймана.
– У меня многолетний интерес к вашей стране, – продолжал венгр, – но любви нет. Слишком многого я у вас не понимаю. Я не верю геббельсовским сказкам о русских злодействах. Хотя знаю, что война ожесточает всех: и тех, кто защищается, и тех, кто нападает. Я не верил в злодейства, но не имел достоверных фактов иного рода. Я видел, что вы суровы даже к своим соотечественникам. Ведь у вас всякая сдача в плен, даже тяжелораненого, считается изменой. Вы не подписали известную конвенцию о пленных двадцать девятого года. Неужели вы отрекались от своих пленных, посчитав их всех изменниками? Но, отказавшись подписать конвенцию, вы не взяли на себя и обязательств по отношению к пленным, захваченным у ваших врагов. И это для меня тоже необъяснимо…
Наступила пауза. Возможно, полковник ждал моего разъяснения. Но это были как раз те вопросы, на которые я и сам не находил ответа.
– Да, очень многое для меня непостижимо у русских, – продолжал венгр. Даже то, что после таких поражений вы сумели наступать. Наступать против лучшей в мире германской армии! Видно, на вашей стороне есть силы и стимулы, недоступные пониманию венгерского офицера. А вы то ли не умеете, то ли не считаете нужным объяснить их. Или вам не до психологических сомнений такого офицера, как я? Не знаю. Очень многого не знаю. Мне, человеку старого мира, не постичь, вероятно, новый мир. А то что вы – новый мир, в это я верю. Верно, что вы не только жестоки, но и гуманны, что вами движут идеи высокие, благородные… Иначе ваша победа необъяснима. А если ваши идеи таковы, вы не можете быть беспощадными к тем, кто по доброй воле сдался на вашу милость… Как видите, я не пытаюсь казаться благорасположеннее к вам, чем являюсь на самом деле. Мне важно объяснить свое решение, объяснить ради себя самого и, быть может, ради того, чтобы вы лучше поняли душу и психологию офицера венгерской армии…
Когда полковник Мольнар ушел, я посмотрел на Клеймана, имевшего довольно-таки смущенный вид.
– Ясно, товарищ капитан?
– Ясно, – не совсем уверенно ответил тот. – Вчера в споре с Потоцким я был не совсем прав.
– Да и я тоже был не самым мудрым арбитром. Надо отдать должное Клейману: он сумел во многом перестроить свою работу. Пропаганда, обращенная к венгерским частям, стала убедительнее, действеннее. Добровольная сдача в плен приняла такие размеры, что Военный совет должен был спешно решать вопросы о питании пленных, медицинской помощи, размещении.
Потерявший боеспособность, вконец деморализованный 7-й венгерский корпус откатывался на Станислав и дальше в Карпаты.
И все же во мне поднималась какая-то смутная тревога, когда я вспоминал беседу с полковником Эндре Мольнаром. Что-то было неправильное, несправедливое в нашем отношении к бойцам и командирам, не по своей воле и не по своей вине попавшим в плен к гитлеровцам. Да и в пропаганде, обращенной к противнику, не все делалось правильно…
Между тем обстановка усложнялась. Вместо 7-го венгерского корпуса подходили новые немецкие части.
А самое серьезное – на левом фланге. Там назревали опасные события, грозившие нам окружением. Гитлеровцы выходили на тылы нашей армии.
Глава седьмая
1
В Черновицах ли, в Коломые, в Надворной – куда ни приедешь – спрашивают о Станиславе. Рассказываешь о положении на других участках фронта и слышишь опять вопрос: «А Станислав?». Станислав – важнейший центр на пути нашего наступления. В нем перекрещиваются шоссейные дороги, через него пролегла железнодорожная магистраль. Севернее города сливаются два рукава Быстрицы, впадающей в Днестр.
Но об оперативно-стратегическом значении населенных пунктов думают больше всего в штабах. Многих же наших ветеранов привлекало другое. Они сами встретили войну в этом городе. Здесь тогда стояла танковая дивизия. Здесь у некоторых остались семьи.
Война стерла в памяти очертания городов, знакомых лишь по коротким наездам. В Станиславе я бывал редко. Помню широкую зеленую улицу, называлась она, кажется, Советской, высокие европейские здания в центре, гостиницу, где ночевал однажды, туманно громоздящиеся горы, открывшиеся неожиданно поутру за окном, ну и, конечно, казармы – однообразные красного кирпича коробки, сложенные при Рыдз-Смигле…
В приказе на наступление, который получил корпус Дремова, указывалось, в частности: «Овладеть областным центром и узлом дорог г. Станислав». Но как раз на подступах к Станиславу бои перешли в стадию, которую у нас в штабе непочтительно называли «кошачьими играми» – там мы чуть продвинемся, здесь противник, силы сторон иссякают. А тут еще заваруха на левом фланге, попытки каменец-подольской группировки противника вырваться из не столь уж плотного кольца.
Поэтому-то и нервничали так ветераны – неужели Станислав останется пока что у врага? Волнение это передавалось другим. Вопрос «А Станислав?» буквально преследовал Катукова и меня, когда мы появлялись в частях.
Как почти и всюду за Днестром, под Станиславом не было сплошного фронта. Танковому взводу Подгорбунского предстояло миновать Хрыплин, выйти южнее железнодорожного моста к Быстрице Надворнянской, перебраться через речушку и «прощупать» Станислав.
Я догнал взвод уже на марше, вернее, на непредвиденной остановке.
Тянущаяся вдоль шоссе деревня горела, броня играла красными бликами. Укрывшаяся где-то неподалеку немецкая батарея с методичным упрямством слала снаряды. Иногда они попадали в горевшие дома, и разрывы подбрасывали вверх клочья пламени, охваченные огнем куски бревен и досок, иногда с глухим грохотом рвались на обочинах дороги.
У замыкающей «тридцатьчетверки» сорвало каток. Около танка – то озаряемые пожаром, то исчезающие во мраке – мелькали фигуры в полушубках, бушлатах, телогрейках. Я подошел никем не замеченный и услышал срывающийся голос Подгорбунского:
– Если дрейфишь, вались… знаешь куда!
– Не горячись, Вовка.
Воинскими званиями разведчики пользовались лишь в исключительных случаях или при начальстве. Обычно они довольствовались именами.
– Таких шкур, как ты, – не унимался Подгорбунский, – я бы расстреливал без суда и следствия…
– Я – шкура?!
Оба одновременно схватились за кобуры.
Я придержал сзади Подгорбунского за руку:
– Отставить.
Он круто повернулся. Совсем рядом я увидел бледное от бешенства, с побелевшими глазами лицо. Выцветшие пушистые брови запорошила копоть.
– А, товарищ генерал!..
– Если бы не боевая задача, отстранил бы вас обоих от командования.
– Если бы Подгорбунский не выполнял боевую задачу да каждый день не подставлял башку под пули, может быть, вы с ним и вовсе разговаривать бы не стали.
Эта развязность была мне настолько неприятна, что я вот-вот готов был вспылить. Подгорбунский издавна позволял себе больше, чем другие. И все с этим мирились, всем казалось, будто Подгорбунскому тесно в обычных рамках дисциплины. А теперь, после получения Звезды Героя Советского Союза, ему и самому стало казаться это.
– Из-за чего сцепились с командиром экипажа? – спросил я.
– Так, разошлись во взглядах на жизнь…
– Довольно дурака валять.
– Этот вояка, да и не он один… считает, что дальше на танках идти не надо. Может быть пробита их нежная броня, а заодно и экипажи поцарапаны…
Напротив нас рухнул догорающий дом. Взметнулись искры, отразившиеся в багрово трепетавших лужах. В темный осевший сугроб с шипением врезался раскаленный лист кровельного железа.
– Прав командир экипажа, – негромко сказал я. – Дальше двигаться пешими. Выполняйте.
Когда разведчики скрылись, у меня мелькнуло в голове: «А не выпил ли Подгорбунский?» За ним последнее время водился такой грешок. Несколько дней назад выяснилось, что разведчики в трофейной машине возят самогонный аппарат… Но я отогнал от себя эту мысль – отправляясь на задание, Подгорбунский не разрешал хмельного ни себе, ни подчиненным. Он обязательно обходил строй, останавливаясь возле каждого, и строго требовал: «Дыхни на меня».
Видимо, просто давали себя знать переутомление, перенапряжение, бесконечные разведки, поиски. Сказывались и слишком щедрые похвалы, к которым привык Володя.
Рассвет застал меня на командном пункте Горелова – в каменном доме лесничего, где на стенах висели оленьи рога и щерились клыками кабаньи морды. Горелов сидел в меховом жилете, накинутой на плечи шинели и неизменной танкистской фуражке.
– Мазут хлебаю, чтобы мозги не затуманились. Угостить?
Командир бригады грел ладони о пивную фаянсовую кружку с густо заваренным чаем. Ординарец поставил такую же и передо мной.
– Голову снимать будете? – устало посмотрел на меня Владимир Михайлович. Но иначе не мог. Да и не считаю, что поступил неправильно.
– Нельзя ли без загадок? – попросил я.
– Можно… конечно, можно, – Горелов поправил сползающую с широких плеч шинель, нехотя усмехнулся и рассказал, как все было.
Часа два назад сюда возвратился из разведки возбужденный, шумный Подгорбунский. Надо не мешкая брать Станислав. Там паника, смятение; После того как венгры отступили, немецкий штаб, сидевший в Станиславе, тоже выехал. Войск в городе – всего ничего. 183-я военно-полевая комендатура нарыла траншей, поставила проволочные заграждения, капониры. А людей – раз-два и обчелся. Разведчики прихватили с собой пленного ефрейтора – шофера из 68-й пехотной дивизии. Тот подтвердил: дивизия небоеспособна, выведена на переформирование; в ее разбитых полках царит страх перед советскими танками… Полевая жандармерия устраивает облавы. Мужчин от тринадцати лет (тоже муж-чины!) до шестидесяти отправляют пешком и поездами на запад. Остававшиеся в Станиславе и в окрестностях семьи советских офицеров согнаны в бараки и взяты под охрану. – Чего вашей бригаде, товарищ полковник, у Надворной загорать? Тут и так тишь, гладь да божья благодать, – возбужденно советовал Подгорбунский. Надо: «В ружье!» и «Даешь Станислав!»
– Не шуми, – оборвал его Горелов. – А что я – лишенный голоса? Как в разведку – так Подгорбунский, а как слово скажешь – заткнись.
– Угомонись! – снова попросил Горелова – Не угомонюсь. Когда трусость наблюдаю…
– Подойди ко мне. Поближе… Выпил? Для отваги или Звезду Героя обмывал?
.. – Вы Звезду не трожьте. Я ее не на капэ зарабатывал. А что выпил, не скрываю. Уже после разведки, ребята подтвердить могут.
Горелов положил руку на плечо Подгорбунского.
– Я тебя, тезка, люблю и уважаю. И Звезду ты за дело получил. Но если еще раз…
Подгорбунский, насупившись, отошел в сторону.
– …Вы понимаете, Николай Кириллович, – объяснял мне Горелов, – Володя бог насчет разведки. Бывает гениальный музыкант, изобретатель, художник. А у него дар разведчика. Но брать город или не брать, а если брать, то какими силами, он мне не указчик. У меня самого из-за того Станислава душа изболелась. А тут еще Гавришко. Вытянулся как аршин проглотил: «Разрешите высказать свои соображения?» А чего высказывать, я-то знаю: с двадцать второго июня Гавришко как в Станиславе завел свой БТ, так больше ни жинки, ни сына Валерки в глаза не видел. Сколько мы с ним писем в Бугуруслан, в эту розыскную контору, отправила! А ответ все один: «В списках эвакуированных не значится…» Сидим с начальником штаба, думаем. А у стола. Гавришко свечой маячит. Сбоку Подгорбунский, забыв про обиду, ждет только моего слова. Обернешься назад, Лариса у стены в шинель кутается, молчит, но с меня глаз не сводит… Сцена прямо-таки, как в театре. Никто слов не произносит, и всем все понятно. Ломали мы голову с начальником штаба, с комкором связались…
Горелов шумно перевел дыхание, отхлебнул из кружки. Я представил себе, как в этой комнате с кабаньими мордами, оленьими рогами и лесньми пейзажами «окруженный со всех сторон» Горелов принимал решение… Сейчас здесь не было ни Гавришко, ни Ларисы, ни Подгорбунского, ни начальника штаба. В углу у телефона клевал носом связист, на другом конце той же скамьи ординарец пытался на немецкой спиртовке поджарить яичницу. Кубики сухого спирта не разгорались, и ординарец шепотом ругался. Вошел младший лейтенант без шапки, попросил разрешения обратиться к командиру бригады и положил перед Гореловым исписанный на обороте кусок топографической карты. Горелов пробежал глазами текст.
– Гавришко докладывает. Находится в центре Станислава, на Красноармейской улице. Помнит, черт, названия. Вошли без выстрела. Только у комендатуры небольшой бой. Захватили коменданта и еще нескольких офицеров. Сейчас двинут на вокзал… Вот и все… Не очень-то люблю, когда без выстрела.
Горелов склонился к вычерченному еще Гавришко плану Станислава и заключил в красный кружок комендатуру:
– У него двадцать два танка. Десант – мотострелковый батальон, сильно пощипанный. Все, что мог, дал. Это Володе Подгорбунскому кажется просто: снял бригаду и айда, «Даешь Станислав!»
– Подгорбунский тоже в Станиславе? – поинтересовался я.
– В соседней комнате дрыхнет. Я, когда сказал ему, что не пущу в город с Гавришкой, думал, взорвется от негодования. Заикаться даже стал. Вы заметили, с ним это случается после контузии. Кипит в нем лава. Но он при женщине никогда себе грубого слова не позволит. Покипел, покипел, а дисциплина верх взяла: «Какие будут приказания, товарищ полковник?» Ступай, говорю, в спальню господина лесничего и спи… Нахамил, сукин сын, выпил, а раздражения против него не имею. Доверяю больше, чем иному паиньке. Он не только гениальный разведчик, он – честнейший разведчик. А что выпивать стал или малость зазнается, так ведь не всякий такое нервное напряжение и этакую популярность выдержит.
– Не слишком ли снисходительно и терпимо? – спросил я.
– Может, и слишком. Что поделаешь? С назидательной беседой к нему не подступишься, отбреет в два счета: это все, мол, я еще с детской колонии знаю. Мне трудно согласиться с Гореловым. Если у разведчика от водки или от славы закружится голова, вряд ли на него можно положиться. Но было не до споров о Подгорбунском. Гавришко радировал о потере трех танков. Все три водбиты фаустпатронами. Мы были предупреждены штабом фронта о появлении у немцев совершенно нового реактнвного противотанкового оружия. Однако лишь в Станиславе впервые столкнулись с подразделениями фаустников. Мина кумулятивного действия с дистанции до сотни метров пробивала 160-200-миллиметровую броню. В уличном бою, когда танк зажат между домами, из окон, чердаков и подвалов которых может бить фаустник, это очень опасное оружие.
Если бы Гавришко имел достаточное количество пехотая, способной прочесывать дома, фаустники были бы менее страшны. Но полторы сотни автоматчиков для такого города, как Станислав, – ничтожно мало. Ни Горелов, ни Дремов не могли подбросить пехоты. У них ее не было. Да и не только пехоты. Бригадные и корпусные резервы, как говорят штабники, давно задействованы.
– Не исключено, что у Гавришки дела сложатся неважно, – мрачно бросил Горелов. – Но не будем прежде времени каркать…
Ординарец с грехом пополам зажарил яичницу. Горелов подозрительно посмотрел на сковороду, перевел взгляд на солдата:
– Яйца откуда?
Ординарец невинно удивился:
– Как откуда? Из-под курей.
– Не придуривайся.
– Ну, у хозяйки одолжил. Тут пани добрая.
– Одолжил? И отдавать будешь? Больше ничего не одалживал? Смотри у меня.
Кусками хлеба мы собирали растекшиеся по сковороде желтки.
– Так вот я о Станиславе, – возвращался Горелов к прежнему разговору. Хоть и поддался здесь малость настроениям, не считаю это авантюрой. Город нам необходим и для следующего этапа наступления и для того, чтобы прощупать немецкие силы, планы. Да и левому флангу, какая ни на есть, а все помощь. Если взяли его не по правилам, так ведь не впервой действуем по обстановке да по наитию. И хорошо. От этого у командиров смелости прибавляется. Не только противника меньше боятся, но и ответственности перед начальством тоже… Опять же и такой факт, как женщины и ребятишки, в барак согнанные, нельзя со счетов сбрасывать…
Я смотрел на Володю, на его потемневшее от усталости и щетины, но, как всегда, живое, энергичное лицо и вспоминал один из наших первых разговоров зимой на Калининском. Горелов признавался тогда в своем неумении охватить целиком динамичный наступательный бой, взять в руки все нити управления таким боем.
А сейчас передо мной сидел командир, для которого наступление – родная, привычная стихия. Он не гарантирован от промахов, но неудачи для него – уроки, а не травмы. Ничто уже не ослабит его убежденности в своем внутреннем праве и в своей способности вести людей в наступление…
Несмотря на сверхкрепкий чай, завтрак вконец разморил меня, не спавшего уже третью ночь. Опыт подсказывал: сопротивляться бесполезно, надо заснуть часа на полтора – два, и работоспособность вернется. Мой вид был, вероятно, достаточно красноречив. Горелов через плечо ткнул пальцем в сторону дубовой двухстворчатой двери:
– Спальня царская. Две кроватищи. Каждая на танковый экипаж рассчитана.
На одной из кроватей в «царской спальне», разметавшись, спал Подгорбунский. Заляпанные разношенные хромовые сапоги стояли у тумбочки. Ловко накрученные портянки держались без сапог. Для шика ушитые в икрах бриджи обтягивали голенастые ноги. Ремень был ослаблен, кобура передвинута на живот. Сквозь расстегнутый ворот трогательно белела тонкая, покрытая золотистым пушком шея и торчала острая ключица. Вероятно, Володя заснул, забыв снять шлем, и сбросил его уже во сне. Шлем лежал рядом на подушке. Темно-русые волосы упали на выпуклый лоб, на глаза, прикрытые чуть дрожащими веками. Лоснившееся от пота лицо хранило следы сажи, почти не заметные на ввалившихся щеках, но особенно выделявшиеся на подбородке, рядом с белыми крупными зубами полуоткрытого рта.
И это – известнейший разведчик, разведчик-«гений»? И это – зазнавшийся офицер, хватающийся за пистолет при одном слове несогласия!..
– Если верить, будто сон возвращает человеку его истинвый облик, то передо мной лежал совсем еще юный паренек, почти мальчишка. Задиристый, своевольный, добрый и очень усталый, замученный.
На приземистой прикроватной тумбочке валялись кое-как брошенные ватная телогрейка и грязный, мокрый маскхлат, На тумбочку у второй кровати (в спальне царил закон неуклонной симметрии, все было сдвоено) я положил полевую сумку и шапку, стянул сапоги и по примеру Подгербунского отпустил ремень.
Война приучила меня в конце концов засыпать в ту же секунду, когда голова опускалась в лучшем случае – на подушку, в худшем – на собственную руку. И так же стремительно пробуждаться.
…Проснувшись, я увидел на соседней постели незнакомое усатое лицо. Неизвестный мне майор спал в шинели, сапогах и, как некоторые на фронте, в завязанной под подбородком ушанке.
– Где Подгорбунский? – спросил я у Горелова, входя в соседнюю комнату.
– Э-э, его и след простыл. Комкор вызвал. А насчет вас командующий запрашивал. Как понимаю, на левом фланге камуфлет получается…
– Что в Станиславе?
– Гавришко ведет бои, имеет потери. Раненые от него прибыли. Один наш офицер дочку нашел, а жену немцы вчера убили… В спальне видели усатого майора? Это наш пээнша, тоже был в городе… – Горелов обернулся к ординарцу: Майор Исаков сколько времени отдыхает?
Солдат посмотрел на стенные часы, прикинул в уме.
– Один час сорок восемь минут.
– Буди.
Усатый майор, на ходу оправляя шинель, подкручивая усы и развязывая уши цигейковой шапки, вошел в комнату.
– По вашему приказанию…
– Подсаживайтесь, Исаков, – кивнул Владимир Михайлович. Он был все в том же меховом жилете, так же обтягивала крепкие плечи шинель внакидку. Только успел побриться.
– Так вот, – продолжал Горелов, отодвигая в сторону какие-то бумаги и освобождая карту. – Противник концентрирует силы северо-восточнее Станислава и, как видно, постарается ударить на юг, чтобы отрезать Станислав. Нам надо перегруппироваться и подготовиться к встрече. Этим сейчас и занимается начальник штаба. Вам, Петр Васильевич, ехать в Тысменицу и на месте контролировать выполнение приказа. Не просто, конечно, контролировать, а помогать. Да вы и сами знаете… Уточните задачу у начальника штаба.
– Золотой командир, – повернулся Горелов вслед ушедшему майору. – Горяч и толков. Молчун при этом. Из конников. Переживает свою штабную судьбу… Кстати, докладывая про лейтенанта Духова, вы им интересовались, кажется? Отличился Духов в бою за вокзал. Не только смелостью, но я. умом отличился. Ловко так обошел с севера, отрезал линию на Львов… Пожалуй, надо на роту ставить, созрел парень… Докладываю, Николай Кириллович: судя по всему, гитлеровцы решили не просто вернуть Станислав, но окружить группу Гавришко и взять хоть какой-то реванш за все свои иеудачи. Им это сейчас важнее важного. Даже «хейнкелей» подбросили, бомбят. Радисты наши перехватили донесение с «рамы»: русских танков, мол, не видно… Теперь и вовсе осмелеют. Вдруг Горелов улыбнулся:
– Хорош бы я был, если б всю бригаду бросил на Станислав. Пожалуй, Володе Подгорбунскому рано еще бригадой командовать…
Я связался по рации с Катуковым. Действительно, на фланге положение с каждым часом ухудшалось. Но было решено, что я эти сутки проведу здесь, в корпусе Дремова, а потом вернусь на КП армии.
Когда я уже стоял возле машины и Миша Кучин прогревал мотор, Горелов спросил:
– «Дедушку» скоро уволите с должности директора нефтепромыслов? Трудновато без него…
Смеркалось, когда я, побывав в нескольких подразделениях, подъехал к Тысменице. Миша Кучин, подняв капот, стал возиться с мотором. Мы с Балыковым вышли размять ноги. Вдруг земля задрожала, сотрясенная словно бы подземными толчками. Разноцветные нити прошили небо. Не сговариваясь и не задумываясь, мы скатились в кювет. Только Миша Кучин, комкая в руках тряпку, как зачарованный поднял вверх голову. Грохот и фейерверк продолжались несколько минут. Потом оборвались. Сразу наступила темень, тишина.
– Первый раз такое чудо вижу, – восторженно признался Миша.
– Лучше бы его и не видеть, – отозвался я. – Немецкий бронепоезд. Значит, наши отошли на южную окраину Станислава, не удерживают больше вокзал и железную дорогу.
К исходу следующего дня Гавришко с несколькими уцелевшими танками по приказу оставил Станислав, захватив раненых и освобожденные командирские семьи. Нам не удалось удержать город. Но и немцам не удалось осуществить свой план по окружению отряда Гавришко.
Неподалеку от Тысменицы Гавришко остановил «тридцатьчетверку», вылез наружу. У дороги сидел Подгорбун-ский с ящиком на коленях. Вокруг него толпились ребятишки.
– Вишь, Николай Иосифович, – обрадовался Подгорбунский, – взяли в немецкой машине коробку, думали там горькое, а оказалось – сладкое. Вот мелюзгу и угощаю. Тут одного паренька «москалем» кличут, вроде командира какого-то сынок. Тебя, «москаль», как звать?
– Валерка, – нерешительно ответил мальчуган в драном кожушке.
– Валерка? – дрогнувшим голосом переспросил Гавришко и, не различая дороги, расставив руки, пошел на паренька.
Растрепанная женщина, в одной кофте выскочившая из ближнего домика, была женой Гавришко…
Возвращаясь в штаб армии, я побывал в нескольких батальонах и полках и убедился, что бои на широком фронте имеют одну не обнаруживавшуюся прежде столь определенно особенность. Командир подразделения стал гораздо более независим. Возрастают его ответственность и его власть. И это служит проверкой не только военных, организаторских качеств, но и моральных.
Обедая с одним из командиров батальонов, я заметил:
– Борщ у вас знатный.
– У меня повар будь здоров, в ленинградском ресторане работал, – улыбнулся польщенный комбат.
– То есть как у вас?
– Грех такого мастера на солдатской кухне держать. Я и решил его к себе забрать, личным поваром сделать.
– Разве вам положен свой повар и два ординарца? – Ну, товарищ генерал, это формальности – положено не положено. Мне и оборону в десять километров занимать не положено, а занимаю….
Самоуверенный капитан, жаловавшийся на нехватку людей («каждый солдат на счету»), не сомневался в своем праве держать для обслуживания собственной персоны не только «личного повара», но и двух ординарцев. Пришлось поколебать убеждения командира батальона – повар был возвращен на солдатскую кухню, а второй ординарец – в роту.








