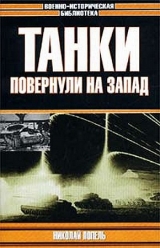
Текст книги "Танки повернули на запад"
Автор книги: Николай Попель
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 23 страниц)
Люди, не ведающие страха, существуют лишь в сказках. Однако переступить рубеж, с которого начинается бесстрашие, дано многим, почти всем. Мы своей воспитательной деятельностью и старались помочь перейти эту невидимую, но постоянно осязаемую границу. Доведенные до автоматизма навыки – это тоже, помимо всего прочего, помощь в нелегком рывке.
Но в момент схватки не ведутся беседы и рядом в машине обычно нет политработника. До автоматизма движений молодому танкисту еще далеко. Каждый шаг требует сосредоточенности, а как тут сосредоточишься, если в голове тяжелый туман, ноги и руки – свинцовые.
– Чего ж ты, чудо-юдо, не посоветовался с командиром роты, с ребятами не поговорил? – рассердился Данилюк.
– Боялся.
– Чего боялся?
Духов покосился на вернувшегося лейтенанта с розовым шрамом.
– Боялся, трусом окрестят.
Выступили члены партбюро. Я рассказал о старшем сержанте Зинченко, который, обвязав себя гранатами и взяв по гранате в руки, бросился под танк Т-IV… Зинченко мог укрыться в окопе и, вероятно, уцелел бы. Однако он сознательно, ценой своей жизни, уничтожил немецкий танк.
Духов стоял, слушал. Пухлые губы его непроизвольно шевелились. Лицо отражало сложную внутреннюю борьбу – горечь, острое, доходящее до презрения недовольство собой, готовность переломить себя.
Пришло время решать. Лейтенант со шрамом предложил исключить.
Духов вздрогнул, поднял голову. Дышал он часто и глубоко.
Лейтенант увидел, что члены партбюро его не поддерживают, и мрачно произнес:
– Снимаю насчет исключения. Предлагаю строгача.
– Имею другое предложение, – поднялся Данилюк. – Взыскания не выносить, поскольку товарищ Духов чистосердечно во всем признался. Поручить парторгу батальона старшему лейтенанту Данилюку – мне то есть – в следующем бою действовать в экипаже лейтенанта Духова за командира. Ему же – мне то есть поручить утрясти это дело с комбатом.
Предложение было принято при одном воздержавшемся.
Назавтра Данилюк занял место в башне духовского танка. Духов действовал за башнера. Бой был жаркий (в те дни других не случалось).
Духов стрелял слишком быстро. Он боялся, что наступит оцепенение, и не давал покоя своим рукам.
Данилюк видел: снаряды не попадают в цель. Отодвинул Духова и сам стал стрелять. По мере того как надвигались немецкие танки, разрывы вздымались все ближе. Снаряд срикошетировал о башню. Осколки металла оцарапали лица Духову и Данилюку.
– Живой? – крикнул Данилюк.
– Живой.
Теперь Духов снова стрелял, а Данилюк отдавал команды. Понять, попал ли Духов или нет, уже нельзя было. Все смешалось. И Данилюку стало не до Духова, а Духову – не до собственных переживаний.
– На войне – не в училище за партой, – рассказывал мне вечером Данилюк. Очухался, когда мы все вместе в одной воронке загорали: и Духов, и механик-водитель, и радист, и я. Ну, думаю, живы… У танка моторная группа вышла из строя. Тикали прямо под огнем. Потом танк отбуксировали… Я к Духову не пристаю, а он молчит, как рыба. То ли думает, то ли опомниться не может. Одно спросил: «В следующий раз пойдешь с нами?» – «Пойду». – «Ладно, говорит, еще раз и все…» Выправится парень. Совесть имеет. А на войне это не последняя вещь.
Слушая Данилюка, можно было подумать, что он старше Духова лет на десять, хотя разница у них в возрасте всего два года. Но эти два года Данилюк провел на фронте…
В летних боях под Курском определился основной костяк младших и средних командиров нашей танковой армии. Это были люди, способные решать боевые задачи и задачи воспитания. Благодаря им, в первую голову, мы сумели прорвать немецкие рубежи, рассечь вражеские коммуникации, а когда, обессилев, заняли оборону – удержать завоеванное.
В район Ахтырки гитлеровцы подтянули свежие танковые части.
Сейчас в разговоре Епишева и Чураева я снова слышу фамилию Бакулина.
Профессор, у которого конспиративно жил Бакулин, оказался предателем. Кое-кто из подпольщиков и связных не устоял под пытками. Подводила порой и неумелость, наивность в конспирации. Однажды на встречу со связным сразу пошли несколько руководителей и попали в засаду.
Но, несмотря на аресты, казни, провалы, конспиративные ячейки и райкомы не прекращали работу. В городе распространялись сообщения Совинформбюро, листовки. 23 ноября 1941 года взлетел на воздух дом № 17 по улице Дзержинского, где помещался гитлеровский штаб, а на следующий день был взорван большой мост, соединявший Холодную гору с центром.
Хотелось узнать поподробнее о Бакулине и его ближайших товарищах. Но работникам Харьковского обкома было не до меня. Да и я не мог оставаться здесь долее. Надо было возвращаться в армию.
Наступление росло, ширилось. Ахтырская группировка противника, оставляя в арьергарде танковые роты и автоматчиков, откатывалась на юг и юго-запад. Заслоны цеплялись за каждую реку и высотку, стараясь сдержать наш напор.
Конечно, первая танковая была обескровлена. Для того чтобы пересчитать танки в ином батальоне, хватало пальцев на руке. Однако эти батальоны сбивали арьергарды и упрямо шли вперед.
Порыв всеобщего наступления владел войсками. Вслед за Харьковом были освобождены Сумы. Центральный фронт взял Севск и Глухов. Южный и Юго-Западный фронты очищали Донецкий бассейн. Гитлер не в состоянии был заткнуть все дыры, залатать прорехи.
Далеким отзвуком побед Советской Армии прозвучала весть с берегов Средиземноморья. Италия капитулировала перед союзниками. Ось Берлин – Рим разлетелась.
4
10 сентября поступил приказ Москвы: армия выводится в резерв Ставки и сосредоточивается в районе Сум.
Война уходила на запад, мы возвращались на восток. Еще где-то далеко в немецком тылу находился рубеж, с которого нам предстояло снова вступить в бой. За то время, пока война к нему подойдет, мы должны набраться сил, окрепнуть, осмыслить старый опыт, подготовиться к новым сражениям.
Иногда говорят: «Вывели на отдых». Нет ничего нелепее таких слов. Чем-чем, а уж отдыхом и не пахнет в части, отведенной в резерв.
Армия расквартировалась в местах, где каждый метр сохранял следы ожесточенной битвы. Железо вонзилось в землю и торчало из нее стволами проржавевших пушек, танковыми гусеницами, остовами автомашин, стабилизаторами неразорвавшихся авиабомб.
Не все поля были убраны. Пожелтевшие, поникшие хлеба осыпались, а собранные в копны тщетно ждали обмолота.
– Эта задача тоже на нас теперь возлагается, – сказал Журавлев, когда мы объезжали район расположения, – надо помочь товарищам колхозникам.
Разграбленная оккупантами деревня не имела ни тягла, ни повозок, ни сельскохозяйственных машин. А прежде всего – не хватало рабочих рук. Слабые детские руки и измученные руки женщин несли непосильный груз.
Бои переместились к Днепру, и канонада не долетала до Сум. Но что ни день, то тут, то там раздавались взрывы и над притихшими полями вставали черные клубы. Страшный враг – мины – брал жертвы чем придется: ребенок ли, старуха ему все равно…
Мы втроем – Катуков, Журавлев и я – направились в обком партии.
В окнах вместо стекол – газеты, со стен свешиваются порванные провода.
Секретарь встретил так радостно, что нам стало не по себе – оправдаем ли его надежды?
– Машин дадите?
– Дадим.
– Ремонтников подбросите?
– Подбросим.
– Поможете восстановить кое-какие общественные постройки?
– Постараемся.
– А как с минами быть? Все кругом заминировано. Еще и город не очистили…
Своими силами нам, конечно, не извлечь все мины. Как поступить? Решаем послать инструкторов по деревням, будут учить крестьян искусству разминирования.
Кажется, мы оправдали надежды секретаря обкома. Он благодарит, зовет к себе домой обедать.
В пустой комнате стол и одна табуретка. Рассаживаемся на чемоданах, принесенных из коридора по случаю прихода гостей. Стол застелен бумагой, и на окнах бумага заменяет занавески.
Жена секретаря ставит постный борщ, в котором преобладают помидоры, и большое блюдо опять же с помидорами.
– На помидоры урожай нынче, – объясняет секретарь. Мы едим помидоры с черствым и пресным «трофейным» хлебом…
С учебой на первых порах не ладится. Настроение у людей понятное: чего учить ученых, вон как немцев бьем, лучше бы отдохнуть.
Надо пересилить это настроение, овладевшее не только бойцами, но и многими командирами. Начинаются партийные собрания, комсомольские собрания, совещания в штабе, беседы агитаторов.
Но одних собраний и уговоров недостаточно. Необходимо найти новые формы учебы, которые будут интересны людям. Рождается идея технических конференций, посвященных одной теме – живучести танков.
Танковый мотор рассчитан на 200 моточасов. После этого он должен идти в капитальный ремонт. Но у нас уже есть машины, которые превзошли эту норму.
Танкист может зевать на строевой подготовке, а когда речь заходит о живучести «тридцатьчетверки», он не останется безразличным.
Минувшее наступление подсказало необходимость «осаперивания» танкистов. Танки уходят вперед, саперам за ними не угнаться. Кто будет обезвреживать минные поля, если не сами танкисты и десантники? Нет, от саперного дела тоже не отмахнешься.
Армия превращалась в учебный комбинат. Расписание занятий обретало силу приказа. На курсах лейтенантов готовились командиры экипажей и взводов. Семинары должны были помочь восполнить потери в парторгах и комсоргах. Своя учеба у штабников и своя – у политотдельцев. Проходят сборы интендантов и медиков, снайперов и разведчиков…
Гимнастерки не просыхали от дождей и пота. Но и отдых нужен. Младший лейтенант Мочалов откровенно признался, что, когда его взвод отправили на заготовку леса, он вместе с бойцами, забравшись в укромное место, проспал целые сутки.
– Даже опухли. Как пьяные были. Потом отошли. И все, что положено, наверстали… Нарубили дров… Вы не бойтесь, в прямом смысле нарубили…
Лес заготавливали для ремонта колхозных клубов, вернее, для красноармейско-колхозных. Пока армия находилась под Сумами, мы как могли и чем могли помогали местным властям.
Мочалов по собственному почину ввел в своем взводе ежедневно получасовые занятия по строевой. Я не верил глазам своим, глядя, как он бегает вокруг строя, командирски покрикивая:
– Не тяни ногу!.. Руку вперед до пряжки, назад до отказа!.. Ноги не слышу! Ноги не слышу!..
Оставил людей на попечение помкомвзвода и подошел ко мне:
– Не перегнул я насчет строевой?.. И мне думается, нет. Тут свой расчет. Трудно быть командиром во взводе, где прежде служил солдатом. В бою слушаются, а здесь иной раз и пошлют куда подальше… А вот как дам строевой минут на тридцать, каждый почувствует – командир… Знаю, чему вы улыбаетесь. Насчет того, что я плакался: командирские навыки, мол, отсутствуют. Правда, отсутствовали, а стал командовать – появились…
Появились не только командирские навыки. Весь Петин вид изменился. Ворот плотно охватывает тонкую юношескую шею, на ногах ладные, сшитые из плащ-палатки сапоги. Грудь с двумя орденами и двумя медалями, туго обтянутая гимнастеркой, уже не кажется немощно-куриной.
Командиры-выдвиженцы наподобие Пети Мочалова порой проявляли больше настойчивости при обучении солдат, чем присланные из училища. Они по собственному опыту знали цену боевому умению.
Военный совет получил письмо от ветерана нашей танковой армии сержанта Ковалева, который находился на курсах под Москвой. Раненый Ковалев еще в госпитале внес пятнадцать тысяч рублей на строительство танка и просил И. В. Сталина, чтобы ему дали возможность стать механиком-водителем собственной боевой машины. Сталин телеграммой поблагодарил Ковалева и заверил, что желание его будет удовлетворено.
Сержанта Петра Ковалева после излечения послали на курсы. Там он сдружился с Иваном Скакуновым, Леонтием Кулюбой и Григорием Шкутом. Показал им телеграмму Сталина, и те тоже решили отдать все свои деньги на строительство танков.
«Вчетвером мы внесли на два танка и ждем не дождемся, когда, закончив курсы, получим их, – писал Ковалев. – Смущает одно – попаду ли в свою часть. Боюсь, направят куда-нибудь еще. Воевать, конечно, можно всюду. Но все же хочется в свою бригаду, к своим хлопцам. Скакунову, Кулюбе и Шкуту я порассказал о нашей армии. Они тоже желают попасть к нам, тем более что бригада теперь – гвардейская.
Прошу от себя и от моих новых товарищей – похлопочите, чтобы мы попали в нашу гвардейскую часть, а уж мы оправдаем доверие».
Я написал в Москву в Главное управление бронетанковых войск, и мне ответили: просьбу Ковалева уважим.
Наступил день, когда на станцию Сумы прибыл эшелон, на платформах которого возвышались скрытые серым брезентом танки.
Сброшен брезент, и по настилу медленно, словно пробуя гусеницами прочность бревен, спустилась «тридцатьчетверка». На башне ее – гравированная пластинка: «Танк построен на средства патриотов нашей Родины товарищей Ковалева П.Я. и Скакунова И.М.».
А с соседней платформы сползает танк, на башне которого такой же текст, только имена другие: Кулюба Л.С. и Шкут Г.Е.
Вдоль железнодорожного пути застыла в торжественном строю бригада. На правом фланге колышется, переливается на солнце новенькое, лишь второй раз расчехленное гвардейское знамя. Воздух наполнен ритмичным гулом моторов.
Приобщение боевых машин к людям исполнено сокровенного смысла. Отныне судьбы их нераздельны. Холодная легированная сталь прикрывает собой теплые человеческие тела. Люди дают жизнь этой стали, наделяют ее силой, подвижностью, превращают в орудие защиты своих идеалов, своей страны. Стальная коробка становится для экипажа родным домом. Здесь он не только воюет, но и спит, ест, а случается – и принимает смерть.
Танк за танком спускаются с высоких платформ, движутся вдоль строя и замирают перед ним.
Это – модернизированные «тридцатьчетверки» с новой 85-миллиметровой пушкой (о такой мечтал парторг Третьяков!).
Много танков видел я на своем армейском веку – иностранных и отечественных, обладающих различными достоинствами, но и не лишенных недостатков. Одни были надежно прикрыты броневыми листами, но малоподвижны, другие, наоборот, отличались быстроходностью, но тоная броня их боялась встречи даже с малокалиберным снарядом. Были огромные танки, напоминающие наземные дредноуты. При своих слоновьих размерах они более всего подходили на роль мишеней. Высокий американский «шерман» словно сам просился на перекрестье артиллерийской панорамы, а английские «матильды» и «валентайны» часто становились братской могилой экипажа, если ему не удавалось воспользоваться неудобно расположенным аварийным люком.
«Тридцатьчетверку» я бы назвал танком-песней. И танкисты меня поймут. В ней достигнута удивительная гармония качеств, необходимых в бою, – огневой мощи, бронирования, подвижности. Ее не страшит бездорожье, она прокладывает себе путь и по песку и по грязи. Ведет огонь с остановок и в движении. Ее двигатель могуч и неприхотлив.
К этому прибавляется еще и гармония линий. Наклоны брони, округлость башни, приземистость – все рационально, все дышит целеустремленностью, волей, силой.
«Тридцатьчетверка» в большей мере, чем какая-либо другая система, оказала воздействие на танкостроение всех стран. Ни один конструктор не создавал свой танк, не держа в уме параметры и достоинства «тридцатьчетверки».
Может быть, я пристрастен? Пусть скажут те, кого в этом не заподозришь. Вот английский отзыв:
«Т-34… Высокая маневренность и относительно свободное боевое отделение делают этот танк любимцем советских танкистов… Его маневренность, огневая мощь и качество брони великолепны. Дополнительно выдающейся чертой конструкции является наклон броневых листов».
Вот американский отзыв:
«Т-34 в своих основных решениях является хорошей конструкцией».
В 1943 году знакомство англичан с Т-34 заставило разработать аналогичную конструкцию в виде танка «кромвель». В том же году американцы, изучив «тридцатьчетверку», осуществили капитальную модернизацию МЗС и стали выпускать танки М4-А2 – «Генерал Шерман».
Но интереснее всего, пожалуй, мнение немецких специалистов, которые с настороженным вниманием следили за нашей «тридцатьчетверкой». Начальник Куммерсдорфского полигона полковник Эссер в декабре 1942 года на заседании военно-технической секции союза германских инженеров утверждал:
«Из числа новых танков особенно выделяется танк Т-34, обладающий рекордной скоростью в 54 километра в час и удельной мощностью 18 лош. сил на тонну. Русские создали танки, которые в конструктивном и производственном отношении, безусловно, заслуживают внимания и в некоторых отношениях превосходят танки наших прочих противников».
А в лекции, которая читалась в марте 1942 года в бронетанковой школе в Вюнсдорфе, говорилось еще более категорично:
«Из числа танков Красной Армии наиболее грозным является Т-34. Его эффективное вооружение, талантливо использованные наклоны брони и высокая подвижность делают борьбу с ним тяжелой задачей».
И уж, конечно, самым интересным является признание генерал-полковника Гудериана, идеолога танковой войны, одного из наиболее деятельных создателей танковых войск вермахта. В своих «Воспоминаниях солдата» он пишет:
«В ноябре 1941 года видные конструкторы, промышленники и офицеры управления вооружения приезжали в мою танковую армию для ознакомления с русским танком Т-34, превосходящим наши боевые машины. Непосредственно на местах они хотели уяснить себе и наметить, исходя из полученного опыта боевых действий, меры, которые помогли бы нам снова добиться технического превосходства над русскими. Предложения офицеров-фронтовиков выпускать точно такие же танки, как Т-34, для выправления в кратчайший срок чрезвычайно неблагоприятного положения германских бронетанковых сил не встретили у конструкторов никакой поддержки. Конструкторов смущало, между прочим, не отвращение к подражанию, а невозможность выпуска с требуемой быстротой важнейших деталей Т-34, особенно алюминиевого дизельного мотора. Кроме того, наша легированная сталь, качество которой снижалось отсутствием необходимого сырья, также уступала легированной стали русских».
Перечитывая сейчас эти высказывания наших бывших союзников и наших врагов, я вновь испытываю чувство, владевшее всеми нами в то сентябрьское утро на станции в Сумах. С благодарностью и гордостью думали мы о людях, которые создавали танки. Шершавая сталь «тридцатьчетверок» объединяла нас с ними, преисполняла готовностью, не жалея самой жизни, служить своему народу.
5
Из Москвы пришла нежданная телеграмма – Катукова и меня вызывали в Ставку. Недолгие взволнованные сборы, наказы на ходу – и вот две «эмки» и «додж – три четверти» ждут нас у крыльца.
Выхожу из хаты и отскакиваю в сторону, чтобы не попасть под брызги жидкой грязи. Из «виллиса» выскакивает Горелов.
– Николай Кириллыч, даже не просьба… не знаю, как сказать, – он растерян, тушуется, и мне трудно на него смотреть. – Командир корпуса отпустил на трое суток. Поезжайте с нами.
– Куда? С кем? Я в Москву…
– А с нами до Курска… Со мной и с Ларисой. Мы в Курске будем регистрироваться. Так задумано. Именно в Курске…
Вот о чем хлопочет Горелов, вот почему ему не хватает слов. Я обнимаю Володю и, заглянув в «виллис», поздравляю краснеющего старшего лейтенанта медицинской службы.
Катуков тоже обрадовался:
– Никогда не участвовал в свадебном путешествии!
Я приглашаю Горелова и Капустянскую в свою машину – здесь потеплее. Сажусь рядом с Кучиным, и кортеж трогается.
В зеркальце над ветровым стеклом вижу руку Володи, сжимающую напряженный кулак Ларисы. Она закусила нижнюю губу, опустила дрожащие веки.
Фронтовое счастье! Они остро ощущают несовместимость этих слов. И все-таки у них такое счастье, что им хочется только молчать.
Мы едем уже час. И не сказали ни слова. Когда машина вдруг остановилась и Кучин залез в мотор, я пошел в лес, наломал большой букет веток с желто-багряными листьями и преподнес его Ларисе…
С этим букетом она и вошла в низкую полутемную комнату, где ютился загс.
Единственным украшением невзрачной комнаты был фикус. Он уже достиг потолка, и новая зеленая стрелка, упершись в темную доску, склонилась вниз.
За столом, измазанным чернилами, сидел широкоплечий мужчина в потрепанном кителе с петлями от погон. Он оторопел, увидев сразу столько военных.
– Вам что, товарищи? У нас тут регистрация браков, смертей, рождений. Вы небось ошиблись.
– Нет, не ошиблись, – я прошел вперед. – Нам нужно зарегистрировать брак полковника и старшего лейтенанта.
Мужчина захлопотал, полез в один ящик, в другой.
– Я тут третий день, горком направил… Браков-то еще не было.
Из-за кадки с фикусом он достал костыли и тяжело, с протезным скрипом зашагал к шкафу.
– Куда ж, товарищ генерал, им штемпеля ставить? Паспортов нет. А по инструкции в паспорт полагается.
Он, как видно, считал меня основным специалистом по таким вопросам. И я, не желая ударить лицом в грязь, твердо произнес:
– Ставьте в удостоверение личности.
– Слушаюсь.
Подышав на штемпель, он навалился на него крепкой грудью…
Из загса мы поехали на квартиру, в которой жила Лариса до ухода в армию. Хозяйка была уже извещена о необычном возвращении своей постоялицы. Перекрестила ее, поцеловала, всхлипнула и позвала всех в комнату. Не просохшие после мытья полы сразу приняли грязь с наших сапог. Поверх белой скатерти на столе лежала вышитая дорожка. Перед иконой светила лампада. На комоде, из-под которого вместо одной ножки торчал кирпич, таращил круглые глаза бульдог-копилка с широкой прорезью на лбу.
Сели за стол. Достали из чемодана фляжки, консервы. Выпили за молодых, закусили. Вопреки обычаю, второй тост провозгласила Лариса:
– За Володину дочку… За нашу с Володей дочку… Потом пили за победу, за счастливое возвращение. Почему-то не кричали «горько» – не получалось…
Прежде чем стемнело, я с Катуковым двинулся дальше. Надо было спешить в Москву.
Новобрачные же, воспользовавшись трехдневным отпуском, остались в Курске…
Тяжки осенние проселки. Колеса втаптывают в грязь листья, ветки. «Додж» с надрывным гулом вытаскивает на буксире «эмки». От лужи до лужи, от ухаба до ухаба. Ни все мосты восстановлены. А восстановленные снова разбиты немецкими бомбами. Машины переваливаются с боку на бок в глубоких колеях объездов.
В минуты коротких остановок Михаил Ефимович отрешенно оглядывается по сторонам. Здесь, под Мценском, он воевал в сорок первом году.
– …Окружили нас тогда. Худо было. Думали: конец. Спасибо, Бурда прорвался, выручил… А мост этот «чертовым» назвали. Быки у него ходуном ходили под танками…
Ночью минуем моргающий красным глазом КПП на южной окраине Москвы.
Водители плохо ориентируются на темных улицах. Машины петляют, как слепые, пока не выезжаем к гостинице «Москва». С надеждой на отдых распахиваем зеркальную дверь.
– Вам номера не бронировали. У Катукова есть где остановиться. Но куда деваться мне с Балыковым и Кучиным?
– Товарищ генерал, – обращается Балыков, – имеется адресок. Один политотделец дал, навестить просил стариков…
Выбирать не приходится. Поднимаемся по улице Горького, сворачиваем на Тверскую-Ямскую, через Подвиски на Сущевскую.
Нажимаю костяную кнопку. Звонок не работает. Несмело стучу. Ждем долго. Наконец:
– Кто там?
Как объяснить кто? Но Балыков быстро находится:
– От Андрюши мы.
– От Андрюши, от Андрюши приехали! – неожиданно громко кричат за дверью.
Звенит цепочка, лязгает замок.
– Проходите, пожалуйста, проходите.
Коридор московской квартиры: сундук, на нем корзинка, на корзине чемодан. Рядом стоит на попа матрац с вылезшими пружинами.
Тесные, заставленные комнаты. На комоде большая фотография – мальчик в матроске.
– Это наш Андрюша! – кивает худой мужчина в телогрейке, одетой поверх рубахи. По лицу мужчины видно, что худоба его военного времени.
С кухни доносится шум примуса: хозяйка кипятит чай. Не хотят слушать моих извинений, расспрашивают о сыне. А когда я попробовал заикнуться, что завтра переедем в гостиницу, хозяин помрачнел:
– Конечно, товарищ генерал, в гостинице комфорту больше.
Не уехали мы назавтра в гостиницу. Так и остались в тесной квартирке на Сущевке. Но радушие хозяев не могло скрыть от нас их бедности.
В следующую ночь нас вызвали в Кремль на заседание Государственного Комитета Обороны.
За Спасскими воротами пустынно, тихо. Дежурные прикладывают руку к козырьку:
– Направо… Прямо… Направо…
Идем по широкому коридору. Паркет отражает сверкающие люстры. Одинокие фигуры маячат у зашторенных окон.
В буфете встречаемся с командующими и членами Военных советов еще двух танковых армий.
Никому не известно, зачем мы вызваны. Командующий БТМВ федоренко успокаивает:
– Ничего худого не может быть. Чтобы только отругать, с фронта не вызывают.
Перед дверью кабинета короткое замешательство. Кому входить первым, как докладывать?
Дверь открывается изнутри. На пороге Сталин.
– Заходите, товарищи.
Здоровается с каждым, показывает места за столом.
Без всяких предисловий Сталин переходит к сути дела. Существует мнение двух командующих фронтами (он не называет фамилий): надо облегчить танковые соединения, освободить их от тылов, от госпиталей, поставить на обеспечение к общевойсковым армиям; не связанные тылами танки будут мобильнее в рейдах. Наступает время глубоких длительных рейдов, и ГКО хочет знать нашу точку зрения.
Сталин медленно ходит по кабинету. Коротким жестом отсекает фразы.
– Ваше мнение, товарищи генералы?
Мы молчим. Не потому, что не знаем. На лицах генералов я читаю недоумение. Но все молчат. Минута, другая. Слышны только мягкие шаги Сталина.
Почему мы молчим, почему не решаемся сказать, что думаем? Неужели из-за боязни разойтись с еще не известным нам мнением Сталина?
Я решаюсь. Сидящий рядом Ворошилов удовлетворенно вздыхает:
– Дорог почин.
С чего бы начать? Как приступить? Но подходящее начало не подвертывается.
– Нельзя лишать танковые армии тылов, – говорю я. – Ни в коем случае нельзя. Наоборот, надо усилить тылы, увеличить прежде всего число хирургических госпиталей и госпиталей для легкораненых. Чтобы танковые армии не теряли свои кадры… Без подвоза, без службы тыла танковые рейды немыслимы. Общевойсковая армия, а тем более ее тылы не угонятся за танками.
Я пробил плотину молчания. Выступают остальные. Речь об одном – об усилении тылов. Нужен армейский автомобильный полк, нужен батальон подвоза горючего.
Сталин подходит к каждому говорящему. Пристально, не моргая, смотрит в глаза.
– Какие еще нужды?
Катуков просит дать танковым армиям несколько артиллерийских дивизионов. Садится и, вспомнив, встает снова:
– Необходим дорожно-восстановительный батальон. Аппетит приходит во время еды. Кто-то из командующих вслух мечтает об увеличении количества единиц в бригаде до ста.
– Нельзя, – отвечает Сталин. – Наша промышленность делает все возможное. Пока придется довольствоваться прежним числом машин в бригаде. А что до остального, дадим. Артиллерию дадим, автомобили дадим, инженерные части дадим, госпитали дадим.
Мы облегченно улыбаемся.
– Идея ликвидации тылов в танковых армиях единодушно отвергается, – Сталин оглядывает членов ГКО. – Не ослаблять танковые тылы, а усиливать их – такова сегодняшняя задача.
Без паузы переходит к следующему вопросу. Танковые армии впервые действуют в наших вооруженных силах. Они приобрели первый опыт наступательных операций. На основании его надо разработать инструкцию об использовании танковых армий в наступлении.
– Этим, товарищи генералы, вы займетесь, не выезжая из Москвы. Задержитесь на несколько дней. Как только инструкция будет готова, товарищ Федоренко доложит ее ГКО. Все.
Прямо из Кремля ночью едем в ЦК. Здесь, за стаканом чая, в товарищеской обстановке мы выкладываем все наши просьбы, сомнения и жалобы.
Подняты плотные шторы. За окном хмурое октябрьское утро с навалившимися на землю тяжелыми тучами.
Цекисты показывают свежие иллюстрированные журналы, предназначенные для немецких войск, и на прощание дарят нам новые автоматы, которые стали изготовлять на московских заводах. Мы отправляемся в Главное управление БТМВ.
Почти все время я провожу в БТМВ, Главном управлении кадров и ПУРе.
Когда выдается свободный час, брожу по улицам. Однажды случайно попадаю на рынок.
Мы, конечно, слышали о дороговизне в тылу. Но – 80 рублей кило картошки, 30 – одно яйцо… Такое не умещалось в сознании, никак не вязалось со скромным заработком нашего хозяина на Сущевке.
Я медленно шел между деревянными столами. Мальчуган лет семи ползал по земле, собирая в сумку капустные листья. Старуха промокала тряпочкой капли молока на темных досках прилавка и отжимала эти капли в банку. Инвалид предложил мне пакетик с сахарином…
Армия одержала первые великие победы. Эти победы избавили народ от угрозы порабощения, позволили свободнее вздохнуть. Но жизнь в тылу еще не стала легче, голод не разжимал свою костлявую руку.
Как и всякий на фронте, я мечтал побывать в тылу. Теперь я шагал по московским улицам и хотел одного – скорее в Сумы, скорее на фронт.
Работа наша подходила к концу, задание ГКО было выполнено. Предстояло еще с кем-то поговорить, кого-то увидеть. Но прав был Катуков: всех дел не переделаешь.
Мы уже собирались в отъезд, как вдруг раздался телефонный звонок из Президиума Верховного Совета. Михаил Иванович Калинин просит Катукова и меня приехать к нему.
Кремль малолюден и днем. Та же тишина на лестницах, в коридорах.
Михаил Иванович по-стариковски ласково щурится сквозь две пары очков, жмет руки, за локоть подводит к креслам:
– Вам по два ордена на брата причитается. Вручив ордена, снова усадил нас.
– Хочу спросить о самом главном. Как бойцы живут? Он задавал въедливые вопросы и все время предупреждал:
– Только не лукавьте, отвечайте правду. Вши бывают? Над костром рубахи трясут? Палочкой выбивают? Мы рассказали о дезкамерах.
– Всех успевают обслужить? А в рейде? Интересовался, достаточно ли белья, как часто меняем его во время боев. Особенно подробно расспрашивал о питании.
– Вы тогда ночью и о снарядах говорили, и о горючем, и об артиллерии. Но ни слова о питании солдат. Потому и досаждаю вопросами. Как бы ни было тяжело в стране, армия должна получать все необходимое. Это не двадцатые годы.
Михаил Иванович откинул голову, что-то припоминая.
– Да, в двадцатом году было… Приехал я на курсы краскомов в Николаеве. Гляжу – что за чудеса. Курсанты в белых брюках и в рубашках, будто в нижнем белье. У иных – красное обмундирование, у иных – синее. Спрашиваю, что сие означает. Дежурный докладывает: исподнее носим. Больше ничего не имеем. А цветное – это кто как покрасить сумел.
– Так и вы, Михаил Иванович, тогда в латаных клетчатых брюках щеголяли и в таких штиблетах, что не дай бог! – сказал я.
Калинин поверх очков уставился на меня:








