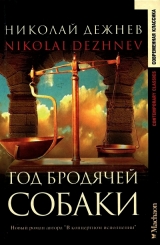
Текст книги "Год бродячей собаки"
Автор книги: Николай Дежнев
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 18 страниц)
– Ты чего же не пьешь? Или не нравится? – нахмурился он и без видимой связи с предыдущим продолжил. – Да и положение в государстве оставляет желать лучшего. Распустился народишко, на самодержца руку поднял. Слыханное ли дело, чтобы какие-то анархисты императору смертный приговор выносили и в газетах об этом пропечатывали! – Горчаков полез в карман домашней куртки и достал сложенный вдвое листок. – Вот, послушай, что мне докладывают. Только за последние два года четыре покушения! Какой-то псих стреляет в государя из револьвера, царский поезд пытаются пустить под откос, бомбу взрывают в самом Зимнем дворце… Слава Господу, семейство задержалось к обеду!.. Скажи мне, что все это должно означать?
Горчаков возмущенно сорвал с носа очки, швырнул их на стол.
– Видите ли, ваше высокопревосходительство!.. – начал было Дорохов, но министр его тут же оборвал:
– По имени-отчеству! И, сделай милость, без дипломатических уверток и экивоков! Говори, что думаешь.
– Брожение в народе, Александр Михайлович, в этом вся причина. Много сразу свободы государь дал, оттого в умах произошло опьянение. Выждать надо, люди скоро попривыкнут, начнут понимать, как по-новому жить, куда девать свои руки и буйную голову.
– Думаешь, пройдет? – бросил Горчаков острый взгляд на гостя. – Твои бы слова, Андрей Сергеич, да Богу в уши! Только что-то мне не очень в это верится… В одном ты прав – надо выиграть время. Момент переломный, и уж больно все тонко, на живую нитку. У меня такое ощущение, что именно сейчас решается судьба России, и не на год-два, а вперед на многие десятилетия. С годами, а человек я старый, поневоле возникает чувство, которое можно назвать предвосхищением хода истории. За долгую жизнь много всякого прошло перед глазами, есть о чем подумать, с чем сравнить. Это как раскладывать пасьянс: чем больше карт перед тобой на столе, тем точнее знаешь, какая ляжет следующей. Так вот, чувство это, чувство предвосхищения будущего, очень меня беспокоит. Уж больно много я понимаю о нашем с тобой народе, чтобы верить в бескровность грядущих перемен. Я и государю об этом говорил, но он – я-то вижу – все страхи мои и опасения списывает на старость. Дай Бог, конечно, чтобы оказался я не прав, но… – Горчаков вздохнул. – Начатые Александром реформы взбаламутили общество, породили у людей надежды и неоправданные иллюзии, и их можно понять. Жизнь дается единожды, и так хочется прожить ее человеком свободным. Только одного они в толк не возьмут, что в такой стране, как Россия, любые перемены к лучшему требуют значительного времени. А зажать народ в тисках, переломать слабые еще ростки реформ можно в одночасье. Но именно этого-то наши господа революционеры и либералы совершенно не понимают. Никто ведь не толкал государя-императора давать крестьянам свободу и реформировать жизнь народа, так цените это, оберегайте царя-освободителя!.. А им кажется, что все можно решить одним взрывом или выстрелом. Это, душа моя, не от большого ума, потому-то и бомбисты все как один недоучки или полупсихические…
В комнату вступил с чайником Прохор, но Горчаков погнал его с глаз одним движением руки.
– Что-то ты, Андрей Сергеевич, плохо службу знаешь! – кивнул князь в сторону графинчика с вином, подождал, пока Дорохов наполнил мадерой рюмки. Заговорил не сразу, слова произносил с расстановкой, будто вбивал гвозди. – Сегодня утром заезжал ко мне Лорис-Меликов. Знаешь такого?
Андрей Сергеевич улыбнулся. Трудно было не знать министра внутренних дел, который, по существу, в течение года был в России едва ли не диктатором. Человек широко известный, боевой генерал, командовавший во время последней войны с турками Отдельным Кавказским корпусом, Лорис-Меликов был Дорохову симпатичен.
– Конституцию готовит. Завершающий пакет реформ. Советовался. – Князь взял со стола рюмку и лихо, по-гусарски опрокинул содержимое ее в рот. Под успевшей состариться оболочкой Андрей Сергеевич увидел все того же энергичного и решительного Горчакова. Александр Михайлович продолжал: – Знаешь, что я ему в первую голову сказал? – старик остановил взгляд на лице своего гостя. – Берегите государя, Михаил Тариелович! – сказал я генералу. Не приведи Господь, убьют, тогда уже ничего не поможет и никакая твоя конституция не понадобится. Если либеральные реформы кончаются ничем, за ними наступает реакция, требование твердой власти и железной руки. А это лишь загонит болезнь вглубь, что рано или поздно приведет к взрыву. Конечно, не мне разбираться в конституции, не мне при ней жить, одно только знаю – начатое дело требуется довести до ума, а для этого многое нужно. Нужны талантливые, честные люди – и они в России есть, – и нужно время, много времени, для того чтобы встать в один ряд с просвещенной Европой. Если же все бросить на пол-пути или, того хуже, воротиться к тому, с чего начинали, то к власти неминуемо придет чернь, и тогда будет действительно страшно!
Старик откинулся на спинку кресла и с минуту отдыхал. Его высокий, бледный лоб покрывала испарина. Он промокнул ее платком, сказал тихо, не меняя позы:
– Конституцию Лорис-Меликов представит государю первого марта. Думаю, Александр Николаевич ее подпишет. Очень мне хочется, чтобы в Россию, наконец, пришла весна…
Дверь библиотеки приоткрылась, и в образовавшуюся щель протиснулась потерявшая свое надменное выражение физиономия Прохора:
– Чай простынет, Александр Михайлович!
– Ладно, неси. Все равно не отстанешь, – разрешил Горчаков.
С мгновенно вернувшейся к нему важностью и барственностью в движениях камердинер приблизился к столу и неспеша наполнил чашки темно-оранжевой жидкостью. В комнате распространился мощный запах хорошего чая. На столе появилась коробка английского печенья и вазочка с вареньем.
– Таблетку сейчас выпьете или на ночь?..
Однако, увидев нахмурившееся лицо князя, Прохор почел за благо побыстрее ретироваться. Александр Михайлович пододвинул к себе вазочку, положил на розетку несколько вишен. Запивая варенье чаем, он из глубины кресла наблюдал за Дороховым, однако Андрей Сергеевич в выдержке хозяину дома не уступал и нетерпения не выказывал.
– А ведь, наверное, думаешь: с чего бы это старик так разговорился? – предположил Горчаков. – Потерпи, сейчас узнаешь. Я ведь за тобой давно приглядываю, еще с тех времен, когда ты вышел из Пажеского Его величества корпуса. И что академию по первому разряду закончил, знаю и про то, что в Военно-ученом отделе Генштаба служил. Все вы у меня как на ладони: и граф Игнатов, бывший директор Азиатского департамента МИДа, сидевший в Константинополе, и полковник Паренсон, всю войну проведший в Будапеште…
В силу своего положения князь действительно был неплохо осведомлен о деятельности некоторых ключевых фигур российской внешней разведки. Дорохов молчал.
– Ладно, – усмехнулся старик, – оставим твоих коллег в покое и обратимся к существу вопроса. По моей просьбе Департамент полиции подготовил одну бумагу о состоянии дел в стране, и, скажу тебе, она меня не порадовала. Распущенное недавно Третье отделение Его величества канцелярии совсем деградировало, да и Верховная распорядительная комиссия, на которую возлагалось столько надежд, положения радикально не исправила. Лорис-Меликов считает, что из всех российских институтов полицию надо реформировать в первую голову, да только вся беда в том, что ждать нам некогда. Такие дела за один день не делаются. Понимаешь, душа моя, к чему я клоню?..
Андрей Сергеевич неопределенно улыбнулся.
– Помочь им надо, вот что! – заключил Горчаков.
Дорохов удивленно поднял брови.
– Вы, выше высокопревосходительство, наверное, что-то перепутали. Тайными агентами и жандармами занимается генерал-лейтенант Селивестров, я же числюсь по министерству иностранных дел…
– А то я не знаю! – хмыкнул князь. – Нет, Андрей, мы с тобой «числимся по России». Да ты не думай, – махнул он рукой, – в жандармы тебя не записываю, да и приказать не могу – прошу! Сейчас больше, чем когда-либо, нужен человек, способный наладить борьбу с террористами и любой ценой не допустить нового покушения на государя-императора. Слышишь, Андрей, любой ценой! Можно сказать, что в руки тебе судьбу государства вручаю!..
Горчаков замолчал, задумался.
– А что прикажешь делать, если полиция безынициативна и бездарна, если жандармов как на улице бродячих собак, а взрывы не прекращаются? Нам бы только время выиграть, дать Лорис-Меликову завершить реформы!..
– Но, Александр Михайлович, вы же знаете, что я должен ехать в Лондон!.. – попытался отговориться Дорохов, однако Горчаков и слушать его не стал:
– На время это, Андрей Сергеевич, на короткое время. Переловим бомбистов – и поезжай себе, никто держать не станет. С начальством твоим, генерал-адъютантом Обручевым из Генштаба, откомандирование согласовано.
Это был аргумент. Старик все предусмотрел, все пути к отступлению отрезал и, хотя согласия Дорохова вроде бы уже и не требовалось, Горчаков продолжал убеждать:
– Ты подумай, наши семьи веками России служили, теперь пришел наш черед. Если мы не поддержим, не защитим преобразования государя, то больше и некому. А ведь кругом враги: и Австрия, и Англия спят и видят, как бы нас поставить на колени, да и Германия в этом от них не отстает. Мало того, что Бисмарк предал нас на Берлинском конгрессе, он теперь на случай войны сговаривается с Австрией и Италией…
Дорохов видел, что старик устал и поспешил свернуть разговор, тем более, что решение за него было уже принято.
– Я все понял, Александр Михайлович, – вздохнул он поднимаясь. – Не знаю только, смогу ли…
– А ты смоги! – Князь не без труда встал из кресла. – Я ведь не для красного словца сказал, что в твоих руках судьба России. Плата непомерно велика, если мы с тобой потерпим неудачу. Ну да, Бог даст, Бог даст!..
Горчаков тяжело вздохнул, перекрестил Андрея Сергеевича.
По прихоти Истории – а она до шуток большая мастерица – в тот же вечер в здании посольства Германии, что на площади Исаакиевского собора, состоялся еще один разговор, нашедший свое отражение в совершенно секретной переписке дипломатического представительства с Берлином. В личном кабинета посла разговаривали два дипломата. Его превосходительство полномочный посол Германии в России Эрих фон Корпф сидел в кресле у разожженного по случаю холодной погоды камина. Несколько наискосок, но тоже близко к пылавшему за чугунной решеткой огню, располагался невысокий господин, худым костистым лицом напоминавший какую-то птицу. Близко посаженными к крючковатому носу, холодными глазами он неотрывно смотрел на игру языков пламени, исполнявших затейливый танец на типично российских березовых поленьях. Не обладая высоким положением и благородным происхождением своего собеседника, советник посольства господин Нергаль держался, тем не менее, совершенно независимо, не проявляя и тени подобострастия к официальному представителю Германии в Петербурге. Более того, стороннему наблюдателю могло бы показаться, что диалог ведется между людьми равного статуса и не советник, а его непосредственный начальник чувствует себя, как сказали бы русские, не в своей тарелке. Впрочем, заметить это было бы трудно: просто господин посол иногда морщился, как если бы у него болел зуб, и гримасы эти странным образом совпадали по времени с отпускаемыми Нергалем замечаниями. В остальном разговор шел в исключительно мирных тонах, дипломаты беседовали ровными, тихими голосами, но вовсе не оттого, что боялись быть подслушанными.
– И вы настаиваете, – говорил посол, по многолетней привычке имитируя сдержанную улыбку, – чтобы эта бумага ушла в Берлин за моей подписью? Вы хотите послать ее не только в МИД, но и лично рейхсканцлеру Бисмарку?
– Да, если вы не возражаете, – так же приятно улыбаясь, отвечал советник Нергаль. Дрова в камине догорали, и язычки пламени изменили ритм своей недавно буйной пляски. Как в восточном танце, они теперь то энергично взмывали вверх, то исчезали на время, и тогда казалось, что поленья окончательно догорели. Но это была лишь уловка – огонь вспыхивал вновь и горел с удвоенной силой. – И еще, – продолжал Нергаль, – записку следует направить начальнику имперского Генерального штаба Хельмуту Мольтке.
– И тоже за моей подписью? – еще раз осведомился господин посол, будто процедура подписания официальных докладов в столицу была для него чем-то новым и необычным.
– Если угодно, – не менее любезно отвечал советник, – подписать могу и я, но тогда в Берлине возникнет недоумение: что делает в России их полномочный посол…
За этими словами последовала пауза. Нергаль не-спеша набил трубку хорошим английским табаком, закурил, не спрашивая на то разрешения хозяина кабинета.
– Поймите, Эрих, – советник выпустил в застоявшийся воздух клубы ароматного, пахнущего вишневой косточкой дыма, – вопрос совершенно принципиальный, и я хотел бы придать ему соответствующий вес. Не забудьте, что Бисмарк сам был три года прусским посланником в России и хотя бы поэтому отнесется к нашей с вами информации с интересом. – Советник голосом выделил слова «наша с вами», но посол и ухом не повел. Нергаль продолжал: – Речь идет не о каких-то мелочах и откровенных глупостях, какими пестрит переписка посольства со столицей, вопрос ставится о необходимости сформулировать долгосрочную стратегию, благодаря которой мы сможем активно влиять на внутреннюю ситуацию в стране нашего пребывания. Новый подход даст германскому правительству возможность активнее использовать армию и не связывать значительные силы на российском направлении, чего пока мы позволить себе не можем. Более того, как стало известно от нашего информатора, начальник российского Генерального штаба генерал Обручев подготовил для Александра II детальные соображения о плане ведения войны против Германии. В то же время и вы, и я, мы прекрасно знаем, что после победы во франко-прусской войне десять лет назад, рейхсканцлер больше всего на свете боится реванша французов и их союзников русских. Именно поэтому Бисмарк и сколачивает тройственный союз с Австро-Венгрией и Италией. И, заметьте, это при том, что, по его глубочайшему убеждению, война с Россией чрезвычайно опасна и для Германии может означать лишь катастрофу. Уже хотя бы поэтому наша записка будет встречена в Берлине с пониманием и благосклонностью!..
Нергаль замолчал, видимо, ожидая, что его речь произведет должное впечатление и принесет результат. Молчал и фон Корпф. Будучи карьерным дипломатом, он всегда избегал ситуаций, исход которых не был предрешен в его пользу. Нергаль, работавший на шефа германской разведки Вильгельма Штибера, ничем не рисковал, фон Корпф же в случае неудовольствия Берлина мог поплатиться за свою инициативу карьерой. С другой стороны, не стоило портить отношения и с людьми Штибера, приобретавшими в последнее время в столице все большее влияние. Поэтому, стараясь оттянуть время, посол, как бы между прочим, заметил:
– Не думаете ли вы, что предлагаемый подход является прямым вмешательством во внутренние дела суверенного государства?
Советник поморщился, вынул трубку изо рта:
– Послушайте, Эрих, мы же разговариваем с глазу на глаз, зачем прибегать к официальной фразеологии? Вмешательство или невмешательство – это вопрос риторический. В случае чего всегда можно сказать, что мы просто выражаем сочувствие истинным патриотам России, озабоченным угнетенным положением собственного многострадального народа…
С точки зрения международного права слова Нергаля следовало расценить как откровенный бред, но фон Корпф не имел никакого желания вступать с советником в дискуссию. Тяжело вздохнув, посол подобрал с колен подготовленную Нергалем бумагу и во второй раз пробежал ее глазами. Особое внимание он уделил содержавшимся в конце кратким выводам:
«Обобщая приведенные факты, – писал Нергаль, – следует признать, что в случае прямого военного столкновения победа над Россией силой оружия весьма неочевидна. В то же время исторический опыт показывает, что злейшими врагами русских являются они сами, именно это положение вещей и предлагается использовать. Оставляя в стороне такие национальные черты русского народа, как склонность к воровству, мздоимство и завистливость – что, впрочем, вносит свой вклад в создание общей, выгодной для нас атмосферы, – представляется необходимым сконцентрировать внимание на уникальном феномене, носящем название „русская интеллигенция“. Совершенно неизвестное в других странах, это чисто российское явление представляет из себя некую общность людей, характеризующуюся высоким образовательным уровнем, склонностью к самоедству и, что самое главное, патологической оппозиционностью к любой власти в стране. Именно интеллигенция и является той питательной средой, в которой, как на дрожжах, вызревает нигилизм. Всегда недовольные правительством, эти люди рассуждениями о благе народа приводят себя в состояние истерического транса и уже не способны заниматься делом, рационально и трезво мыслить и оценивать происходящее. Именно из их среды выходят авантюристы всевозможных мастей, готовые ради абстрактной идеи проливать конкретную кровь соотечественников. Этих экстремистов мало интересует реализация своих, весьма теоретических построений – их в значительно большей мере приводит в состояние экстаза собственная жертвенность, вызванная лихорадкой мессианства. Дерзкие, истеричные, готовые одновременно убивать и умиляться, совершенно неспособные предвидеть последствия совершаемых поступков – эти люди представляют чрезвычайный интерес для дестабилизации внутреннего положения в России.
Учитывая изложенное, на базе Министерства иностранных дел и при активном участии имперского Генерального штаба, предлагается создать координационный орган, в задачи которого входило бы нижеследующее:
– стимулирование и поддержание повышенной возбудимости и экзальтации русской интеллигенции, как среды, порождающей нигелизм и экстримистские настроения. В частности, этого следует добиваться путем прививки российскому обществу революционных теорий и взглядов, способствующих его расслоению;
– оказание всесторонней поддержки стремящимся к власти отдельным авантюристам и экстремистски ориентированным группам и партиям, включая поставку оружия, типографской техники, а также обеспечение связью и наличными денежными знаками».
Фон Корпф отложил бумагу в сторону и в первый раз за время разговора посмотрел на Нергаля.
– Да, да, именно это я и имею в виду! – закивал головой советник. – Если не сегодня, то в недалеком будущем такая политика докажет свою эффективность. Эти нигилисты и прочих мастей революционеры поднимут со дна на поверхность общества грязь и пену, и тогда российскому правительству будет уже не до внешнего врага – справиться бы с внутренним.
Фон Корпф пожевал бледными губами, поднял глаза на огромный, в полный рост, портрет Кайзера Вильгельма I.
– И тем не менее, – голос его звучал плоско и безразлично, – бумагу эту я не подпишу. На Вильгельмштрассе меня не поймут…
На Вильгельмштрассе в Берлине находилось Министерство иностранных дел.
Нергаль какое-то время молчал, как будто вслушивался в эхо прозвучавших слов, потом энергично поднялся.
– Что ж, ваше превосходительство, не смею больше обременять вас собственным присутствием!.. – на губах советника играла ядовитая улыбочка.
– У вас есть собственные возможности проинформировать Берлин, – заметил фон Корпф, пытаясь сгладить напряженность ситуации. Ощущение совершенной ошибки уже начинало его беспокоить, но допустить потерю собственного лица он не мог. Нергаль не захотел сделать шаг навстречу.
– Я непременно ими воспользуюсь! – Советник выпрямился, резко бросил голову вниз, уперев подбородок в тощую грудь. – Надеюсь, я могу быть свободным?..
Не дожидаясь разрешения, Нергаль резко повернулся и, стуча по паркету высокими каблуками, твердым шагом вышел из кабинета посла.
Поздним вечером того же дня, в час, когда все добропорядочные петербуржцы давно уже видят сны, а по улицам слоняются лишь душегубы да забулдыги, недалеко от Смоленского кладбища, что на Васильевском острове, остановились извозчичьи сани. Шел мелкий колючий снег, мело. Редкие газовые фонари пятнами выхватывали из темноты деревянные заборы и покрытый льдом дощатый тротуар. Дома здесь были все больше одноэтажные, бревенчатые, с маленькими, как в деревнях, окнами. Впрочем, выбравшегося из низких саней мужчину ни темнота, ни поздний час не смущали. Глядя вслед извозчику, он какое-то время еще постоял, потом повернулся и уверенно направился в глубину квартала. Невысокий и худощавый, он двигался легко и быстро и только однажды обернулся, прежде чем шмыгнуть в ближайшую из подворотен довольно большого для столь отдаленного района дома. Очутившись в черноте арки, мужчина какое-то время постоял прислушиваясь, потом быстро прошел дворами на параллельную улицу и через пару минут уже открывал тяжелую дверь местного трактира. Изысканностью это заведение явно не отличалось. В передней полутемной зале с хохотом и свистом гуляла какая-то компания, папиросный дым стелился слоями, скрывая от глаз лица сидевших вокруг длинного стола людей. Нергаль – а это был он – поморщился, не задерживаясь прошел в дальний конец залы, где за пропахшей табачной горечью занавеской открывался ход в подсобные помещения. Попавшийся ему навстречу половой с подносом в руках посмотрел на советника с тупым недоумением. Впрочем, даже германский посол вряд ли бы признал в этом мужчине человека, с которым разговаривал всего пару часов назад. Между тем, ступив еще несколько шагов по грязному полу, Нергаль уверенно толкнул небольшую дверь и очутился в довольно светлой комнатушке с горевшей на столе керосиновой лампой. Здесь было тепло и уютно, и он с удовольствием снял свой меховой картуз и плотное, рассчитанное на русские морозы пальто. Нергаля ждали. Поднявшийся навстречу человек помог советнику раздеться, пододвинул к столу второй табурет, но сам не сел, а как бы замер в нерешительности. Мужчина этот был какой-то неопределенной, белобрысой наружности, еще не стар, но уже лысоват, и лицо имел припухшее и одутловатое, как если бы после сна или от беспробудной пьянки.
– Герр Нергаль! – сказал он почтительно по-немецки и, возможно, щелкнул бы каблуками, если бы не был в валенках.
Советник же садиться не спешил, а начал прохаживаться от стены к стене, потирая с мороза маленькие руки. На его узком лице замерло выражение пресыщенности и безразличия.
– Чертовски холодно! – заметил он. – Вы вот что, Серпинер, закажите-ка водки и – чем там они закусывают?.. Да, селедки!
Последние два слова Нергаль произнес по-русски.
Польщенный столь доверительным обращением, Серпинер бросился к двери. Когда он вернулся, советник уже сидел у стола, положив ногу на ногу, и тщательно набивал прямую короткую трубку. Делал он это неторопливо, с расстановкой и вниманием.
– Я вот думаю… – не глядя на вошедшего, Нергаль примял табак пальцем. – Вы ведь, Серпинер, уже не немец. Нельзя прожить в этой стране всю жизнь и не стать русским или, по крайней мере, не ославяниться… Кстати, что вы думаете как журналист: есть в русском языке глагол «ославяниваться»? В немецком есть…
Серпинер стоял у двери, не зная, отвечать ему или продолжать глупо улыбаться. С Нергалем он работал уже несколько лет и, хотя виделись они нечасто, успел понять, что тот за человек, и именно поэтому поведение советника показалось ему на этот раз странным. Отношения начальника и подчиненного, офицера германской разведки и его тайного агента, не располагали к откровениям и отвлеченным беседам, да еще на темы человеческого свойства. По-видимому, что-то произошло, заключил для себя Серпинер, но, как это может сказаться на нем самом, представить пока не мог. Поэтому он традиционно избрал некий средний, нейтральный тон полусоглашательства:
– В определенной мере, герр полковник, вы правы, но мне кажется, немцы по рождению всегда остаются немцами…
– Немцы по рождению, немцы по рождению… – повторил Нергаль задумчиво, поднес к трубке спичку и, пыхнув несколько раз дымом, продолжал: – Вы знаете, кто такой Хельмут Мольтке? Так вот, он сказал: «Пруссия во главе Германии, Германия во главе мира…»
Советник хотел еще что-то добавить, но тут в дверь постучали и на пороге возник давешний человек с подносом на растопыренных пальцах. Его круглое гладкое лицо лоснилось, разобранные на прямой пробор темные волосы были густо смазаны чем-то жирным. Действуя ловко и сноровисто, половой быстро составил на стол большой графин, высокие, пригодные скорее для вина рюмки и тарелки с закусками, на одной из которых, перемешанные с луком, лежали куски жирного залома.
А ведь действительно, с полковником что-то происходит, думал журналист, наблюдая, как тот лихо опрокинул полную рюмку водки и потянулся за селедкой. Раньше во время встреч Нергаль позволял себе лишь пригубить чего-нибудь спиртного, хотя ему, Серпинеру, следуя русской пословице, наливал полной мерой. Что у трезвого на уме… – усмехнулся про себя журналист и вновь потянулся к графину, но, наткнувшись на прямой взгляд жестких глаз полковника, едва не отдернул руку. Последовавшие за этим слова окончательно поставили Серпинера на место:
– Рапорт при вас?
Журналист засуетился, лихорадочно полез за отворот потертого, мешковато сидящего сюртука и достал сложенные в несколько раз листы бумаги. Не говоря больше ни слова, Нергаль углубился в чтение, по мере которого выражение его лица становилось все более и более хмурым. Наконец, он отложил бумаги и поднял глаза на своего агента:
– Когда арестовали Желябова?
– Вчера. Где-то между полуднем и одиннадцатью вечера.
– Откуда вам это известно? – Посаженные близко к носу глаза Нергаля стволами пистолетов уперлись в лоб журналиста. Серпинер знал эту манеру полковника смотреть чуть выше бровей собеседника – ничего хорошего лично ему она не обещала.
– В соответствии с вашим указанием я познакомился и коротко сошелся с одним, заговорщиком из «Народной воли». Его зовут Гриневицкий, Игнатий Иоахимович Гриневицкий.
– Из поляков? – Нергаль продолжал буравить Серпинера взглядом.
– Так точно. Сын обнищавшего польского дворянина Минской губернии. Учился в технологическом институте, но выгнали.
Журналист замолчал. Нергаль в задумчивости поднял к глазам бумаги, еще раз их просмотрел.
– Это означает фактический разгром организации, – заметил он. – В январе арестован Окладский, затем полиция накрыла конспиративную квартиру, захватила типографию и мастерскую, где они готовили свои бомбы. Теперь вот Андрей Желябов…
Серпинер встрепенулся. Он и раньше подозревал, что у Нергаля в «Народной воле» есть еще, по крайней мере, один источник информации, с помощью которого полковник перепроверял его донесения. Теперь же, судя по тому, что тот знал даже имена заговорщиков – а их в своих рапортах Серпинер никогда не указывал, – подозрение превратилось в уверенность. Полковник меж тем убрал бумаги в карман теплой, стеганой куртки, взял со стола трубку.
– Налейте себе, Серпинер! Можете и мне, но немного. Когда ваша работа окончена, моя еще только начинается…
Почувствовавший себя поощренным Серпинер наполнил рюмки водкой. По опыту он знал, что Нергаль не ограничится письменным докладом и захочет знать его мнение о складывающейся ситуации, а заодно и как можно больше мелких фактов и деталей. Журналист не ошибся.
– Так вы тоже считаете, что заговорщики стоят на пороге полного провала? – полковник чиркнул спичкой и замер, глядя на Серпинера и тем подчеркивая важность своего вопроса. Потом закурил, бросил спичку на тарелку, где она с шипением потухла.
– Не берусь об этом судить, герр полковник. – Свет керосиновой лампы играл на стекле пузатого графина. – Организация глубоко законспирирована, и даже Гриневицкий о многом, скорее всего, не знает. – Журналист поднял глаза на Нергаля. – Лично он считает, что и типографию, и мастерскую полиции выдал Иван Окладский, и многие разделяют такое мнение. Впрочем, какое теперь это имеет значение…
Советник пыхнул трубкой, спросил, не вынимая ее изо рта:
– Вы хотите сказать, что «Народная воля» отказывается от проведения террористических актов?..
– Нет, герр полковник, вовсе нет! – энергично замотал головой Серпинер. – Гриневицкий даже намекал, что активных действий можно ожидать в самое ближайшее время…
– Когда была с ним встреча? – вопрос прозвучал отрывисто и резко.
– Сегодня утром. Он сам меня нашел, был очень возбужден, когда рассказывал о том, как в типографию нагрянула полиция. Его спасла случайность. Где-то за час до облавы, когда он набирал текст номера газеты, он вдруг вспомнил, что целый день ничего не ел. Ближайшая булочная оказалась закрыта, и ему пришлось идти пешком чуть ли не версту, ну а на обратном пути… жандармы, свистки, весь квартал оцеплен…
Нергаль нахмурился.
– Вы сказали, что он сам вас нашел? Это грубейшее нарушение всех законов конспирации.
– Виноват, герр полковник. У Гриневицкого было очень срочное дело. Он просил меня помочь достать динамит…
– Динамит?.. – советник был откровенно удивлен и этого не скрывал. – Но почему вас?
Под жестким, изучающим взглядом Нергаля Серпинер чувствовал себя неуютно. Ему страшно, до колик в желудке хотелось выпить, но он не решался. Что-то в их разговоре пошло не так, и он уже сожалел, что ляпнул, не подумав, про приход к нему Гриневицкого. Однако, надо было что-то отвечать и как-то выкручиваться из сложившейся ситуации.
– Почему меня? Но ведь вы, герр полковник, сами рекомендовали выказывать террористам всяческое сочувствие! Последние события так взволновали Гриневицкого, что он с трудом мог говорить…
И опять Серпинер почувствовал, что сморозил ка-кую-то глупость, но сам ход разговора и немигающий взгляд советника толкали его продолжать.
– … По-видимому, за ним по пятам идет полиция, и на свободе осталось всего несколько человек – к кому можно было бы обратиться с такой просьбой? Вчера вечером он уже ходил на квартиру Желябова, но, понаблюдав за ней, обнаружил там засаду. Поэтому Гриневицкий и решил, что тот арестован.
– Что ж, объяснение исчерпывающее, – улыбнулся вдруг Нергаль, и эта неожиданная улыбка странным образом напугала Серпинера. Страх журналиста увеличился бы безмерно, догадайся он о том, к какому выводу, слушая его, пришел полковник. Но мысли свои Нергаль держал при себе. Очень просто, даже с некоторой теплотой в голосе, он сказал:
– Выпейте водки, Серпинер, я вижу вам вся эта история стоила больших нервов.
Советник и сам приложился к рюмочке, после чего заново разжег потухшую трубку.








