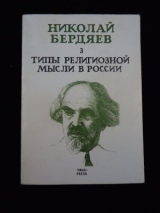
Текст книги "Типы религиозной мысли в России"
Автор книги: Николай Бердяев
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 46 страниц)
Учение Федорова, вероятно, последняя попытка построения патриархально-родственной общественности – попытка, близкая к славянофильству, но более радикальная и последовательная. Славянофилы не доходили до такой идеализации самодержавия, ибо Федоров обосновывает русское самодержавие не национально-исторически, – он выводит его из родственной природы Божественной Троицы, из своей религии рода и культа предков. Фантастика самодержавия достигает у него колоссальных размеров. Русский самодержец представляется ему управителем и регулятором всей природы, душеприказчиком всех умерших предков, стоящим в «отцове месте», воспитывающим человечество для совершеннолетия. Он распространяет самодержавие на явления метеорологические и на небесные пространства. Самодержец – заместитель всех отцов, представитель всего рода, душеприказчик всех умерших поколений. Он поставлен отцами, которых должно воскресить, и потому не может быть устранен сынами. Не может от воли сынов зависеть власть того, кто стоит на месте отцов. Теория самодержавия у Федорова – натуралистически-родовая. В основе ее лежит все тот же религиозный материализм, материализация и натурализация Св. Троицы, материализация и натурализация человеческого духа. Фантастика самодержавия, распространенная на небесные пространства и на воскрешение мертвых, не заключает в себе ничего реального, не имеет никакой связи с историей и с конкретной жизнью. У славянофилов был, по крайней мере, бытовой реализм, чувствовались национально-исторические традиции. У Федорова самодержавие есть просто грандиозная утопия, [совершенно иллюзионистическая]. «Для восстановления братского единения, для постепенного расширения и сохранения его в роде человеческом, а также и для руководства братским союзом сынов умерших отцов в общем деле отеческом – в деле, вызываемом утратами, требуется наместник, душеприказчик, стоящий в отцове месте; это и есть самодержец».<<40>> Эта философия самодержавия – чисто проективная. И этот проект самодержавия не имеет ничего общего с тем, чем самодержавие было [и есть]. Воскрешающей силы [доныне] самодержавие никогда не обнаруживало; оно жило и действовало по закону мира сего, а не по духу Христову, вызывалось потребностями этого мира, нуждами языческими и к жизни духа не имело отношения. По Федорову, самодержавие есть диктатура, вызванная необходимостью бороться со слепыми силами природы и смертью. Самодержавие есть «сила воспитывающая, т. е. ведущая к совершеннолетию».<<41>> «Всеобщее обязательное образование есть христианская обязанность царя-восприемника, заключающаяся в том, чтобы всех сделать достойными аттестата зрелости, свидетельствующего, что получившие его вышли из возраста шалостей и баловства, вышли из возраста увлечения игрушками и, как участники общего великого дела, не нуждаются ни в надзирателях, ни в гувернерах, ни в карцерах».<<42>> Что самодержавие фактически соответствует именно несовершеннолетию людей, это нимало не смущает Федорова. «Обязанность самодержца состоит в том, чтобы всех, наконец, сделать подобными себе, т. е. ответственными лишь перед Богом и своей совестью, способными жить без надзора и неспособными к нарушению долга, неспособными и оставить долг без исполнения; следовательно, образцом для государства монархического может быть лишь полное совершеннолетие».<<43>> Совершеннолетие Федоров решительно противополагает всякому требованию прав, свободе личности. Правосознание он считает признаком несовершеннолетия. Русский народ, призванный к общему делу, требует не освобождения, а службы, и потому он за самодержавие. Службу царскую, как положительное дело, он противопоставляет льготам и правам. Особенно враждебно он относится к льготам дворянским, как демократ и народник. Федоров – решительный и крайний антигосударственник. Он враг всего государственного, юридического и экономического. Все юридическое и экономическое есть признак несовершеннолетия. Он отрицает государство, право и хозяйство во имя патриархальной родственности. Истинное христианство есть не рабство и не барство, а родство. Общественность должна быть семьей, общественные отношения – семейными отношениями. Это чисто славянофильская идея. Но Федоров даже славянофилов обвиняет в западном взгляде на (монархию), не прощает им того, что они учили о происхождении русского самодержавия из народной воли. Он резко критикует конституционализм. «Конституция – это обращение сынов человеческих в блудных сынов, замена жизни для прошедшего, имеющего и долженствующего иметь будущность, жизнью для настоящего, превозношение сынов перед отцами, а вместе с тем и бесцельность существования».<<44>> Конституция – право живущих. Самодержавие – долг к умершим: «Православие требует такого общества, которое не нуждалось бы ни в наказаниях, ни в надзоре, и по справедливости считает несовершеннолетними общества, которые нуждаются в дядьках, т. е. общества, в основе которых лежат начала юридические и экономические, ибо все юридическое и экономическое есть мерзость пред Триединым Богом и многоединым человеческим родом. К многоединству по образу Божественного Триединства самодержавие и ведет род человеческий. Сан самодержца – свойства религиозного и нравственного и предназначен для постепенного устранения всего юридического, как безнравственного и антирелигиозного».<<45>> Для общественной философии Федорова основным является противоположение между родством и гражданством.
Гражданство есть небратское, неродственное состояние блудных сынов. Только блудные сыны-граждане способны требовать прав и свобод. "Запустение кладбищ есть естественное следствие упадка родства и превращение его в гражданство".<<46>> Родственная общественность сынов человеческих должна быть перенесена на кладбище, к могилам отцов. "Вся нравственность первых трех евангелий заключается в том, чтобы обратиться в дитя, родиться сыном человеческим, совершенно не ведающим земных отличий и, напротив, глубоко сознающим внутреннее родство, желающим служить, а не господствовать... Дитя, как критерий, есть отрицание неродственности, рангов, чинов, всего юридического и экономического, и утверждение всеобщей родственности". Между христианство ми гражданством существует глубочайшее противоречие и несовместимость. Тут Федоров чует несомненную истину, но прикрепляет ее к чему-то ложному. Он отрицает не только конституцию, гражданственность, свободу и право, как несовершеннолетие, незрелость для "общего дела", – он также отрицает и социализм. Социализм хочет утвердить братство и отвергает отечество, он хочет братства сынов блудных, а не сынов человеческих, – братства гражданского, а не родственного, – механического, а не органического. Но Федоров признает силу и значение социализма, видит в нем напоминание христианскому миру о всеобщем деле. "Появление социализма можно считать наказанием христианству за лицемерное поклонение Троице, признаваемой лишь догматом, а не заповедью".<<47>> "Социализм в настоящее время не имеет противника; религии с их трансцендентным содержанием, "не от мира сего", с Царством Божиим внутри лишь нас, не могут противостать ему. Социализм может даже казаться осуществлением христианской нравственности. Нужен именно вопрос об объединении сынов во имя отцов, чтобы объединение во имя прогресса, во имя комфорта, вытесняющее отцов, выказало всю свою безнравственность".<<48>>
Великое преимущество России Федоров видит в ее социальной отсталости, в неразвитости личного начала. "Все наше преимущество заключается лишь в том, что мы сохранили самую первобытную форму жизни, с коей началось истинно человеческое существование, т. е. родовой быт. В основе его лежит пятая заповедь".<<49>> В вымирающих и разлагающихся остатках русского быта, связанных скорее с русским язычеством, чем с русским христианством, видел Федоров залог того, что "общее дело" начнется в России. Не раз уже мессианские упования связывались не с потенциями русского духа, жаждущего Града Божьего, а с особенностями русского быта, с земельной общиной, патриархальной властью и т. п. Так было у славянофилов, которые роковым образом смешивали христианскую религию личности, братства по духу и свободы в духе с языческой религией рода и натурального родового быта. Это смещение у Федорова достигло крайних размеров, последних пределов. Абсолютизация русского родового быта у Федорова и есть [чудовищный] религиозный материализм и натурализм, смешение христианства с язычеством, прикрепление духа к социальной и натуральной материи. Земельный быт, сельская община, патриархальная семья – все это преходящие явления этого мира, которые не имеют прямого отношения к христианству; все это – лишь моменты естественной социальной эволюции, совершающиеся в недрах "мира сего" и по законам его. Абсолютное не может быть прикреплено ни к чему относительному, дух не может быть порабощен материи, божественная свобода неприспособима к мировой необходимости. По метафизической сущности своей род есть материальная отяжелённость, давящая необходимость. Мессианские упования, обращенные вперед, к новой жизни, к преображению мира, должны быть совершенно очищены и освобождены от тяжести и необходимости натурального рода. В сущности, Федоров не свободен от смешения духовного с юридическим и экономическим, как бы он ни восставал против этого. Ибо должно быть беспощадно и до конца изобличено, что и патриархальная семья, и родовое самодержавие, и сельская община, и весь земельный быт – все это "мирское", "юридическое" и "экономическое", но в неразвитой, элементарной форме; все это – лишь отсталая, вынужденная необходимостью "гражданственность", и все это несоизмеримо с Триединым Богом, с Христом, с Духом, с духовным рождением, с духовной свободой и духовным братством. Семейная община находится в том же плане, что и капиталистическое хозяйство или социалистическое хозяйство, а самодержавие в том же плане, что и конституционное государство или социалистическая республика. Русскому фантазированию на тему о том, что какой-то русский органический уклад жизни, связанный со стариной, изъят из природной социальной необходимости, из общей для всего мира эволюции, должен быть положен научный, моральный, религиозный предел. И этот предел положен уже и работой сознания, и самой жизнью. [Концепция Федорова совершенно архаична.] В таком виде родовую теорию его никто не станет поддерживать. Старая славянофильская мысль о безгосударственности русского народа так не соответствует русской истории, фактам, что требует серьезного пересмотра. Русский народ создал огромное, небывало огромное государство и истратил на это дело так много сил, что изнемог. Русские обессилены огромностью своего государства, оборонительным своим положением в мире. Подавляющие размеры русской государственности, имевшей свою сторожевую миссию в истории, порождали своеобразный государственный паразитизм и вампиризм, диктовавший разные обманные идеологии. Славянофильская идеология, требовавшая безвластия народа и общества, была порождена этим своеобразным государственным вампиризмом. На горе русскому народу, столь несчастному по своему историческому положению, государственность превратилась из средства в цель и получила способность вести самодовлеющую, почти фиктивную жизнь. Отсюда небывалое развитие бюрократии и слабое развитие самодеятельности общества и личности и в прошлом, и в настоящем. Даже Церковь была превращена в орудие вампирического государственного бюрократизма. И без государственник Федоров, любивший лишь родство, находится во власти этого вампиризма, который принуждает русских людей отрицать самостоятельное значение свободы, усыпляет всякую спонтанность человеческой воли. Этот роковой характер русской государственности (переданной и советскому строю) держит нас в состоянии вечного несовершеннолетия. Русские люди так легко исповедовали безгосударственные идеалы именно потому, что русская государственность подавляла их своим самодовлеющим бытием. Подавлен был и Федоров, и его религия рода была своеобразным выражением этой подавленности.
IV
Подлинного величия и подлинной оригинальности Федорова, затмевающих его реакционную и ветхую родовую идеологию, нужно искать в его исключительном, небывалом сознании активного призвания человека в мире, в его религиозном требовании активного, регулирующего, преображающего отношения к природе. Если учение Федорова о патриархально-родственной общественности есть лишь перепев старых славянофильских мотивов [потерявших всякое жизненное значение], то его учение об активности человека, о регуляции природы есть уже новое сознание, переступающее пределы и границы исторического православия, обращенное вперед, призывающее к преображению мира.<<50>> Федоров вносит в христианство активный антропологизм. Он радикально восстает против той пассивности человека, которая в православии была возведена почти в догмат. Огромное значение придает Федоров тому, что человек занял вертикальное положение. Это оборонительное положение есть знак того, что человек призван к активной борьбе с природой и к управлению ее стихийными силами. Человек не должен пассивно лежать на брюхе. Он – активный борец, повсюду трудом своим вносящий целесообразность. Пассивное отношение к природе Федоров считает язычеством. Лишь человек вносит в природу целесообразность. Сама природа бессознательна и нецелесообразна. В этой бессознательности, слепой стихийности природы – источник всего зла. "В регуляции, в управлении силами слепой природы и заключается то великое дело, которое может и должно стать общим". Это общее дело должно быть распространено не только на всю землю, на явления метеорологические, но и на небесные пространства. Человек призван целесообразно регулировать всю вселенную, внести сознание во всю совокупность бытия. Очень красиво говорит Федоров, что "наш простор служит переходом к простору небесного пространства, этого нового поприща для великого подвига". Кто наш враг? – спрашивает Федоров. "Этот враг – природа. Она – сила, пока мы бессильны, пока мы не стали ее волею. Сила эта слепа, пока мы неразумны, пока мы не составляем ее разума. Занятые постоянной враждой и взаимным истреблением, исполняя враждебную нам волю, мы не замечаем этого общего врага и даже преклоняемся пред враждебной нам силой, благосклонность которой так же для нас вредна, как и вражда. Природа наш враг временный, а друг вечный, потому что нет вражды вечной, а устранение временной есть наша задача". Бог не сам создает целесообразность и сознательность в природе; он поручает это дело человеку, через человека заканчивает творение. "Бог – Царь, который делает все не только лишь для человека, но и через человека; потому-то и нет в природе целесообразности, что ее должен внести сам человек, и в этом заключается высшая целесообразность. Творец через нас воссоздает мир, воскрешает все погибшее". В этой идее Федорова есть зачаток совершенно оригинальной космогонии, которая, к сожалению, не раскрыта и не развита им вследствие его отвращения к умозрению. Поистине творение мира не закончено Богом – оно продолжается человеком. Религиозное оправдание активности человека Федоров видит в основном христианском догмате о двух природах Христа, который должен быть понят практически, как заповедь. Только монофизитский уклон ведет к отрицанию человеческой активности, к поглощению человеческой природы природой божественной. "Показывая, что Христос был не только Бог, но и действительный человек, тем самым доказывалась и необходимость деятельности самого человека в деле воскрешения, и не только нравственной, но и умственной, и физической, материальной. Соединяя во Христе два естества, две воли, двойное действие, тем самым признавали необходимость в деле искупления или воскрешения двух воль, действующих в полном согласии. Но учение о двух волях, действующих в согласии, оставалось только догматом, теорией, не имевшею выражения в самой жизни; и в таком отпадении теории от практики не видели отпадения от христианства, устранения от дела искупления и воскрешения, не видели отречения от Искупителя и Воскресшего".<<51>> Остается только невыясненным, в чем, по Федорову, источник бессознательной, темной и смертоносной стихийности природы. У него нет сколько-нибудь развитой космогонии и антропогонии. Трудно было бы выискать у Федорова антропологию, учение о человеке, оправдание исключительной активности человека. Проективный характер его философии не допускает такой антропологии и космологии. Ему чуждо гностико-мистическое учение о человеке как микрокосме. Между тем проективная философия общего дела ставит перед человеком необычайно дерзновенную задачу, предполагающую исключительное самосознание человека, его микрокосмическую и божественную природу, превышающую всякий натуральный порядок. Натуралистическое учение о человеке совершенно непригодно для оправдания активности человека. Только освобождение человека, его божественного образа из натурального рода делает человека активным, творцом, преобразователем мира. Член рода целиком еще пребывает в природном круговороте.
Федоров не хочет принять даровой благодати. Все даровое должно быть превращено в трудовое. Стихийная, бессознательная, смертоносная сила природы должна быть покорена человеческим трудом, а не чудом. Федоров не хочет, чтобы человеку что-либо досталось даром, без труда и усилий. "Задача человека состоит в изменении всего природного, дарового в произведенное трудом, в трудовое".<<52>> И праздничный, воскресный день должен быть днем дела, днем трудовым. "Нирвана – это безусловная, абсолютная Суббота... Для христианства праздник должен быть днем дела",<<53>> Федоров прославляет "бездарных", как нищих духом, которые стоят выше самых "даровитых". Для него евангелисты – самые бесталанные и, вместе с тем, самые гениальные. Все даровитое – даровое, а не трудовое, и оно отталкивает Федорова. Ему совершенно чужд карлейлевский культ великих, призванных людей; он – духовный демократ, народник, не хочет знать возвышения личностей. Труд для него не квалифицированный, не индивидуальный, а коллективный, всенародный, служба царская. Предрекающие гибель апокалиптические пророчества даны лишь для увеличения энергии человека. В своем проекте общего дела Федоров очень мало придает значения богодейству, таинству и совсем никакого значения не придает мистическому созерцанию. Трудовая научная техника ему нужнее благодатной мистерии. Таинством и созерцанием слишком злоупотребляло даровое христианство, отрицавшее активность человека. Федоров хочет трудового христианства. Он не принимает дарового спасения. У него есть очень глубокие мысли о внехрамовой литургии, внехрамовой Пасхе. "Пока не будет внехрамовой литургии, внехрамовой Пасхи, т. е. всесуточного и всегодового дела (метеорического, теллурического), до тех пор и воскрешение останется только обрядом, и не будет согласия между храмовым и внехрамовым делом".<<54>> Федоров хочет сделать литургию и Пасху имманентной человеку, внутренним делом человеческой активности. Исключительно трансцендентное принятие литургии и Пасхи превращает дело воскрешения в обряд. Научно-техническую активность человека в отношении к природе хочет претворить Федоров во внехрамовую литургию. "Литургия должна обнять всю жизнь, не духовную только и внутреннюю, но и внешнюю, мирскую, светскую, превращая ее в дело воскрешения".<<55>> Федоров не хочет рая, созданного не самими людьми и потустороннего. Он "требует рая, Царства Божия, не потустороннего, а посюстороннего, требует преображения, распространяющегося на все небесные миры... Рай и Царство Божие не внутри лишь нас, не мысленное только, не духовное лишь, но и видимое, осязаемое".<<56>> Внехрамовое дело – не чудесное, оно исходит от человека, а не от Бога. Федоров придает большое значение обряду, но в обрядовом христианстве он видит несовершеннолетие. Обряд будет заменен делом, трансцендентное станет имманентным. Федоров призывает не к эксплуатации сил природы, не к корыстно-хищническому отношению к природе, всегда ее истощающему, а к регуляции, к управлению природой, к преображению бессознательного в сознательное, мертвого и смертного в живое и бессмертное. Ему враждебен дух техники XIX века, дух эксплуататорский и корыстный. Он совершенно отрицает капиталистическую промышленность. (Он гораздо более радикальный враг капитализма, чем коммунисты.) Но изменения человеческой жизни и человеческих отношений он ждет от изменения отношения к природе. Бедность и смерть – от бессознательности природы, от рабства человека у природы, от пассивного отношения. "Регуляция, в противоположность эксплуатации и утилизации, т. е. в противоположность расхищению ее блудными сынами ради жен, приводящему к истощению и смерти, – регуляция ведет к восстановлению жизни".<<57>> В пассивном следовании природе видит Федоров источник старости и смерти. "В правиле "следуй природе" – заключается требование подчинения разумного существа слепой силе. Следовать природе – значит участвовать в борьбе половой, естественной, т. е. бороться за самок и вести борьбу за существование, и признать все последствия такой борьбы, т. е. старость и смерть; это значит поклоняться и служить слепой силе. Старость же есть падение, и старость христианства наступит, если проповедь евангелия не приведет человечество к объединению в общем деле".<<58>> Федоров радикально критикует все социальные учения, которые видят в бедности источник всех бедствий. Бедность – производное явление. Бедность – от смерти, смерть от пассивного подчинения бессознательной природе. "Пока была смерть, была и бедность; когда же наступит бессмертная жизнь, трудом приобретенная, тогда уже ни о какой бедности и речи быть не может".<<59>> Федоров предлагает "заменить вопрос о богатстве и бедности вопросом о смерти и жизни, или о всеобщем возвращении жизни".<<60>> Сила, идущая на взаимное истребление людей, должна быть направлена на завоевание природы, на овладение небесными пространствами, уготовляющими жилище воскрешенным предкам. Вопрос о собственности решится лишь после овладения природой. Социальный вопрос может быть решен "не социализмом, а только естествознанием". "Только естествознание может вести к мирному решению вопроса. Дело воскрешения вытекает не из сочувствия к угнетаемым рабочим, не из ненависти к угнетающим капиталистам, а из естественной слабости, естественного несовершенства человеческой природы, общего тем и другим, т. е. из ее смертности".<<61>> Корень зла Федоров видит не в отношении человека к человеку, не в темной воле людей, а в отношении человека к природе. Тут Федоров странным образом соприкасается со своим антиподом – марксизмом, хотя само активное отношение к природе он понимает совсем иначе, чем марксизм. О фабричной промышленности марксизма он говорит: "Скажите, чтобы камни сии сделались хлебом, – говорит сатана: это и есть эксплуатация, утилизация, требуемая фабричным производством и ведущая к истощению. Регуляция же есть дело священное, человеческое и Божественное".<<62>> Регуляция связана с селом, а не с городом, с землей, а не промышленностью.
Федоров – очень яркий и крайний выразитель русского религиозного народничества. Он прикрепляет христианство к земледелию и земледельческому быту. "Как кочевники по природе – магометане, так горожане по природе – язычники, и только земледельцы – природные христиане. Хотя на Западе крестьянин составляет синоним язычника, но это потому, что там христианство лишь внутреннее, личное дело каждого; у нас же крестьянин синоним христианина".<<63>> В земледельческих религиях "заключаются все задатки истинного христианства, т.к. для земледельцев, живущих в родовом, патриархальном быту, и в Боге будет понятна родственная любовь... Евхаристия и воскресение мертвых тоже имеют задатки в земледельческом быту".<<64>> Федоров исповедует сельскую, крестьянскую религию. Для него, как и для многих в России, христианство есть религия крестьянства. Россия христианская страна, потому что она крестьянская страна. (В действительности, исторически христианство было городской религией, крестьяне, земледельцы были язычниками.) Федоров натурализует и материализирует христианство. В чисто природных условиях хочет он видеть основу подлинного христианства. Он не принимает и не понимает христианство как сверхприродный, сверхмирный, духовный факт. Его религия слишком зависит от внешнего быта и подвергается опасности от изменения и разложения быта. Для него "город несовместим с христианством".<<65>> Развитие города, городской промышленности и культуры гибельно для родовой, крестьянской – христианской религии. Город – измена отцам, прислужничество женам. Село – верность отцам. Общее дело сынов человеческих может начаться только в селе, у праха предков, близко к земле. Вся оригинальность Федорова в том, что от села и земледельцев требует он высочайшего знания, развития активной силы в отношении к природе и регуляции природы через знание. Земледелец должен управлять не только землей, но и явлениями метеорологическими и всей солнечной системой. Идея метеорологической регуляции, искусственного вызывания дождя была центральной, почти навязчивой идеей у Федорова. Метеорологическая регуляция и будет активным отношением к природе земледельца. Городская промышленность занята приготовлением ненужных вещей, игрушек, предметов роскоши. В ней нет исполнения молитвы "Хлеб наш насущный даждь нам днесь", нет настоящего дела. Промышленность есть всегда эксплуатация, а не регуляция. Земледелие есть зачаток истинной регуляции, подлинного дела, осуществления молитвы о хлебе насущном. Необходим переход от города к селу. Федоров не хотел считаться с неотвратимостью промышленного развития, с невозможностью задержать рост городской культуры, с разложением капитализмом сельского быта и натурального хозяйства. Он – народник-утопист. Он не хотел допустить, что в недрах самого города, среди промышленной оргии может развиваться и крепнуть иной, не буржуазно-капиталистический, не позитивно-утилитарный дух, что творчество жизни не так рабски зависит от материально-бытовых условий. Городская культура представлялась Федорову безнадежно неродственной, корыстно-эгоистической, способной лишь на хищническое отношение к природе. Только от села может идти та активная регуляция, которая превратит солнечную силу в хозяйственную силу. В своих проектах Федоров доходит до дерзновенных мечтаний, которые на иных могут произвести впечатление безумия. "Коперниканское зодчество имеет ближайшее сходство с первобытным сельским прототипом архитектуры – хороводом, как мнимым солнцеводом: оно будет целым рядом хороводов, хоров воскрешенных поколений, из коих первый был бы действительный землевод, а все другие суть планетоводы, также действительные. Все эти хороводы вместе составляют движущийся уже храм, части коего суть действительно корабли, эфироезоты, электроходы, пловцы эфирного пространства, свободно движущиеся в нем, но не прерывая общения с центром, с очагом, а все вместе, влияя на центральное тело, регулируют его ходом, а с ним и ходом всей системы солнечной, всего хора, всей эскадры вселенной, флота миров – звезд. Это те хоры, которые предполагал уже осуществленными Пифагор и его школа – предшественники Коперника в древнем мире. Только коперниканская архитектура, на небесной механике основанная, может достигнуть архитектурного совершенства. Бог-Творец создает человека по своему творческому образу, как воссоздателя. Следовательно, искусство начинается вместе с человеком на земле и совершается на небе".<<66>> (Тут есть родство с Фурье). Есть красота и величие в этом мировом ритме, совпадающем с ритмом земледельческого быта. Федоров хочет воздвигнуть всемирный, космический храм, который населен будет не искусственными подобиями, не иконами и картинами, а живыми, воскрешенными предками. "Христианство не есть лишь жизнепонимание, а дело искупления, которое и состоит в расширении и распространении на весь мир... Если с началом мира начинается и кончина, падение его, то вместе с человеком начинается восстание. Само вертикальное положение человека есть уже противодействие падению".<<67>> Это вертикальное положение человека Федоров хочет довести до неба, до способности управлять всей мировой системой. Этой идее нельзя отказать в захватывающей дух высоте. На какие же силы рассчитывал Федоров в деле регуляции?
В деле регуляции природы Федоров более всего ждет от войска, которое ни в коем случае не должно быть упразднено, но должно быть преображено из силы взаимного истребления людей в силу борьбы со стихиями природы и управления природой. Всеобщая воинская повинность должна превратиться в обязательный для всех долг участвовать в активной борьбе с бессознательными силами природы и в активной регуляции природы. Войска должны заняться исследованием природы. "Спасительная организация уже существует; организация эта – войско... Нужно лишь, чтобы на войска, кроме защиты от себе подобных, была бы теперь же возложена обязанность исследования и всего того, что может служить для защиты против слепых сил природы... Не уничтожение войска, этой великой силы, что и невозможно, а превращение его в естествоиспытательную силу сделает войну невозможною".<<68>> Армия и война не должны быть заменены промышленностью, как того хотел бы ненавистный Федорову буржуазный дух; они должны обратиться на единственного врага, источник смерти и всякого зла, на слепые, бессознательные силы природы, сохранив свой воинский дух. В этом проекте Федорова, как и во всем у него, поражает его рационалистический оптимизм, его нежелание считаться со злой волей людской, с темным и иррациональным в человеческой жизни. Природная злая стихия есть и в человеке. Война и войска зародились от злой вражды людей, от иррациональности жизни, несоизмеримой с человеческим разумом. Федоров хочет рационализировать войско и войну, превратить без остатка в чистейшее добро. Он верит, что люди потому лишь не направляют всех своих сил на общее дело, что они не знают, в чем общее дело, не имеют истинного сознания. Тут Федоров соприкасается с Л. Толстым, который тоже не хочет считаться с темной волей и верит, что достаточно людям осознать божественный закон жизни, чтобы наступило всеобщее спасение и благо. Но ведь в самом человеке хаос шевелится. Федоров не хочет также считаться с тем, что рост человеческой активности в отношении к природе совершается в направлении, прямо противоположном тому, которого он желал. Техническая власть над природой, которая делает с каждым днем все более необычайные завоевания, разрушает органическую родовую жизнь, ведет к торжеству механизма над организмом. В росте власти человека над природой побеждает "футуризм", который беспощадно враждебен всякому родству. Каждый день промышленность и техника наносят удары остаткам родственно-патриархальных устоев жизни, которые Федоров считал вечными, единственно праведными и источники которых видел в Божественной Троице. Остается или впасть в безнадежный пессимизм и признать дух человеческий обреченным на позорную гибель, или признать независимость духа человеческого и вечно-божественного от материальных условий жизни, материального быта и разлагающихся устоев этого мира. Нужно открыто, мужественно и бесстрашно признать, что старый органический синтез жизни, синтез материального мира, родовой телесности расчленяется и разлагается. Дух человека, лик человека должен не только уцелеть в этом мучительном процессе, но и укрепиться в высшей свободе.








