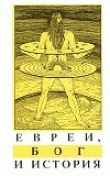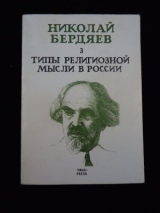
Текст книги "Типы религиозной мысли в России"
Автор книги: Николай Бердяев
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 46 страниц)
III
В последний период жизни меняется у Вл. Соловьева и его отношение к проблеме Востока и Запада. Все творчество Соловьева этого периода не имеет той рационалистической окраски, которая так неприятна в периодах предшествующих. Соловьев этого периода полон апокалипсического ужаса перед растущей силой зла. Он не строит уже схем слишком гладких и оптимистических, он пророчествует. Потенциально в Соловьеве всегда было пророческое сознание, он всегда утверждал пророческую сторону христианства, но лишь под конец жизни пророческое безумие побеждает в нем разум мира сего. Он дерзает писать «Повесть об антихристе». В повести этой каждое слово имеет глубокий и единственный смысл, она полна символического реализма. Пророческая сила «Повести об антихристе» уже обнаружилась и будет обнаруживаться все более и более. Но какой срыв всех розовых надежд Соловьева, какой провал истории как богочеловеческого процесса на земле! В «Повести об антихристе» есть хилиазм, есть тысячелетнее царство Христово, но оно не имеет связи с историей, оно не столько благой результат истории, сколько радикальное отрицание истории, как злой. Сама идея богочеловечества заколебалась у Соловьева. Он перестал верить в богочеловеческое дело на земле. Если он начал с того, что недооценил силу зла, то кончил тем, что слишком испугался силы зла, мстившего ему за непризнание, почуял, что не царство правды Христовой, а царство лжи антихристовой – главный результат исторического процесса. Пророческим своим чувствилищем почуял он приближение конца истории. Темы эсхатологические стали основными для пророческого его сознания. В «Чтениях о богочеловечестве» не было настоящей эсхатологии, богочеловеческий процесс был слишком благополучен. Теперь, в «Повести об антихристе», и проблема Востока и Запада предстоит Соловьеву в новом свете, в сознании апокалипсическом, в сознании конца истории. Соловьев теряет веру в благие, богочеловеческие, христианскиедела истории. Не верит он уже и в то, что соединение церквей, заветная мечта всей его жизни, совершится в пределах истории. В «Повести об антихристе» соединение церквей совершается за пределами истории, в процессе сверхисторическом, в плоскости апокалипсической. Соединение церквей и хилиастическое царство Христово – трансцендентны, а не имманентны истории. Раньше у Соловьева хилиазм был оптимистически перенесен в исторический процесс человечества, был ему имманентен, в истории осуществлялось соединение церквей, и правда Христова торжествовала на земле в теократии. Теперь хилиастический момент пессимистически выделяется из истории, становится трансцендентным, теократия не представляется уже осуществимой в земной истории. Идея теократии разложилась у Соловьева. Она начала разлагаться уже тогда, когда он писал свой «Национальный вопрос» и своей либеральной публицистикой обличал ложь национализма и реакционной государственности. Под конец царственная функция теократии переходит к антихристу. Царство есть уже не царство Христово, а антихристово.
Ужас перед антихристом соединяет за пределами истории церкви. Тут глубже постигает Соловьев святыню православия. Миссия православного Востока, неясная для него в пределах истории, становится ясной за пределами истории, в перспективах эсхатологических. Понятно становится, для чего православный Восток хранил святыню божественной истины. В нескольких строчках «Повести об антихристе» Соловьев лучше постигает различие православия и католичества, чем в больших своих философско-богословских трактатах. Старец Иоанн – последний, благой результат восточноправославного религиозного пути. Так же как папа Петр II – последний, благой результат западнокатолического религиозного пути. В самих именах уже чувствуется, что для Соловьева православие есть по преимуществу христианство Иоанново, а католичество – христианство Петрово. Старец Иоанн наделен Соловьевым мистическим ясновиденьем. Вышедший из глубин православного Востока, старец Иоанн первый узнает антихриста и называет его. Весь мистический опыт Восточной церкви со старцами на высочайших своих вершинах вырабатывает то высшее прозрение, то окончательное ясновиденье, которое опознает в мире антихриста. Без христианского Востока не может быть опознан антихрист. На Западе не будет этой силы Иоаннова прозрения, не таков путь Запада. На Востоке, мало активном в истории, загорается апокалипсическое сознание конца. Папа Петр 11 только активно проклинает антихриста, и в этом сказывается воинственный дух католичества, но в опознании антихриста он идет за старцем Иоанном. Мистическое ясновиденье и прозрение старца Иоанна есть святыня Востока, правда Востока, и она не зависит от иерархической соподчиненности старца Иоанна папе Петру 11. Старец Иоанн и Петр 11 соединяются, уже опознав антихриста и прокляв его. Тут Соловьев достигает гениальных, поистине пророческих прозрений. Насколько глубже эти образы последнего старца Востока и последнего папы Запада, чем вся схоластика его французской книги. Только в новом, апокалипсическом сознании осмысливается Соловьевым русский мессианизм.
Апокалипсический ужас надвигающегося конца связан был у Вл. Соловьева с ужасом надвигающейся восточномонгольской оiiасности. Проблема Востока и Запада предстала пред ним во всей полноте, в проблему эту были введены не только Россия и Запад, православие и католичество, но также и крайний Восток, монгольство. Роль монгольского Востока в исторических судьбах человечества обычно слишком легкомысленно игнорируется, о крайнем Востоке забыли. Движение крайнего, монгольского Востока, которое Вл. Соловьев называет панмонголизмом,было для него предвестием судьбины Божьей, указующим на апокалипсические судьбы человечества.
Панмонголизм. Хоть слово дико,
Но мне ласкает слух оно,
Как бы предвестием великой
Судьбины Божией полно…
Христианской России и христианской Европе как кара за грехи, за измену Христу и христианскому откровению о человеке, грозит iiанмонголизм, крайний Восток, до сих пор дремавший, Восток, нами забытый. Для России стихотворение Соловьева «Панмонголизм» уже оказалось пророческим, в нем предсказана японская война и поражение России. Думаю, что этим не ограничится подгверждение пророческих прозрений Соловьева. В надвигающейся опасности панмонголизма есть мистический трепет, предчувствие конца. И великое значение панмонголизма прежде всего в том, что им обостряется вопрос: чем хочет быть Россия, христианской страной, органической частью христианского всечеловечества, или крайним, нехристианским Востоком? Хранит ли Россия христианское откровение о личности или изменила ему и подчинилась восточномонгольской стихии безличности? Только христианская Россия, соединенная с христианской Европой, в силах будет отразить панмонголизм. Восточномонгольская стихия безличности проникла и в западную цивилизацию под формой нивелирующего американизма. Крайний Восток и крайний Запад таинственно сошлись. Проблема православного Востока и католического Запада разрешается в проблему отношения христианского всечеловечества, верного христианскому откровению о человеке и человечестве, и человечеству нехристианскому, не принявшему христианского окровения или изменившему ему. Церкви христианские, или, вернее, два мира христианских, соединит внешняя опасность безличной стихии Востока и внутренняя опасность безличной стихии цивилизации антихристианской. Перед русским мессианизмом стоит соловьевский вопрос:
О Русь! В предвиденьи высоком
Ты мыслью гордой занята;
Каким ты хочешь быть Востоком:
Востоком Ксеркса иль Христа?
России грозит опасность стать Востоком Ксеркса, если она не победит в себе татарщины, т. e. проникшего в глубину ее стихии крайнего Востока. С этим христианским и культурным преодолением стихии татарщины, крайнего Востока, связано прежде всего изменение отношения к христианскому Западу. Христианская Россия должна преодолеть вражду, полюбить христианский Запад, увидеть единую пра.вду Христову, правду вселенской церкви и в православии, и в католичестве. Вселенская христианская культура должна быть противопоставлена всякой, внешней и внутренней, татарщине, монголизму, безличности варварской и цивилизованной. Перед духом антихристовым старец Иоанн признает правду папы Петра II, а тот пойдет за ясновидением Иоанна. Панмонголизм послужит делу соединения Востока и Запада.
Владимир Соловьев – пророк нового религиозного сознания, сознания апокалипсического. В свете нового сознания пророчествует он о русском мессианизме, продолжает дело Достоевского. Для схоластически-формалистического сознания закрыта была тайна соединения Востока и Запада, она приоткрывается лишь для сознания апокалипсического. Соловьев пророчески преодолевает славянофильство и западничество. Проблема пророка – основная в жизни Соловьева. Он всю свою жизнь чувствовал себя исполнителем функции пророчественной, а не священнической. Он был потенциальный пророк, его мучил дух пророческий и все его существо было обращено к пророчеству. Под конец жизни это приняло крайние формы и привело к опасному уклону. Но нельзя понять Соловьева и всего дела его жизни, если видеть в его учении о пророке, в отличие от первосвященника и царя, лишь обычную склонность к схемам. Все религиозное мирочувствие Соловьева было таково, что христианская религия имела для него не только сторону священства, но и сторону пророчества. Он всегда жил в духе пророческом, но дух этот лишь под конец жизни вполне выявился и выразился. Вл. Соловьев стоит на грани новой космической религиозной эпохи. Он видит уже розовую зарю. И трагедия его жизни была трагедией космического перевала. Чуял он, как и Достоевский, как и все глашатаи русского мессианизма, что Россия стоит в центре мира, что через нее мир идет к новой космической эпохе. Недаром образ Софии Премудрости Божией хранится преимущественно на Востоке, в православии. В своем чувстве Софии, чувстве космичности христианства Соловьев был более связан с восточным христианством, чем сам это сознавал. И в этом же чувстве мировой души, вечной женственности он принадлежит новому религиозному сознанию. Но апокалипсическое сознание Соловьева было слишком биографично и потому окрашено было в слишком пессимистический цвет. Ведь в апокалипсическом созна-нии будет откровение новой земли, нового Иерусалима, Града Божьего, и это радостное ожидание побеждает в нас ужас от над-вигающегося царства антихриста; Достоевский глубже Соловьева чувствовал эту радость новой земли, Града Божьего. В гениальной «Легенде о Великом Инквизиторе» раскрывает он безмерную свободу во Христе, и великое призвание России как хранительницы православия видит он прежде всего в том, чтобы поведать миру тайну свободы.
Католичество отождествило церковь с Градом Божьим, с цар-ством на земле. Этот уклон идет еще от бл [аженного] Августина, который признал церковь началом тысячелетнего царства Христова на земле. Весь папизм вырос из этого смешения церкви с градом, с царством. Это притязание на осуществленность Града Божьего, царства Христова в церкви, в иерархическом церковном строе, затрудняет в католическом мире зарождение апокалипсического сознания Града Грядущего, закрывает пророческое будущее. Католический мир не взыскует Града Грядущего, он Град свой имеет в иерархическом строе церкви и в его притязаниях быть царством. Но священнический иерархизм есть иерархизм ангельский, а не человеческий. На одном иерархическом священстве нельзя построить царства богочеловечества, в нем нет еще антропологического откровения о Граде. Поэтому притязанис католического священства быть царством божественного человечества на земле рождает де.монический уклон, создает порядок не богочеловеческий, а ангелозверинып. Православие не смешивало царства с Градом, православная иерархия не претендовала быть человеческим царством, в православии не было чувства осуществленности Града. IIотому на православном Востоке легче рождается жажда Града Грядущего, сознание апокалипсическое. У нас больше духа пророческого, чем в католичестве. И пророческий дух Соловьева не был духом католическим.
Достоевский в «Братьях Карамазовых» устами Паисия из недр православия пророчествует о церкви как царстве, как Граде Божьем. «От Востока земля сия воссияет». Вся жизнь Соловьева и все его творчество были устремлены к Граду Грядущему, к новой земле. Перед пророческим фактом его бытия ничтожны ошибки его сознания. Явление Владимира Соловьева в нашей жизни научает нас и влечет нас за собой. Но наше следование за ним должно быть не статикой, а динамикой в пути решения проблемы Востока и Запада.
[1] См. об этом статью А. Блока «Рыцарь-монах».
[2] В одном ненапечатанном письме к Л П Никифорову Вл. Соловьев пишет: «О французских своих книгах не могу Вам ничего сообщить Их судьба меня мало интересует. Хотя в них нет ничего противного объективной истине, но то субъективное настроение, те чувства и чаяния, с которыми я их писал, мною уже пережиты».
[3] И Сына (лат.).Догмат римско-католической церкви, признающей, в отличие от церкви восточной, исхождение Св. Духа не только от Бога-Отца, но и Сына.
[4] Обожение (древнегреч.).
Религия воскрешения («Философия общего дела» Н.Ф. Федорова)
I
"Не стало человека изумительного, редкого, исключительного. О возвышенном уме Николая Федоровича Федорова, о его разнообразных, обширных познаниях, о его добросовестности как труженика и об идеально-нравственной чистоте его напоминать людям, сколько-нибудь его знавшим, излишне, они и без того все единогласно скажут: "То был мудрец и праведник!"; а более близкие к нему добавят: "То был один из тех немногих праведников, которыми держится мир!"<<1>> [Так начинает В.А. Кожевников свою книгу о Николае Федоровиче Федорове, мыслителе исключительной оригинальности, дерзновения и силы.] Имя Федорова известно лишь немногим, или лично знавшим его, или имеющим исключительный интерес к тому, чем жил Федоров. Да и трудно было узнать его. Всем существом своим отрицал Федоров частную собственность на идеи и на печатные произведения. Он не только не хотел получать денег за написанное им, но и не хотел поведать миру своего личного творчества. У него не было этой мучительной и радостной жажды отпечатлеть на жизни мировой свою индивидуальность и неповторимую тайну зародившейся в ней мысли. Он не только был лишен честолюбия и славолюбия, как дурных страстей, – он лишен был томительного желания увидеть свою индивидуальность не только в себе, но и в мире. Он не болел проблемой индивидуальной судьбы. Федоров не был писателем по темпераменту. Писательство не было для него личным творчеством, роковой потребностью выразить себя, перелиться в мир объективный. Писательство было для него лишь общим делом, вселенским делом. Он писал лишь деловое и о деловом. [Это совсем почти не литература.] Федоров излагает вселенские деловые проекты, перескакивает от Св. Троицы к устройству музея, от метеорологии к воскрешению мертвых, бесконечно повторяется, соединяет безумную фантастику с трезвым реализмом. И все-таки Федоров пишет своеобразным и сильным языком, и формулы его необыкновенно остры. Первый том его "Философии общего дела" собрали из отдельных отрывков друзья его, В.А. Кожевников и Н.П. Петерсон, и издали в 1906 г. не для продажи. Второй том появился в 1913 г. Написано о Федорове очень мало.<<2>> И вот этому почти неизвестному человеку, скромному библиотекарю Румянцевского музея, писал Вл. Соловьев: "Прочел я Вашу рукопись с жадностью и наслаждением духа, посвятив этому чтению всю ночь и часть утра, а следующие два дня, субботу и воскресенье, много думал о прочитанном. "Проект" Ваш я принимаю безусловно и без всяких разговоров... Со времени появления христианства Ваш "проект" есть первое движение вперед человеческого духа по пути Христову. Я со своей стороны могу только признать Вас своим учителем и отцом духовным (курсив мой. – Н. Б.) ... Будьте здоровы, дорогой учитель и утешитель".<<3>> Л. Толстой говорил о Федорове: "Я горжусь, что живу в одно время с подобным человеком".<<4>> (Поэт) А. Фет [Шеншин] прибавляет от себя: "Много надо иметь духовного капитала, чтобы заслужить такие отзывы, ибо не знаю человека, знающего Вас, который не выражался бы о Вас в подобном же роде".<<5>> Очень высокого мнения о Федорове был и Достоевский, который писал Петерсону: "Он (Федоров) слишком заинтересовал меня... В сущности совершенно согласен с этими мыслями. Их я прочел как бы за свои".<<6>> Федоров одно время оказывал сильное влияние на Вл. Соловьева, и оно особенно сказалось в статье "Об упадке средневекового миросозерцания". Что же это за странный мыслитель, что за необыкновенный человек, к которому так относились самые большие русские люди? (Сейчас в России после революции идеи Федорова делаются популярны и образуется Федоровское направление. Он отвечает инстинктам активности, социальности и радикального переустройства мира.)
Николай Федорович Федоров – гениальный самородок, оригинал и чудак. Это характерно русский человек, русский искатель всеобщего спасения, знающий способ спасти весь мир и всех людей. В недрах России, в самой народной жизни немало есть таких людей, но в лице Федорова этот русский тип нашел свое гениальное выражение. Ведь поистине это характерная черта русского духа – искать всеобщего спасения, нести в себе ответственность за всех. Западные люди легко мирятся с гибелью многих. Западные люди больше дорожат утверждением ценностей, чем всеобщим спасением. Но русскому духу трудно примириться не только с гибелью многих, но даже нескольких и одного. Каждый ответственен за весь мир и всех людей. Каждый должен стремиться к спасению всех и всего. И русская душа ищет способов всеобщего спасения, вырабатывает планы и проекты спасения, то социальные, то научные, то моральные, то религиозные и мистические. В этом русско-славянском прожектерстве всемирного спасения своеобразно сочетаются фантазерство с практическим реализмом, мистика с рационализмом, мечтательность с трезвостью.
Н.Ф. Фёдоров довел до последней остроты и предельной крайности это русское сознание всеобщей ответственности всех за всех и долга всеобщего спасения. Он совершенно отвергает всякую личную, индивидуальную перспективу жизни временной и вечной, как безнравственную, бесчеловечную и безбожную. Жить нравственно, человечно и божественно можно лишь со всеми и для всех, не для других, но для всех без единого исключения. Федоров – мыслитель-радикал, все доводящий до предела, не допускающий никаких сделок и компромиссов. В нем нет гибкости и пластичности. Это тоже характерно русская в нем черта. Такой радикально-дерзновенный проект всеобщего спасения, как у Федорова, никогда еще, кажется, не был высказан на человеческом языке. Вера Федорова в свою идею абсолютна, не знает сомнений и колебаний; она дерзает противопоставить себя всему миру, всему враждебному этой идее движению в мире, всем повальным мыслям людским. Федоров – моноидеист, он не хочет знать многого в мире. Идея Федорова – полярная противоположность всякому индивидуализму, она для всех и со всеми, во имя всеобщего спасения, (она есть своеобразный коллективизм). И идея эта противится сознанию всех людей, движению всего человечества. Это нимало не смущает Федорова. Небывалый утопизм, фантазерство, мечтательность соединяются в Федорове с практицизмом, трезвостью, рассудочностью, реализмом. Федоров объявляет себя врагом не только всякого идеализма и романтизма, но и всякой мистики. Федоров верит в возможность рационально регулировать и управлять всей жизнью мира, без всякого иррационального остатка. Он не хочет признавать темного, иррационального истока в жизни мировой и жизни человеческой, безосновной воли ко злу, с которой не может справиться никакой свет знания и сознания. В этом душа его не современна. Ибо современное сознание на самой высокой ступени своей не может верить в полную и окончательную рационализацию жизни, в утопию рационального добра, – оно скорее волюнтаристично, чем интеллектуалистично и рационалистично, оно видит темный исток, бездну, не поддающуюся рационализации и морализации, исток вечного движения и борьбы, остаток иррационального для всякой рациональной и моральной нормы. Федоров по духу своему ближе к мыслителям XVIII века и к утопистам вроде Фурье, (к Фурье особенно). Он безгранично верит в возможность установления естественно-праведного миропорядка, верит в управляющую силу разума. Но он переносит центр тяжести из сферы сущего в сферу должного, в проективность. Фантазерство и утопичность у Федорова связаны именно с его реализмом, с его материализмом. Его дерзновенные проекты направлены именно на этот материальный, эмпирический мир и пытаются его преобразовать, им управлять. Он враг созерцания миров иных, он требует действия в мире этом. Слово "мистический" он всегда употребляет в отрицательном смысле, и оно равнозначно для него с нереальным, идеалистическим, фантастическим, хотя его собственная основная идея вне мистики лишена всякого смысла. Федоров был цельной натурой и обладал цельным сознанием, но объективно он раздирался противоречиями. Весь он есть чудовищная двойственность религиозно-консервативного и революционно-прогрессивного. Именно применение позитивно-рационалистического стиля и позитивно-рационалистических приемов к вещам мистическим и делает Федорова утопистом-фантазером. Мистическое воскрешение мертвых, как бы к нему ни относиться, во всяком случае не может быть названо утопией или фантазией. Но научно-позитивное воскрешение мертвых есть утопическое фантазерство. Основным моральным и религиозным мотивом Федорова была невозможность примириться с вечной гибелью и адскими муками хотя бы единого существа на земле. Непримиримую вражду к смерти временной и смерти вечной Федоров сделал делом своей жизни. Воскресить для вечной жизни всякое существо, скошенное смертью во времени, – вот великая идея, которой Федоров был целиком захвачен. Всеобщее спасение и воскресение зависит не только от Бога, но и от человека, от его собственной активности. Братское соединение людей для общего дела, активная регуляция природы человеком предотвратит страшный суд и гибель, приведет ко всеобщему воскресению и вечной жизни. Для Федорова апокалиптические пророчества о конце мира условны, они – лишь угрозы человеку. Христианская идея воскресения мертвых у Федорова превращается в идею воскрешения как долга человека, как дела его активности. В идее этой есть гениальное дерзновение, и сознание это – одно из самых высоких, до каких только поднимался человек.
Федоров – последнее явление славянофильства, но в его лице старое в славянофильстве отмирает, и рождается новое, еще не бывшее. [Но] многое осталось в нем от старого славянофильства, и даже в преувеличенном виде. Вражда к Западу и к католичеству у него бóльшая, чем у славянофилов. Он даже славянофилов и Достоевского упрекает в том, что они недостаточно русские, слишком западные люди; не может простить Хомякову того, что тот назвал Европу "страной святых чудес". В католичестве он видит лишь ад, гибель, месть; в православии – всеобщее спасение, печалование о розни. Он очень не любит Данте: в дантовском "Аде" видит выражение католической мстительности, нежелание всеобщего спасения. Но ведь и в (официальном) православии нет идеи всеобщего спасения. А человеческой активности на Западе, в католичестве, больше, чем на Востоке, в православии. От славянофилов получил Федоров идеализацию русского патриархального быта как нравственной основы жизни, идеализацию наших крестьянско-земледельческих устоев, общины и т.п. Он в гораздо большей степени, чем славянофилы, исповедует религию рода. Он – народник и демократ, враг всего аристократического и утонченно-культурного. У Федорова есть характерно русская нелюбовь к культу великих, к возвышению личности. Он весь в народном, национальном коллективе и не чувствует личности как начала самоценного. Он совсем не пережил проблемы индивидуальности, индивидуальной судьбы. Не понимает иррациональной тайны индивидуального. Его не мучила индивидуальная трагедия. У Федорова, как и у многих русских, слабо выражены нравственные и религиозные начала свободы и достоинства личности. Также чуждо ему артистическое восприятие жизни. Он не любил артистизма, как начала дарового, а не трудового. К своей вере он пришел не через свободу личности, не через рождение в духе. [Он остался в первом рождении, в родовой преемственности и традиции.] Федоров всегда за здоровье, за трезвость. Он не понимает болезни, духовного кризиса, усложнения и утончения. Ему чужд опыт зла, путь расщепления. Стремление к полной рационализации и морализации всего связано с отрицанием таинственного в жизни, индивидуально-неповторимого. В нем самом не чувствуется личной драмы, темного начала. Он был аскетом в жизни, жил на гроши, спал на сундуке, но аскетизм его был легкий, натурально-благостный. В сознании своем он отрицал аскетизм. Федоров – природный враг дионисического опьянения, избыточности, рождающей трагизм. Он хочет заменить все даровое трудовым. Исключительно трудовое сознание Федорова ведет к отрицанию всего дарового и даровитого, всякой творческой игры, всякой избыточности. Даровое – аристократично и артистично; оно претит моральному сознанию Федорова, возложившего на себя бремя мировой ответственности, активную задачу всеобщего воскрешения и спасения – не личного совершенства, а всеобщего дела.
Правда о трудовой активности человека заслоняла от него иную правду – об искупляющей божественной благодати. Вся философия Федорова – не творческая, а хозяйственная, не легкая, а тяжелая. Это философия трудовой заботы. Его сознанию была чужда евангельская беззаботность птиц небесных и полевых лилий. И в этом есть что-то характерно русское, русская безрадостность, подавленность нравственной совестью, не допускающей свободной и даровой творческой избыточности, русское искание общего дела, дела спасения. Русская душа не может радостно творить культуру; она болеет за мир и за всех людей, жаждет всех спасти. Федоров был антиподом Л. Толстого, резко критиковал "непротивление", но что-то типически русское в облике сближало его и с Толстым. Болезнь русской совести, печалование о розни людей и гибели людей, жажда спасения людей и Царства Божьего здесь, на земле – все это выразилось у Федорова необыкновенно сильно, без всякого надрыва и раздвоения. Федоров – исключительно здоровый, трезвый, цельный дух. Он не принадлежал к этому распространенному у нас типу людей, вечно мечтающих о великих делах и неспособных ничего сделать в малом. В самом малом он умел видеть великое и мировое. В скромном деле библиотекаря музея, которое Федоров исполнял с необыкновенной добросовестностью, он видел начало всеобщего дела воскрешения мертвых. Он был и фантазером-утопистом, и человеком дела, практическим тружеником. В характере Федорова чувствуется что-то крутое, почти сердитое и очень пристрастное. Он требователен к себе и требователен к другим, не выносит праздности и шалостей, ждет от людей совершеннолетия, трудовой зрелости. Суровость к людям – обратная сторона его жажды всеобщего спасения, всеобщего воскрешения. Каждый должен быть воскрешен, но и каждый должен быть воскресителем. Для всех должно делать общее дело, но и все должны делать общее дело.
Жизнь Федорова была суровая, и первые воспоминания его детства, захватившие всю его душу, были трудные. Вот что говорит он об этих воспоминаниях: "От детских лет сохранились у меня три воспоминания: видел я черный-пречерный хлеб, которым питались крестьяне в какой-то, вероятно, голодный год. Слышал я в детстве объяснение войны, которое привело меня в страшное недоумение: "на войне люди стреляют друг в друга!" Наконец, узнал я не о том, что есть и не родные, чужие, а о том, что сами родные – не родные, а чужие".<<7>> Его детская душа была поражена безумной рознью людей и мучительным вопросом о хлебе насущном. Федоров был незаконный сын важного барина князя Гагарина, родившийся от связи его с простой женщиной. Самодуром дедом он был насильственно оторван от матери и удален от всего родного. Задачей жизни Федорова стало исследование причин розни людей, их небратского состояния и изыскания путей к братскому, родственному воссоединению людей для общего дела. Он не знал радостей родства и пришел к религии родства, в родстве увидел основу всякой правды. Федоров был пламенным оптимистом, непоколебимо верившим в свое "общее дело", в Царство Божие на земле; пессимизм казался ему презренным. Но оптимизм его был суровый и чистый. И ему пришлось испытать отчаяние от одиночества. Он излагал свои мысли "под влиянием полной безнадежности, зная, что никому эти писания не нужны, что учение об активном отношении к природе со всеми его следствиями будет отвергнуто одними, как диатриба из времен невежества, другими – как неверие. Есть от чего придти в отчаяние среди такой полной безнадежности, среди такого духовного одиночества в 74 года".<<8>> И все-таки Федоров верил, как никто еще на земле, в полную и окончательную победу над злом и тьмой, в подчинение разуму всей вселенной. Он совсем не хотел считаться с темной волей, с бесконечной сложностью жизни. Все злое и темное было для него лишь незнанием, неведением, недостатком сознания. Сознание, знание уже благостно, нравственно, победно. Он – рационалист-утопист, своеобразный просветитель. Он не хотел знать отпадения человечества от христианства. Федоров лишен иррационального чувства зла, непобедимого светом сознания. [Он совершенно не знал апокалиптической жути.] В сознании Федорова совмещаются совершенно несовместимые, непримиримые начала: позитивизм XIX века, вера в безграничную силу науки и знания, в чудеса техники, управляющей слепыми силами природы, и христианство, вера в Христа Воскресшего, в Св. Троицу как образец родственной общественности. В нем живут две души – рационалистическая и мистическая, научная и религиозная, техническая и теургическая, – живут смешанно. Мы увидим, что две полосы мысли, имеющие разные истоки, были механически смешаны в мировоззрении Федорова, а не органически претворены в единство. Проблему зла Федоров решал, как позитивист-рационалист, и природу хотел регулировать, как ученый техник. Поэтому и религиозная идея воскрешения разлагается у него на пласты мысли, не имеющие между собой ничего общего. Но никогда позитивизм со своей технической мощью не доходил до такого дерзновения, до которого дошел Федоров. Как учил Федоров о познании?