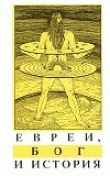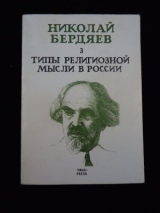
Текст книги "Типы религиозной мысли в России"
Автор книги: Николай Бердяев
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 46 страниц)
Идея соборности была другой идеей, которая утверждалась в русской религиозной мысли наряду с идеей свободы. Она означала органическое понимание природы Церкви. Соборность есть слово почти непередаваемое на иностранных языках, понятие очень трудное для навыков мысли протестантской и католической, всегда склонной к противоположению авторитета и индивидуума. Дух соборности, разлитой в жизни Церкви, и есть, в сущности, единственный внутренний авторитет, который, по учению Хомякова, допускает православное сознание. И сами вселенские соборы, по Хомякову, не обладают внешне обязательным авторитетом. Выше собора и санкционирует собор, определяя, какой собор подлинно вселенский, – дух соборности, живущий в Церкви и в церковном народе. Соборность невыразима ни в каких рациональных и юридических понятиях, она постигается лишь в приобщении к внутренней жизни Церкви. Соборность и есть религиозный коллективизм, отличный от знакомых Западу категорий авторитарности и индивидуализма. В соборность входят свобода духа и совести, без которой она не существует, и в ней органически живет личность, которая не отрицается, а утверждается принципом соборности. В такой форме учение о соборности впервые выражено Хомяковым и является его гениальной интуицией. Он усмотрел соборность в умопостигаемом образе православной Церкви, во внутреннем сочетании единства и свободы, свободы и любви. В эмпирическом образе православной Церкви, какой она дана в истории, раскрытия соборности в чистом виде встретить нельзя, и часто кажется, что ее почти нет. Официальное школьное богословие хомяковская соборность пугает. Хомяков начертал идеальный образ Церкви, ее платоновскую идею. И через это он поставил великую проблему христианского общества, проблему личности и общества в церковном аспекте, благодатного сочетания свободы и любви. В традиционной православной доктрине с трудом находят хомяковскую соборность, она заменяется авторитетом епископов, Церковью как учреждением или как обществом верующих. Соборность есть внутреннее духовное общество, стоящее за внешней церковностью, общество таинственное, состоящее из живых и умерших, облагодатствованное Духом Святым, соединенное Христовой любовью, совершенно свободное, не знающее никаких принуждений и внешнего авторитета. Это есть не только осознание и осмысливание природы православной Церкви, но и ожидание и упование, что раскроется подлинное Христово общество. Соборность есть не только идеальный образ Церкви, но и ожидание и искание наступления царства Божьего. Царство Божье и есть окончательное осуществление в полноте жизни духа соборности. У самого Хомякова это не было достаточно раскрыто, но тема эта передалась последующим поколениям русских религиозных мыслителей. Это приводит нас к другой черте русской религиозной мысли XIX века. Ей свойствен профетический дух, обращенность к грядущему, напряженное искание Царства Божьего, предчувствие наступления новой религиозной эпохи и новых свершений.
Сознательный профетизм еще мало чувствуется у Хомякова и славянофилов, которые были слишком бытовыми, вросшими в землю людьми. Но элемент профетический был уже у Чаадаева, был у Бухарева, он наиболее сознателен у Вл. Соловьева, он наиболее гениально выражен у Достоевского и свойственен всей великой русской литературе, полной религиозной тревоги и предчувствий, он в пессимистически-безнадежной форме был у К. Леонтьева и в конце века в новой форме обнаружился в религии воскрешения Н. Федорова. Русская религиозная мысль пророчествует, она мучительно болеет грядущими судьбами христианства в мире, отношением христианства к миру, вечного к времени. И те, которые враждебны профетическому духу и отрицают его допустимость в христианстве, должны быть враждебны русской религиозной мысли и страшиться ее дерзновений. С профетизмом связана самая тревожная проблема возможности новых откровений, догматического развития в Церкви, творческого процесса внутри христианства. Это мы находим у Бухарева, Достоевского, Вл. Соловьева, Н. Федорова, хотя и не вполне ясно и сознательно ими выражено. Бухарев, который писал так старомодно и нелитературно, что читать его почти невозможно, был человеком профетической настроенности.<<6>> У него уже есть все проблемы нового религиозного сознанья – новое отношение христианства к миру, преображение христианством всей полноты жизни, продолжение боговоплощения в истории, понимание христианства как религии богочеловечества, преодоление того понимания православия, для которого христианство исчерпывается аскетической религией индивидуального спасения, борьба с духом законничества и с юридизмом в Церкви. Профетизм у Достоевского и Вл. Соловьева всем известен. С ним связана вся последующая проблематика. У Н.Федорова профетизм делается активным, перестает быть пассивным ожиданием конца мира и второго пришествия и делается призывом к делу христианизации мира, к активности человека в мире. Он дерзновенно истолковывает апокалиптические пророчества как условную угрозу: мир кончится, будет страшный суд и вечная гибель многих, если человечество не соединится для общего дела воскрешения мертвых и устроения мировой жизни, социальной и космической, по образу Святой Троицы. Н. Федоров выходит за исторические пределы православия, как и многие религиозные мыслители, но никогда не порывает с православием и не противопоставляет себя ему. Общее дело он считает возможным лишь на почве православия. От Хомякова до Федорова был пройден большой путь. Профетизм всегда обращен к Царствию Божьему, к свершению всемирной истории. Но искание Царства Божьего есть основной движущий мотив русской религиозной мысли. Она существенно эсхатологична. Во вторую половину XIX века эсхатологизм очень усилился в русском религиозном сознании, и в этом оно таинственно соприкоснулось с эсхатологизмом русской народной религиозности. Русская религиозная мысль остро поставила вопрос, возможно ли в христианстве пророчество, возможна ли религиозная новизна. Она отрицала, что "православие совершение прияло", что Церковь достроена и что нет новых неразрешенных проблем. Русской религиозной мысли в большей или меньшей степени присущ пневматизм, параклетизм, ожидание нового откровения Духа Святого.
IV
С большим правдоподобием утверждают, что в миропонимании Хомякова, Бухарева, Достоевского, Вл. Соловьева, Н. Федорова есть сильные гуманистические элементы. Я думаю, что отрицать это совсем не нужно. Я говорил уже, что русская религиозная мысль XIX века раскрывала православие после опыта гуманизма. Русские мыслители почувствовали в гуманизме положительную проблему, которая требует ответа. И замечательнее всего, что мы не знали гуманизма, подобного Западной Европе, что мы не пережили Ренессанса. Именно потому, что мы не пережили по-настоящему гуманистической культуры, душа наша не была так пленена ее соблазнами. И потому, быть может, в русском сознании острее были поставлены вопросы, связанные с кризисом гуманизма и были виднее последние его пределы. Европейский гуманизм стал возможен лишь на христианской почве. Когда наступил час раскрытия большей человечности, то в этом обнаружились результаты христианского посева в глубине человеческой души. Но гуманизм был также замыканием в чисто человеческий мир, человеческим самоутверждением, обоготворением человека, отрицанием мира божественного. Гуманистическая культура была некоторым серединным человеческим царством, в котором начало и конец человеческой жизни были скрыты, последние пределы не были выявлены, В этом серединном царстве происходило все цветение европейской культуры нового времени. Россия не дала настоящего гуманистического Ренессанса. Лишь в Пушкине блеснуло что-то ренессансное. Но ренессансный дух не победил в русской литературе, в русской духовной культуре XIX века. Религиозная тема стала основной у нас, религиозное беспокойство овладело всей русской литературой. Мы творили не от радостного избытка, а от печали и муки о судьбе человека, народа, всего человечества. Христианская человечность глубоко вошла в душу русских мыслителей, русских писателей, и душа эта была ранена человечностью и сострадательностью. Русская религиозная мысль не была гуманистической в европейско-ренессанском смысле этого слова, она даже часто обличала европейский гуманизм. Но есть глубокая христианская человечность у Хомякова и всех славянофилов, и у Бухарева, и у Достоевского, и Вл. Соловьева, и у Н. Федорова. Я уже не говорю о Л. Толстом, который стоял в стороне от основного русла русской христианской мысли. Человечность основной установки нашей христианской мысли, ее антропологичность не только не мешали, но как раз помогали ей вскрыть глубочайшую диалектику божественного и человеческого. В Достоевском и в русской мысли раскрыты были последние пределы человекобожества, которые закрыты были для серединной гуманистической Европы и к которым прорывался только Ницше. Лишь русской религиозной мысли, и более всего Вл. Соловьеву, дано было выразить сущность христианства как религии богочеловечества. В религию богочеловечества органически входит вся полнота человечности. И отрицание или умаление человечности понимается как монофизитский уклон в христианстве. Тема о богочеловечестве проходит через всю нашу религиозную мысль до XX века и составляет одно из ее своеобразий. Если безбожный гуманизм, основанный на самоутверждении человека без Бога и против Бога, ведет к отрицанию человека, к отрицанию человеческого образа как образа Божьего, то с другой стороны, разрыв целостной истины о богочеловечестве ведет к утверждению Бога без человека и против человека. Это с большой силой выяснено русской христианской мыслью. Ей открылись самые предельные вопросы, связанные с темой о гуманизме. В человекобожестве погибает не только Бог, но и человек. Это остро ставит проблему религиозной антропологии, и ставит по-иному, чем в антропологии патриотической и схоластической, равно как и антропологии гуманистической. Проблема отношения христианства к миру, к культуре, к обществу, к современности, которая очень мучила русскую христианскую мысль от Бухарева до Вл. Соловьева и Н. Федорова, есть прежде всего проблема религиозной антропологии. Это совсем не значит, что русская христианская мысль уступала духу времени и впадала в дурной модернизм. Христианин не должен чувствовать себя рабом времени, он должен чувствовать себя вкорененным в вечность, но он должен творчески, из глубины христианской истины ответить на вопрошания времени, на его беспокойства и мучения. Вопрос о человеке в XIX веке стоит по-иному, чем стоял в средневековье и в патристическую эпоху. Достоевский знает опыт о человеке, которого не знали старые учители Церкви и о котором ничего нет в школьных курсах богословия. И многое мы острее пережили, чем Запад. Мы острее пережили не самый гуманизм, а кризис гуманизма. И поняли, что нет выхода из этого кризиса через простой возврат к тому, что было до гуманистического опыта. Христианство Вл. Соловьева есть христианство после гуманистического опыта. В XX веке антропологическая проблема обострилась еще более.
В русском религиозном сознании с проблемой религиозной антропологии связана и проблема религиозной космологии. Человек есть образ и подобие Божие. И человек есть вершина и центр космической жизни. Но и в космосе, во всем тварном мире, есть божественное начало, действует божественная энергия. Западная христианская мысль, от св. Фомы Аквината до Лютера и до механического миросозерцания XIX века, слишком нейтрализовала, обезбожила космос. На почве православия в XIX веке была поставлена проблема о тайне Божьего творения, о божественном в мире. Ожидание просветления и преображения мира существенно для православия, оно более обращено к Воскресению, чем католичество и протестантизм. Бухарев проповедует настоящий панхристизм, вездеприсутствие Христа, продолжающееся боговоплощение и боговочеловечение в мировом и историческом процессе. Вл. Соловьев учит не только о Бого-человечестве, но и о Бого-космосе, о божественном космосе. Русскому сознанию как бы раскрывается душа мира в своей премудрости, софийности. Отсюда пошло учение о Софии, ставшее популярным в XX веке. Здесь ставится проблема о третьем начале, которое не есть творец и не есть тварь, а есть божественное в тварном мире. Нельзя отрицать, что на это учение влияла немецкая метафизика и немецкая мистика, как и вообще западная христианская теософия, в которой только и ставился вопрос религиозной космологии, Шеллинг имел влияние на Вл. Соловьева, равно как и Я. Бёме, Портадж, Фр. Баадер, Впрочем, нужно сказать, что учение о Софии Вл. Соловьева очень отличается от учения о Софии Я. Бёме, более антропологического и более очищенного. Вл. Соловьев имеет большую заслугу в постановке проблемы, но его учение о Софии осталось двусмысленным и недостаточно очищенным. Это особенно видно в его софианских стихотворениях. На этой почве возможно космическое прельщение, враждебное свободе человеческого духа. Но очень характерно, что русское религиозное сознание сопротивляется трансцендентному дуалистическому теизму, который с легкостью принимает западное религиозное сознание, и католическое и протестантское. И это совсем не есть пантеистическая тенденция, как хотят уверить некоторые фанатики ортодоксии.
В русском православии есть три струи, которые то сливаются, то текут в противоположных направлениях. Есть струя аскетически-монашеская, опирающаяся на древне-восточную аскетическую литературу, на "Добротолюбие". Типичным выразителем ее во вторую половину XIX века был епископ Феофан Затворник со своим "Путем к спасению". Это есть очень сильное в традиционном православии направление, опирающееся на монашество, которое уклоняется нередко к мироотрицанию и к монофизитству, к особой аскетической метафизике, для которой христианство есть исключительно религия индивидуального загробного спасения. В чистом виде это есть направление консервативное и сопротивляющееся всякой новой проблематике, всякой новой постановке отношения христианства к миру. Для этого направления не существует проблем религиозной антропологии и религиозной космологии вне обычной аскетической практики. Но в этой струе есть и вечный для православия элемент аскетического очищения и внутреннего духовного делания. Есть в русском христианстве и другая струя, тоже истекающая из глубины православия. С ней связано православное освящение жизни, теофания в мире, узрение Божьей Премудрости в тварном мире, преображение твари, Воскресение. Это есть православный космизм, чуждый западному христианству. В образе св. Серафима явлена новая космическая святость. Своеобразный космизм свойствен нашему народному религиозному типу, и он восходит еще к русскому язычеству. С этим связан особый культ Божьей Матери, неприметно переходящий в культ русской земли и с ним сливающийся Земли нет в типе аскетически-монашеского православия, но из русского православия земля, как религиозная категория, не может быть выброшена. Этот мотив есть у Достоевского. Он разлит во всей нашей религиозной атмосфере, более народной, чем монашески-иерархической. И мотав этот был осознан на вершине нашей религиозной мысли. У В. Розанова космизм, откровение русской земли, рождающего материнского лона, сталкивается с самым существом христианства, с образом Христа, и переходит во вражду к христианству. Душа мира оказывается сильнее Логоса. Женственное, материнское, космическое начало у Розанова не премудрое, не софийское. Это не мешает самой проблематике Розанова, особенно проблематике, связанной с полом, быть чрезвычайно глубокой и важной для судьбы христианства. Но есть еще третья струя в православии, не менее характерная и важная, это струя антропологически-эсхатологическая, связанная с проблемой о человеке, о его предназначении в мире, о судьбе и оправданности культуры, о Царстве Божьем. С этим направлением связаны историософические мотивы русской религиозной мысли. И она также принадлежит русскому христианству, русской муке о человеческой судьбе, о конце вещей. Проблема, с этим связанная, очень обострилась в сознании XX века. В центре тут стоит Достоевский со своим напряженным антропологизмом и эсхатологизмом. Но и учение о богочеловечестве Вл. Соловьева с этим связано. Теме о человеке, религиозной антропологии посвящен замечательный труд Несмелова: "Наука о человеке". Эта тема в новой форме появляется у Н. Федорова в его учении об активном призвании человека в деле воскрешения и возможности избежать страшного суда и вечной гибели. При оценке русской религиозной мысли нужно всегда иметь в виду сложность мотивов и тем русского православия, столкновение в нем разных элементов и направлений и одинаковую вкорененность их в русском типе христианства.
V
Русская религиозная мысль XIX века заключает в себе не только чисто религиозную проблематику, она была также мыслью философской. Русская мысль была более религиозной философией, чем богословием. У нас образовалась своеобразная школа религиозной философии, хотя эта религиозная философия и не была школьной. Русская религиозная философия наиболее развернулась в XX веке, когда мы пережили философский ренессанс. Но основная черта русской религиозной философии была еще намечена И. Киреевским. Вот как можно характеризовать основные черты русской философии, религиозно направленной и обоснованной. Прежде всего это философия существенно антирационалистическая и антисхоластическая. Оригинальная русская философия народилась с притязанием преодолеть рационализм европейской философии. Рационализм европейского пути философствования начался еще со схоластики, со св. Фомы Аквината.<<7>> Дальше он развивается Декартом, Кантом, Гегелем. Рационализм есть всегда результат рассечения целостной жизни духа, выделение разума, интеллекта в отвлеченное начало, от жизни оторванное. Но отвлеченный разум не может познать бытие, бытие закрывается для него. Рационалистически, интеллектуалистически невозможно соприкоснуться с бытием. Поэтому философия рационалистическая есть всегда философия антионтологическая. Бытие открывается лишь целостной жизни духа, лишь разуму, органически соединенному с волей и чувством, – вопящему разуму и разумной воле, как говорил Хомяков. Первичное соприкосновение с сущим возможно лишь через веру. Бытие дано вере. И лишь после той первичной интуиции бытия, которая дается вере, делается возможным познание. Вл. Соловьев, следуя за основными интуициями И. Киреевского и Хомякова, выражает свою критику рационализма как критику отвлеченных начал. Он также стремится к цельному знанию, хотя форма его философствования остается слишком рационалистической, и сама критика отвлеченных начал слишком отвлеченной. И для него сущее дается лишь вере. Русская школа религиозной философии понимает познание как познание целостным, не рассеченным духом. Вера и знание органически синтезируются. Философское познание предполагает не только разум, рациональное начало, опыт, эмпирическое начало, но и начало веры, откровение. Откровение есть источник познания, и через него интеллект просветляется и преображается Эта точка зрения противоположна св. Фоме Аквинату, но близка св. Бонавентуре. Русская философия восстает против декартовского "cogito ergo sum". В своем бытии, как и вообще в бытии, нельзя убеждаться через отвлеченное мышление, как нельзя и через индивидуальное мышление, через выделение моего "я" и противоположение его соборному "мы". Рационализм и индивидуализм – первородные грехи европейской философии. Русская религиозная философия пытается строить своеобразную церковную гносеологию, она вносит начало соборности в самое философское познание. Подлинное познание сущего возможно лишь через пребывание в соборности, в церковном "мы", в предании. "Я", выпадающее из соборности, из церковного "мы", разрывающее с преданием как с внутренней жизнью церковного организма, перестает соприкасаться с сущим и познавать его. Кн. С. Трубецкой называет такую соборную гносеологию метафизическим социализмом. Поэтому Декарт был вдвойне не прав, он философствовал рационалистически и индивидуалистически. Не прав был и св. Фома Аквинат, допускавший интеллектуализм в познании бытия и утверждавший права естественной философии (в духе Аристотеля), оторванной от веры и откровения. Путь этот привел к Гегелю, у которого бытие окончательно перешло в понятие. Гегель пытался бытие вывести из понятия. У него исчез субстрат, сущее. И философия пережила кризис, который привел ее к ниспадению в материализм и грубый эмпиризм.
Русская философия религиозного направления борется не только с рационализмом и индивидуализмом, но и с идеализмом во имя онтологического реализма. Примат принадлежит не идее, не познающему субъекту, а бытию. Бытие первоначально дано, оно дано вере, дано опыту целостного духа, и только потому возможно его познание. Само богословствование должно быть опытным, нерационалистическим, несхоластическим. Русская религиозная мысль подвергла сомнению правомерность и плодотворность рационализма в философии и богословии, который утверждала и развивала западная мысль, начиная с средневековой схоластики. Русское сознание с трудом мирится с сознательной установкой иерархических ступеней и дифференциацией разных областей, которую делает св. Фома Аквинат, с одной стороны, и Кант – с другой стороны. Мы склонны думать, что свет, который изливается на высшие иерархические ступени (вера, откровение, мистика), должен распространять свои лучи и на все низшие ступени и их освещать. Поэтому философское познание не может быть основано исключительно на разуме и чувственном опыте У нас в XIX веке не было разработанной и систематической философии, исходящей из начал, заложенных И. Киреевским. Наиболее систематичен был Вл. Соловьев, но он формально был наиболее рационалистическим русским мыслителем – в противоположность содержанию своей философии. Заслуга русской религиозной философии XIX века была в острой постановке проблем отношения знания и веры, познанья целостным духом, проблемы церковной гносеологии, т. е. познания, основанного на соборности, и проблемы онтологизма в философии, которая в Западной Европе была совсем оттеснена и забыта. Русская философия сознавала себя онтологической, соборной, органически целостной, религиозной по своим истинам. Русские мыслители иногда бывали несправедливы к западной мысли, от которой много получили. Не вся западная мысль была рационалистической, индивидуалистической, идеалистической. И на Западе были представители онтологически-реалистического направления, целостно синтезирующие веру и знание. Достаточно назвать Фр. Баадера, к которому были близки славянофилы и Вл. Соловьев, а в средневековье – св. Бонавентуру. Следует напомнить также о кардинале Николае Кузанском, влияние которого обнаружилось в XX веке. Наконец, Шеллинг пытался преодолеть рационализм и идеализм и прорваться к откровению и мифу как источникам познания. И нужно все-таки признать, что у нас есть оригинальная традиция русской религиозной философии, которая представляет интерес и для мысли западной. Немецкая философия наших дней движется в направлении онтологизма и реализма, которые раньше утверждались в философии русской. Наша мысль получила прививки от философии германской, но результаты получились своеобразные. Идеи соборности философского познанья и онтологического реализма остаются своеобразно русскими идеями, в такой форме не существовавшими в германской философии. Русская религиозная мысль XIX века остро ощутила и сознала кризис европейской философии и увидела тупик, к которому она пришла. В этом тупике терялась реальность бытия, свободы, личности. Русская мысль почувствовала, что выход может быть лишь религиозный. Сознана была недостаточность эмпиризма, рационализма и критицизма. Но, со свойственным русским радикализмом и склонностью к крайностям, мы не только преодолевали кризис философии, но нередко отрицали всякую самостоятельность философии и утверждали совершенную ее поглощенность религией. Русская мысль, острая по своей проблематике, с трудом устанавливала иерархические ступени и делала дифференциацию различных областей. Нужно помнить, что и религиозная философия есть все же философия, есть гнозис. Это не всегда у нас помнили. Вершины своей русская философская проблематика достигает не в чистой философии, а в великой русской литературе.
VI
Русская литература XIX века есть величайшее творение русского национального духа. Русское творчество никогда не подымалось выше и вряд ли подымется. Русская литература не только ставит русскую культуру на один уровень с великой культурой Западной Европы, но она одна из величайших в мире литератур. Значение русской литературы не только национально-русское, но и мировое. Это нужно считать общепризнанным. Но для нашей темы важно, что в русской литературе, у великих русских писателей религиозные темы и религиозные мотивы были сильнее, чем в какой-либо литературе мира. Нужно обратиться к Эсхилу и Данте, чтобы увидать в литературе религиозное беспокойство, подобное беспокойству русских писателей. Вся наша литература XIX века ранена христианской темой, вся она ищет спасения, вся она ищет избавления от зла, страдания, ужаса жизни для человеческой личности, народа, человечества, мира. В самых значительных своих творениях она проникнута религиозной мыслью. И вершиной русской мысли, величайшим русским метафизиком был, конечно, Достоевский. Русская литература потрясла мир своим правдолюбием и человеколюбием. Русские писатели пережили трагедию творчества, которой в таких размерах и такой глубине не знали писатели Запада. Русская литература заставляет задуматься над религиозной проблемой творчества, над религиозным оправданием и осмысливанием культуры. Это чисто русская тема – тема Гоголя, Достоевского, Л. Толстого. Литература выходит за пределы искусства и ищет религиозного действия. Это литература профетическая, учительская, учащая смыслу жизни. Пророчествуют и учительствуют величайшие творения русской литературы. Русская религиозная философия в сущности разрабатывает темы, поставленные русской литературой.
У Пушкина с необычайной остротой и глубиной была поставлена проблема творчества и творческой гениальности. И у него одного она получает положительное разрешение. "Моцарт и Сальери" и стихотворения "Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон", "Поэт, не дорожи..." ставят проблему творчества. Она будет мучить всех наших великих писателей, но переживать ее они будут трагически. Неразрешенность в христианстве, в православии проблемы творчества человека поражает и ранит сознание русских творцов XIX века. Это есть также проблема религиозного смысла культуры. Она не была разрешена в православии так благополучно, как разрешалась в католичестве и протестантизме, но именно потому она стала в русском сознании во всей своей глубине. Величайших русских писателей мучил вопрос о переходе от творчества совершенных произведений к творчеству совершенной жизни. Это ведь было основным у Гоголя и Толстого, которые согласны были отказаться от своего творчества во имя искания совершенной жизни. Страстное обличение неправды жизни и искание правды, лучшей, совершенной жизни, Царства Божьего не только на небе, но и на земле есть основной мотив русской литературы XIX века. И это был мотив не только социальный, хотя он имел свою социальную проекцию, это был также мотив религиозный и метафизический. Даже у писателей радикально-народнического направления, у Некрасова, Щедрина, Гл. Успенского, искание правды жизни имело смысл не только социальный, но и религиозный. Русская религиозная проблематика XIX века в сущности всегда была гораздо более социальной, чем это принято о ней думать. Искание правды Христовой и Царства Божьего всегда имеет социальную сторону. С другой стороны, русской литературе часто давали слишком социальное истолкование и проходили мимо ее религиозно-метафизической глубины. Гоголя превратили в социального сатирика в то время, как его мучила метафизическая проблема зла. Он видел ложь и зло гораздо глубже преходящих социальных форм. Вообще русская литература была реалистической совсем не в том внешнем смысле, который ей приписывали наши поверхностные критики. Она была реалистической в смысле религиозного, онтологического реализма, видения глубочайших реальностей бытия и жизни. И в этом смысле она была самой реалистической в мире, ей открывались последние, самые глубокие реальности духовного мира. Гоголь не был реалистом в смысле художественного, эстетического принципа своего творчества. Но он видел реальность зла в самой глубине жизни. Правдоискательство есть самое бесспорное и признанное качество русской литературы. Вся жизнь Л. Толстого, более значительная, чем его учение, была мучительным исканием правды жизни. Необычайное, в такой степени небывалое правдолюбие мы видим у всех подлинных русских писателей. Оно и Чехова делает писателем религиозной серьезности, несмотря на опустошенность его сознания и вульгарность его сознательных взглядов. Русская литература наиболее свободна от условной лжи цивилизации.
Русская литература глубоко и мучительно задумалась над судьбой человека, и задумалась с религиозной серьезностью. Религиозная проблематика о человеке наполняет всю русскую литературу, и у Достоевского достигает необычайной остроты. Проблема о человеке, проблема религиозной антропологии превращается в русском сознании в проблему о Богочеловеке и человекобоге, о Христе и антихристе. Русская литература, самая человечная, человеколюбивая и сострадательная в мире, ставит проблему о религиозном смысле гуманизма и совершает суд над гуманизмом.<<8>> Это тоже чисто русская тема. Это и есть тема о конечных судьбах человека, тема эсхатологическая. Эсхатологизм русской литературы несомненен, она обращена к конечному, предельному, всеразрешающему, к последним судьбам. У тех писателей, у которых религиозное сознание наиболее затемнено, как, например, у Тургенева, тема о человеческой судьбе превращается в тему о роке, о магических силах, и им свойственна разрывающая душу печаль. Религиозными и метафизическими мотивами полна и русская поэзия. Они были и у Лермонтова, который был, быть может, одним из наиболее религиозных наших поэтов, создавших образцы молитвенной поэзии. Но наиболее глубоким метафизиком в русской поэзии был Тютчев. Его поэзия полна метафизической проблематики. Он поэт ночной стихии мира, Ungrund'a. Ему раскрывается темная бездна бытия, дионисические метафизические силы. Творчество Тютчева выходит за пределы аполлонизма и оно полно предчувствий. Подлинного профетизма, столь свойственного русской литературе, нужно искать не в политических стихотворениях Тютчева, как не следует его искать в статьях "Дневника писателя" Достоевского, а в метафизических стихотворениях. В них есть не только ощущение хаоса за космосом, но и предчувствие новой исторической эпохи, в которой хаос раскроется. Тютчев, консерватор по своим поверхностным убеждениям, чувствовал, что возможно наступление эпохи исторических катастроф. Русской литературе свойственно было профетическое предчувствие надвигающейся на Россию, а может быть и на весь мир, революции. Это было уже у Пушкина и у Лермонтова. И революция эта всегда понималась не только как политический феномен, но также как феномен метафизический и религиозный. Это наиболее ясно у Достоевского. Проблема революции, как проблема религиозная, в такой глубине была впервые поставлена в русской литературе. У Достоевского надвигающаяся революция есть прежде всего революция духа, накопление внутреннего динамита. Он дает образы надвигающейся внутренней революции, он художник революционной динамики жизни. Толстой художник устоявшихся форм жизни. Но сознание его разрушительно и требует революционного переустройства жизни. Предчувствие надвигающейся революции у русских писателей принимает эсхатологический характер и отражает эсхатологизм нашего духовного типа. Это возможно было лишь при основной беспочвенности нашего культурного слоя, при катастрофическом висении над бездной. Писатели Запада плохо это понимают. Социально-революционная настроенность французской литературы известного периода все-таки очень почвенна по сравнению с русским эсхатологическим исканием правды, с русским предчувствием наступления Царства Христова и царства антихриста. Элемент консервативный и элемент революционный очень причудливо переплетаются в русской литературе, и к ней нельзя подходить с традиционными социальными категориями правости и левости. У наиболее динамического и революционного Достоевского есть консервативные и правые элементы в "миросозерцании", а у более консервативного художника Толстого есть элементы революционно-анархические в "миросозерцании". Многие замечательные русские мыслители и писатели были монархистами, но монархизм их был совсем особый, нередко бывал псевдонимом, прикрывавшим анархические настроения и религиозно-революционные искания. Русскую литературу XIX века более "мучил Бог", чем какую-либо другую литературу в мире, и эта мука о Боге была также мукой о человеке. В этом ее величие и ее значение для русской религиозной мысли. Соединение муки о Боге с мукой о человеке делает русскую литературу христианской, даже тогда, когда в сознании своем русские писатели отступали от христианской веры.