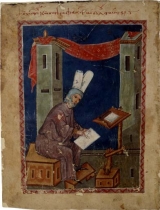
Текст книги "История"
Автор книги: Никита Хониат
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 44 страниц)
4. Так писал царь, полагаясь на пророческие внушения некоторых людей, скорее вещавших от собственного чрева, нежели провидевших будущее, – будто король совсем не намерен идти в Палестину, но все свои виды простирает на Царьград, и нет ни малейшего сомнения, что войдет в него так называемыми ксилокеркскими воротами и сперва совершит страшные преступления, а потом понесет и соответственное наказание по праведным судам Божиим. Предзанятый такими мыслями, царь заложил ксилокеркские ворота известью и кирпичом и часто говаривал, вертя в руках вновь выкованные из меди стрелы, что он уже оттачивает их, чтобы вонзить в сердца аллеманов, – потом, указывая на боковую дверь влахернского дворца, из которой были видны поля, развертывающиеся гладкою равниной за филопатионскими укреплениями, восклицал, что вот отсюда он будет метать стрелы, валить и разить аллеманов, так что смех брал людей, кому приходилось слушать такие речи*. В Студийской {65} обители проходил подвиги иноческого воздержания некто Досифей, утверждавший, что его род идет от венециан и что отцом его был какой-то Витиклин. Сблизившись с Исааком еще до получения им верховной власти, он предсказал ему царскую корону и, когда предсказание исполнилось, вошел через это в великую честь у царя, получил при нем большое значение и, по смерти занимавшего тогда иерусалимский престол Леонтия, человека добросердечного и всем известного своею добродетельною жизнью, был возведен в сан иерусалимского патриарха. А так как наши цари, при своей безудержности и силе, никак не могут воздержаться от того, чтобы по своему произволу не превращать и не переиначивать всех дел, и божеских, и человеческих, то Исаак, воцарившись, отрешил от константинопольского патриаршего престола Василия Каматира, несмотря на то, что патриарх весьма много содействовал ему в получении власти. Причиною для низложения его послужило то обстоятельство, что он дал {66} разрешение снять черное платье и возвратиться к прежнему образу жизни и прежней одежде тем женщинам высшего сословия, которых Андроник против воли постриг в монашество. Поставив вместо него патриархом сакеллария великой церкви Никиту Мунтана, царь не дал, однако, и этому дряхлому старцу скончаться на патриаршем престоле, но, называя человеком бесполезным и осуждая за старость, сверг и его с кафедры без всякой вины и против его желания. Потом, серьезнее обратив внимание на то, чтобы отыскать для церкви достойного кормчего, царь возвел в сан великого архипастыря одного монаха, Леонтия, утверждая царским словом и клянясь троном, что не знал этого человека прежде, но Богоматерь ночью указала ему на него, не только описав его вид и доблести, но и означив место, в котором он имел свое жительство. Впрочем, не прошло года, как и этот был свергнут c высоты патриаршества**. Осрамив таким образом и Леонтия, он решился разыграть целую драму и на вселенское предстоятельство возвесть иерусалимского патриарха Досифея. Зная, что церковные каноны этого не дозволяют, царь лукаво обратился к занимавшему в то время {67} патриарший престол града Божия, великой Антиохии, Феодору Вальсамону, знаменитейшему из всех тогдашних законоведов. В беседе с ним, наедине, он притворился горюющим о том, будто церковь так оскудела в людях благочестивых и разумных и монашеские доблести так стали редки и незаметны, что уже нет по-прежнему такого светила, которое бы, как солнце, имело постоянство в своем движении, или человека, который бы мог сесть у кормила священного престола и твердою рукою направлять путь всего сонма верующих. Печально выставив на вид и другие подобные наблюдения, царь прибавил, что давно уже имел намерение с кафедры антиохийской вознесть его на вселенскую высоту*, как светильник, сияющий лучами законов, но удерживался только потому, что подобные перемещения издревле воспрещены канонами и считаются противоречащими церковным законоположениям; а если бы Феодор, как досконально изучивший законы и каноны, мог доказать, что такое перемещение как прежде когда-нибудь имело место, так может {68} быть уместно и теперь, и сумел бы склонить на это мысли большинства, то он, царь, счел бы такое дело истинною находкою для себя и немедленно, без всяких разбирательств, распорядился бы его производством. Таким-то образом подступил царь к Феодору антиохийскому, и тот нашел, что все это очень можно уладить. На другой же день начались собрания архиереев по разным священным палатам, соборы, разыскания о перемещении; тотчас же все было разрешено, последовало определение с изъявлением высочайшего соизволения, и – Феодор антиохийский остался по-прежнему антиохийским, на константинопольскую кафедру был переведен с иерусалимской Досифей, при такой пышной и многолюдной процессии, что она не уступала царским триумфам, a архиереи, омороченные и понапрасну нарушившие каноны, только разинули рты от изумления. Будучи не в состоянии долго переносить такую шутку, первенствующие члены духовенства, равно как знатнейшие из архиереев, начали составлять тайные собрания, подстрекать народ, шуметь, сколько доставало голоса, так что, наконец, пришлый покоритель чужой церкви, Досифей, должен был покориться общему голосу, оставить свое второе место и сойти с престола. В свою очередь, не вынося этого удара, царь вступает в борьбу, всячески старается утвердить состоявшееся перемещение, – спустя короткое время, преодолев препятствия, восстановляет {69} опять Досифея на престоле и на этот раз препровождает его в великую церковь с отрядом своего секироносного конвоя и высшими придворными сановниками**, из боязни, чтобы народ не произвел мятежа, потому что Досифея все ненавидели как искателя чужих кафедр и как человека, который, наводя государя на самые неблагоразумные распоряжения, в тоже время был непростительно самолюбив. Однако Досифей и опять принужден был расстаться с пышностью вселенского престола и неожиданно подвергся одной участи с эзоповою собакой, так как потерял и то священноначальство, которое имел (в Иерусалим рукоположен был уже другой), и лишился высшего престола. Впрочем, это случилось после, когда в патриархи произведен был великий скевофилакс Георгий Ксифилин.
5. В настоящее же время Досифей, подбирая из Соломоновых книг разные указания и как бы намеки на будущее, подобно демонам, насылающим сновидения, водил императора, как везде говорили, не то чтобы за нос, а за уши. Между тем протостратор, повинуясь царским распоряжениям, оставил без внимания королевское послание и весь отдался тому, чтобы как можно более делать зла аллеманам {70} во время их фуражировок. И вот однажды, взяв с собою около двух тысяч отборных всадников, он вознамерился пройти ночью вблизи Филиппополя, засесть за тамошними холмами и утром напасть на фуражиров. Взявшись сам за это дело, обозу, обозной прислуге и прочему войску, как будто по вдохновению свыше, он приказал с нами отступить отсюда. В самом деле, еще прежде, чем наступил день, аллеманы, сведав от бывших в Прусинском укреплении (где, собственно, стояло лагерем царское войско) армян о намерениях протостратора, в ту же ночь поднялись из Филиппополя в числе свыше пяти тысяч человек, все – закованные в железо, и поспешно двинулись на нас, бывши не замечены ни досмотрщиками, ни сторожами, которые у нас были поставлены, а также не встретившись и с отборным войском протостратора, так как протостратор шел ближе к горам, где были селения, еще изобиловавшие съестными припасами, и прятался за возвышенностями, стараясь быть не замеченным своею обреченною добычею, а аллеманы смело шли по ровному полю дорогой, ведшей прямо в римский лагерь. Не найдя в лагере ни одного человека и узнавши, что войсковой обоз еще с раннего вечера снялся оттуда, а отборный отряд войска выступил для нападения на их соплеменников, отправившихся в поиски за хлебом, неприятели, не дожидаясь нового известия, поворотили коней, чтобы {71} отыскать тех, которые их искали. Еще не успели они спуститься с пригорка, возвышающегося подле Прусинского укрепления, как вдруг совершенно неожиданно столкнулись с нашими, которые именно за этим пригорком и засели. Завязалась схватка. Аланы, бывшие под командою Феодора, сына Алексея Враны, пали почти все, так как вступили в бой с аллеманами первые и одни только; римляне же опрометью и постыдно бросились в бегство, не быв даже в состоянии хорошо разглядеть своих противников. Сам протостратор, ускользнувши другою дорогой, не показывался к нам после того дня три и, кое-как избежав неприятельских рук, наконец, едва добрался, как будто достиг пристани после продолжительного плавания, еще изрыгая соленую воду поражения и чувствуя, как шумят в ушах звонкие голоса аллеманов, требующие ловить его. Многие воротились в лагерь без оружия и без лошадей, при поспешном бегстве растеряв свои повозки. Вообще после этого римляне и аллеманы стали в таком почтительном расстоянии друг от друга, что их разделяло более шестидесяти стадий: они остались по-прежнему в Филиппополе, а мы отступили на отдых к пределам Ахриды, заботясь только о том, чтобы уцелеть, и – прибавлю еще – опустошая свою собственную землю для пропитания. Вести об этом, дошедши до царя, едва-едва убедили его несколько уступить. Со своей стороны мы, спустя немного времени прибывши в Кон-{72}стантинополь, также обстоятельно описали ему все положение дел, прибавив, что аллеманы говорят, будто не другое что побудило римского царя презреть клятвы, данные западным христианам, как союз его с главою сарацин, закрепленный по принятому у сарацин при заключении дружбы обычаю тем, что каждый из обоих союзников разрезал у себя на груди жилу и вытекшую из нее кровь дал пить другому. Таким образом мы успели было одолеть его упорство. Переменив свой образ мыслей, царь начал заботиться о препровождении аллеманов на восток; но, узнав, что король по случаю наступления зимы (это было уже в ноябре) отложил до весны поход, он опять воротился к прежним убеждениям и в письме к королю, вовсе несоответственно достоинству царей, предсказывал, что он умрет пред наступающею пасхою. Чтобы не говорить обо всем, что в его делах и словах заслуживало скорее обвинения, нежели похвалы, скажу одно, что он едва согласился отпустить от себя обратно королевских послов. Король, при свидании с ними узнав, что царь даже не давал им стульев, но что они по-рабски наравне с римлянами должны были стоять перед ним и не были удостоены никакого почета, хотя то были епископы и родственники его, – оскорбился и не мог скрыть своей досады. Когда представились ему наши послы, он приказал как им, так и их прислуге садиться рядом с собою, не позво-{73}ливши стоять ни поварам, ни конюхам, ни поваренкам. На замечание послов, что неприлично слугам сидеть вместе с великим императором (довольно и того, что их господа сидят), он не сделал никакой уступки и против воли усадил их рядом с их господами, желая этим осмеять римлян и сказать им, что в их отечестве нет отличия ни доблестям, ни происхождению, но, как свинопасы загоняют всех свиней в один хлев, не имея обыкновения отделять жирных от не успевших разжиреть, так и римляне всех ставят на одну доску. По прошествии некоторого времени недостаток в продовольствии заставил короля разделить свое войско. Сам он перешел в Орестиаду, а своего сына и епископов со значительною частью войска оставил в Филиппополе, сказав: «вам следует здесь отдохнуть, пока не укрепите ослабевших от вытяжки пред греческим царем голеней и расслабевших колен».
6. Когда зима прошла и цветы дали от себя аромат, царь и король возобновили клятвы. Топархи и магнаты последнего поклялись, что король пройдет через римскую землю и совершит поход не полями и виноградниками, а большою дорогою, не уклоняясь ни вправо, ни влево, пока не перейдет границ римских. С другой стороны царь дал заложников, в том числе несколько своих кровных родственников, – и пятьсот человек купцов и царских придворных поклялись в {74} великом храме, что царь ненарушимо сохранит условия, даст аллеманам проводников и доставит все средства для их продовольствия в дороге. Между тем некоторые из судей Вила, будучи посылаемы тогда к королю в качестве заложников, не решились отправиться по назначению и, не имея возможности ни показаться царю на глаза, как ослушники, ни надеяться на безопасность у себя дома, скрывались по углам чужих домов во все время, пока король не отправился на восток. Рассерженный этим, царь вместо судей Вила послал заложниками тавеллионов, имения и дома непослушных отдал разным лицам по своему выбору и назначил других судей. Однако впоследствии, поняв их поступок не как непослушание, а как небезосновательную боязнь, он опять возвратил им имения и прежние почести. По окончании соглашений царь послал королю четыре центенария* серебряной монеты и несколько кусков дорогих златотканых материй; король ответил ему также другими подарками. Скоро собралось в Каллиополе** множество транспортных судов, – так как в условия, между прочим, входило и то, чтобы королю в два приема переправиться со всем войском (ибо он боялся, чтобы римляне, изменив договору, не напали на него, пользуясь розничною перевозкою не-{75}больших отрядов), – и таким образом переправа на восток совершилась не более как в четыре дня. Когда король приблизился к Филаделфии, то филаделфийцы, пока он не прошел их города, оказывали ему дружественное расположение, но едва только он пошел от них далее, изготовились к нападению и разбойнически напали на одну часть его войска. Однако, так как надежды их не исполнились, то они, увидевши, что имеют дело как будто с какими-нибудь медными статуями, или с гигантами неподвижными, переменили нападение на бегство. Между тем аллеманы, прошедши чрез так называемое село Орлиное (’Αετοΰ), расположились лагерем в Лаодикии Фригийской. Быв приняты здесь самым дружелюбным образом и с искренним гостеприимством, которого не встречали нигде, они все до последнего человека были так тронуты этим, что испрашивали лаодикийцам всех благ свыше, а в особенности – король. Воздевши руки к небу, подняв вверх глаза и преклонив колена на землю, он умолял милосердного Промыслителя и Отца всех Бога ниспослать им все потребное как для жизни, так и для спасения души, присовокупляя, что если бы римская земля изобиловала такими христианами и в ней так радушно принимали воинов Христовых, то они, аллеманы, охотно отдали бы римлянам и деньги, которые несли с собою, мирно покупая у них нужное для себя продовольствие, и сами давно уже перешли {76} бы римские границы, не пролив капли христианской крови и не потревожив в ножнах своих мечей.
Продолжая свое путешествие, аллеманы не нашли и в турках расположения к себе. Точно также и эти, уклоняясь от прямой битвы, нападали, когда только были в состоянии, хотя также, как и римляне, согласились без боя открыть им путь через свою землю и доставлять все потребное для содержания во время дороги. И конечно, не дурно было бы и для них, если бы они тоже соблюли условия. Вместо того, надмившись пустыми надеждами, они отважились, наконец, даже на открытую войну. Таким образом между королем и детьми иконийского султана, успевшими лишить своего отца власти и царства, выгнать из Иконии и превратить прежнее его благоденствие в бедственную участь на старости лет, произошло сражение, во-первых, при крепости Филомилие, вследствие которого король, легко обративши их в бегство, осадил Филомилий и сжег его. Потом он сразился с ними при Гинкларие и также одержал верх. Именно турки, заняв теснины, поджидали вступления туда аллеманов; но король, узнав о замысле противников, остановился лагерем на прилегающей равнине и, разделив ночью свое войско на две части, одной приказал остаться в палатках, а другой с рассветом дня притворно пуститься в бегство как бы с целью захватить другую дорогу. {77} Приняв хитрость за правду, персы радостно высыпали из теснин, спустились на равнину и бросились на аллеманский лагерь без всякой предосторожности и в восторге, предполагая, что им предстоит готовая, большая и богатая добыча, так как каждый варвар жаден до прибыли и многое, или, лучше сказать, все делает и говорит для одного серебра. Между тем бежавшие возвратились, находившиеся в палатках бодро выступили навстречу, и окруженным отовсюду персам осталось только умереть.
7. Впрочем, не этими только двумя сражениями король сделался страшен и знаменит у восточных народов, но и подобным же поражением турок в самой Иконии. Султан, убежавши в Таксары, оправдывался тем, что ничего не знает, что наделали его сыновья, так как одним из них, Копаттином, он сам лишен власти. Между тем турки, укрывшись за садовыми рвами и канавами, которые беспрерывно идут вокруг Иконии, и засевши за каменные заборы своих садов, как бы за стену, надеялись заградить аллеманам доступ к Иконии, рассчитывая сосредоточить в одно место всех лучших стрелков и при легкости своего вооружения иметь перевес над тяжеловооруженными всадниками в узкой и перерытой местности. Но и на этот раз их затеи обратились в ничто. Видя, что турки укрываются за садовыми оградами и стреляют оттуда, как будто из какой-нибудь крепости, {78} аллеманы употребили следующее средство. Каждый всадник посадил на своего коня по вооруженному пехотинцу, и пока пешие, взобравшись по хребтам коней, как бы по лестницам, на заборы, за которыми тесно сгруппировались турки, завязали с ними здесь битву, конные подоспели к ним на помощь тропинками, по которым можно было проехать. Таким образом все собравшиеся здесь турки большею частью, как злые, зле погибли, и только немногие успели спастись, рассеявшись в разные стороны. В удостоверение того, что павших тогда, действительно, было множество, я приведу свидетельство самих врагов. Так, один измаильтянин, который участвовал в этом сражении, – прибывши в Константинополь под покровительством римского царя, клялся своею верою, что он дал двести серебряных статиров* за уборку трупов, которые легли в его саду. Овладев Икониею, аллеманы не вошли однако в нее, но расположились в так называемом внешнем городе, раскинув палатки на кровлях домов и потом выступили в дальнейший путь, ничего не взяв от ее жителей, кроме самого необходимого для жизни. Во время этого пути, говорят, один аллеманин, чудовищного роста и необыкновенной силы, отстал однажды на большое расстояние от своих со-{79}племенников и следовал за ними пешком, таща за узду утомившегося в дороге коня; между тем около него собралось более пятидесяти человек измаильтян, также самых лучших в своем роде и отборных наездников. Окруживши его со всех сторон, они принялись бросать в него стрелы, но он, прикрывшись широким щитом и полагаясь на прочность лат, со спокойною улыбкою продолжал идти по своей дороге, представляя из себя (и составляя на самом деле) для стрел сего варварского скопища как бы несокрушимую скалу или непотрясаемый утес. Когда же один из них, похвалившись, что отличится перед другими, оставил лук, как вещь бесполезную, выхватил длинный меч, и, дав шпоры коню, напал на аллеманина в ближайшем расстоянии и лицом к лицу, то оказалось, что он ударил по аллеманину, как по вершине горы или медной статуе, а тот, обнажив дюжею и геройскою рукою полновесный, большой и прочный меч свой, ударил им коня своего противника наискось по ногам, и обе передние ноги подсек, как какую-нибудь траву. Между тем, пока еще упавший на колена конь держал сидевшего в седле всадника, аллеманин, направив руку в середину головы перса, сделал другой удар палашом. При своей прочности и при могучести того, кто владел им, палаш опустился с такою страшною силою, что пораженный всадник развалился на две части, и удар, про-{80}шедши через седло, нанес коню рану в хребет. Пораженные таким зрелищем, прочие персы не решились продолжать бой с этим одиноким воином. А он, не обращая на них внимания, как лев, уверенный в своей силе, не прибавляя шагу, медленно подвигался вперед и под вечер соединился со своими соплеменниками, достигши места, где они остановились на ночлег. Говорят, измаильтяне, боясь, чтобы король, одержавши над ними столько побед, не остался надолго в их стране, показывали ему притворное благожелательство, желая всеми мерами ему угодить. Со своей стороны король, взяв в заложники детей от более значительных между ними особ и запасшись весьма большим числом проводников, перешел таким образом их границы и, спустя немного достигши Армении**, некоторую часть проводников и заложников казнил, а остальных отослал назад.
8. Быв принят армянами с честью и пробывши там довольно долго, он, наконец, отправился в Антиохию, постоянно более и более приобретая себе славу своим умом, не-{81}победимостью своего войска, и уже не встречая больше ни одного противника себе. Но (какой нечаянный и неожиданный случай, или, лучше сказать, какие непостижимые для людей суды Божии!), переправляясь чрез одну реку, он утонул в ее волнах. Это был человек, по понятиям людей умных, достойный доброй и вечной памяти и ублажения своей кончины, не только потому, что происходил от самого знатного рода и по наследству от предков владел многими народами, но за то, что воспламеняясь любовью к Христу более всех бывших тогда христианских самодержцев, презрев отечество, придворные увеселения, покой и счастливую, роскошную домашнюю жизнь с дорогими сердцу, он решился страдать вместе с палестинскими христианами за имя Христово, за честь живоносного гроба, и предпочел родной стране чужбину. Его не остановили ни тысячи парасанг крайне тяжелого пути, ни опасности от народов, чрез области которых следовало проходить. Ни скудость воды, ни недостаток в хлебе, который при всем том надобно было покупать, а иногда доставать с опас-{82}ностью жизни, не удержали его от его намерения. Даже слезы, объятия и последние горячие поцелуи детей не могли тронуть или расслабить его душу. Нет, – подобно апостолу Павлу, не дорожа собственной жизнью, он шел с готовностью не только сделаться узником, но даже умереть за имя Христово. Истинно, у этого мужа была апостольская ревность и боголюбезная цель, ничем не ниже подвига тех, которые вдали от мира, возведши всецело ум к евангельской высоте и направив к ней весь путь свой, все житейское презирали, как ни к чему не нужное, – и я уверен, что он скончался смертью праведника. Между тем сын его, получив после смерти отца власть, прибыл в Антиохию, – отправившись оттуда в дальнейшие пределы Келесирии, подавил междоусобие в Лаодикии, склонявшейся на сторону измаильтян, взял без всякого труда Берит и овладел весьма многими другими сирскими городами, прежде бывшими во власти латинян, а в то время принадлежавшими сарацинам. Но достигши Тира и осадивши Акру, которою владели измаильтяне, он, после величайших трудов за имя Христово, и сам положил там свою жизнь. Оставшееся войско не решилось возвращаться домой опять сухим путем, боясь вероломства народов, через области которых следовало проходить, но село на прибывшие в Тир купеческие корабли своих соплеменников и благополучно возвратилось домой. {83}
В это время воевали против владевших Палестиною и опустошавших Иерусалим сарацин не только аллеманы, но также король французский и глава британских секироносцев, которых ныне зовут англичанами. Скопивши возможно большее число кораблей из Сицилии и с морских берегов Италии и наполнив их пшеницей и другими жизненными припасами, они отплыли в Тир, который служил обыкновенною пристанью для всех крестоносцев и средоточием военных действии против сарацин. К сожалению, они также не успели выгнать сарацин из святого города и возвратились опять морем в отечественные земли, не достигнув цели своего предприятия. Между прочим, король английский по дороге в Палестину завоевал Кипр; что же касается тирана или, лучше сказать, бесчеловечного и неумолимого губителя кипрского, Исаака Комнина, то он был схвачен, и сначала король держал его в заключении, а потом, спустя немного времени, совсем удалил с острова и, как негодяя, отдал его в невольники одному из своих соотечественников. Отправляясь в Палестину, король на правах владетеля островом оставил в Кипре часть своего войска и, посылая из Палестины на остров транспортные корабли, получал оттуда все жизненные припасы. При возвращении же из Палестины он подарил Кипр, как свою собственную область, иерусалимскому королю, дабы тот в свободное от войны вре-{84}мя, слагая правительственные заботы, имел там спокойное убежище для себя и управлял Кипром, как даром английского короля гробу Господню и неотъемлемою частью палестинских владений. Но об этом довольно.
ЦАРСТВОВАНИЕ ИСААКА АНГЕЛА
КНИГА ТРЕТЬЯ
1. Царь Исаак имел от первого брака трех детей – двух дочерей и одного сына. Старшую дочь он постриг в монахини и, с большими издержками превратив Иоанницкий дом в женский монастырь (как предполагала сделать это еще царица Ксения по смерти своего супруга, царя Мануила Комнина), водворил ее в нем, посвятив Богу, как чистую агницу; а другую отдал в замужество за сына Танкреда, короля сицилийского, царствовавшего после Вильгельма, который вел против римлян войну на суше и на море, как мы об этом выше рассказывали. Сына же, Алексея, он готовил в наследники престола, хотя, нисколько не помышляя ни о конце своей жиз-{85}ни, ни о возможности падения своей династии, он в пророческом духе рассчитывал еще сам царствовать непременно, день в день, тридцать два года, как будто ясно предвидя непостижимые советы Божии, или сам назначая пределы своей жизни, полагаемые Богом по Его неисповедимой воле.
Между тем не только Алексей Врана и лидянин Феодор (Манкафа) возвеличивали на царя запинание, но и другие покушались присвоить себе царское имя. Так, один самозванец Алексей, называя себя сыном римского императора Мануила Комнина, с таким искусством разыгрывал свою роль и до такой степени ловко подделывался под наружность покойного царя Алексея, что походил на него даже прическою и цветом золотистых волос и так же точно заикался, как покойный царь-отрок. Этот юноша происходил из Константинополя. Сначала его видели в городах, лежащих по Меандру; потом он появился в маленьком городочке, Армале, и здесь одному латинянину, у которого приютился в доме, открыл, кто он таков, сказавши, что его, по приказанию Андроника (как мы в своем месте коротенько рассказали об этом) велено было бросить в море, но что будто он пощажен теми, кому это было приказано, как верными слугами своего отца. Оттуда самозванец отправился в Иконию и, явившись к старику султану (сын его Копаттин тогда еще не лишил его власти), представился ему не как {86} бродяга и обманщик, но как истинный сын императора Мануила. Постоянно он докучал султану, напоминал благодеяния, оказанные ему мнимым отцом своим Мануилом, называл его неблагодарным к своему благодетелю и упрекал в бесчеловечии за то, что он не сжалится над сыном своего друга, подвергшимся несчастью. Действительно, частью уступая его бесстыдству, частью увлекаясь сходством его с Мануилом, султан утешил его немалыми дарами и обласкал доброю надеждою. Но раз, когда во время аудиенции римского посла самозванец начал хвастать особенным благородством своего происхождения, султан обратился к послу с вопросом, узнает ли он в этом человеке сына императора Мануила. Посол, разумеется, отвечал, что сын императора Мануила несомненно погиб, быв брошен в воду, что этот неизвестный ложно присваивает себе звание умершего и рассказывает о себе невероятные вещи. При этих словах неудержимо вскипев гневом и горячо воспламенившись желчию, юный Алексей непременно схватил бы посла за бороду, если бы с одной стороны сам посол, рассердившись в свою очередь, не отразил мужественно стремлений Лже-Алексея, а с другой султан, оскорбившись неприличием его поведения, со всею строгостью не приказал ему успокоиться. Хотя после этого владетель Иконии не решился осуществить пылких желаний молодого человека; тем не менее, под-{87}даваясь его неотступным просьбам, он дозволил ему султанскою грамотою, которую турки зовут мусурий, беспрепятственно вербовать в свою службу всякого, кто согласится поступить под его начальство. Самозванцу было и этого довольно. Предъявляя туркам то здесь, то там султанскую грамоту, он успел привлечь к себе эмира Арсана и несколько других турок, обыкновенно занимавшихся грабежом римских владений, так что в короткое время у него набралось до восьми тысяч войска, готового всюду следовать за ним. И этими силами он двинулся потом на города, лежащие по Меандру: одни из них сдались ему на капитуляцию; другие, которые оказали сопротивление, были доведены им до самого бедственного положения. В особенности он нападал на гумна, за что и прозван был гумножегом. Много против этого молодца посылали полководцев; но ни один из них не отличился, и все возвращались, ничего не сделавши из опасения измены со стороны собственных войск, в которых было гораздо заметнее расположение к новопоявившемуся царевичу, нежели преданность царю Исааку. В самом деле, самозванец привлекал к себе не только толпу, и не только простой народ с видимою любовью о нем говорил, и толковал, и разглашал; но в нем приняли участие даже придворные, весьма хорошо знавшие, что Алексей, сын царя Мануила, давно расстался с человеческою жизнью, – не потому, {88} чтобы в этом деле что-нибудь оставалось для них загадкою, а единственно в угоду своих личных видов. Поэтому, когда, наконец, был послан против него брат царя Алексей, который впоследствии сам был царем, то и он не решился вступить в сражение с этим вновь ожившим Алексеем и, держась как можно далее от него, старался только утвердить в повиновении и остановить от дальнейшей передачи самозванцу ту часть области, которая еще не перешла на его сторону. Между тем, пока дела шли так дурно, – самозванец постоянно успевал и усиливался, а севастократор все еще трудился над сбором войска, – Бог, ни для кого недоведомо и совершенно особенным образом, решил эту междоусобную войну в одно мгновение: на возвратном пути в Армалу Лже-Алексей остановился однажды в замке Писсе, пил здесь весьма много, и когда уснул от опьянения, то один священник собственным его мечом отрубил ему голову. Севастократор Алексей, вглядевшись пристально в представленную ему голову самозванца и похлыстав конским бичом ее золотистые волосы, сказал: «Не без всякого же основания этому человеку сдавались города!» Таким образом злодей понес достойную казнь, как за то, что, преступно вооруживши персов против римлян, пролил столько крови своих единоплеменников, так и за то, что сделал он, – да будет он проклят, – в моем родном городе, Хонах, с {89} знаменитым храмом Архистратига божественных и невещественных сил Михаила: он осквернил это святейшее жилище Божие; он ворвался в него со своими персами и не шевельнул рукою, нечестивец, чтобы остановить их, когда в его глазах они уничтожали сделанные из разноцветной мозаики изображения Христа и святых, топором и молотом ниспровергали священные и неприкосновенные двери алтаря, повергали на землю и попирали святейшую жертвенную трапезу.








