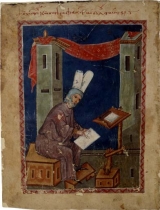
Текст книги "История"
Автор книги: Никита Хониат
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 44 страниц)
Перевод
редакции профессора Н. В. Чельцова.
СОДЕРЖАНИЕ ВТОРОГО ТОМА
ИСТОРИИ НИКИТЫ ХОНИАТА.
ЦАРСТВОВАНИЕ ИСААКА АНГЕЛА.
Книга 1. Благоприятное начало царствования Исаака Ангела; война с сицилийцами; ослепление сыновей Андроника; беспечность сицилийского войска (1).– Врана, полководец Исаака, наносит сицилийцам поражение; сицилийские полководцы взяты в плен; все сухопутное войско сицилийцев рассеяно; ослепление Алексея Комнина, виновника войны (2).– Бедствия сицилийского флота; Исаак не обращает внимания на послание сицилийского короля, заключает сицилийских полководцев в темницу и призывает их на суд (3).– Милостивые обещания Исаака, не оправдавшиеся на деле; набег Клич-Асфлана на Фракисию; второй брак и скупость Исаака; восстание мизийцев, или валахов (4).– Неудачная экспедиция против Исаака Комнина кипрского; Исаак кипрский казнит Василия Рентакина; бесноватые возбуждают валахов к восстанию, и Исаак Ангел своим нерадением упрочивает успех восстания (5).– Неудачное продолжение римскими полководцами войны против валахов; слепая горячность Иоанна Кантакузина; восстание Алексея Враны; Врана осаждает Константинополь, старается соблазнить к измене царские войска, вступает с ними в бой, привлекает к себе пропонтидцев и посылает их против царских триир (6).– Кесарь Конрад, маркиз монферратский, старается поддержать бодрость в Исааке и внушает ему отражать врага не только молитвами, но и оружием; речь Исаака к войску (7).– Битва между царскими и мятежными войсками; Врана убит Конрадом; смерть астролога Константина Стифата (8).– Исаак издевается над головой убитого Враны и над его супругой, прощает мятежников и осмеян ими (9).– Грабеж и сожжение предместий константинопольских; неудачная попытка константинопольских ремесленников разграбить дома латинян; хитрая выдумка латинян (10).
Книга 2. Поход Исаака Ангела против валахов; смерть кесаря Конрада в Палестине и шайка хасисийцев; поражение римлян валахами и окончание похода (1).– Восстание Феодора Манкафы; выдача Манкафы султаном и заключение его Исааком Ангелом в темницу (2).– Поход Фридерика, аллеманского короля, в Палестину; враждебные недоразумения между Фридериком и Исааком; согласие в вере армян и аллеманов (3).– Частые смены патриархов и неблагоразумное вмешательство Исаака в их избрание (4).– Напрасные усилия протостратора Мануила Камица вредить аллеманам; поражение римлян аллеманами; непостоянство и гордость Исаака в отношениях с аллеманами; осмеяние Фридериком римских послов (5).– Переправа Фридерика на восток при содействии Исаака; победы Фридерика над турками (6).– Победа Фридерика над турками под Иконией; геройская храбрость одного аллеманина (7).– Нечаянная и неожиданная смерть Фридерика и панегирик ему; смерть его сына в Палестине и возвращение аллеманов на родину морем; поход в Палестину королей французского и английского; завоевание английским королем острова Кипра (8).
Книга 3. Дети Исаака от первого брака; мечты Исаака о долговременности своего царствования; мятеж самозванца Лже-Алексея константинопольского; смерть Лже-Алексея от рук Феодора Хумна (1).– Мятежи второго самозванца, Лже-Алексея пафлагонского, и Василия Хотзы; смерть их; казнь других мятежников и нескольких знатных особ (2).– Поход Исаака против валахов, которые наносят ему страшное поражение; Анноновское хвастовство его мнимой победой; несбыточные грезы Исаака (3).– Набеги валахов и скифов; победа Исаака над сербским жупаном; успехи Константина Ангела в борьбе с валахами, его мятеж и ослепление к удовольствию валахов; насмешки валахов над династией Ангелов и новые успехи (4).– Нерадение Исаака в управлении; могущество и смерть Феодора Кастамонита; мальчики-временщики управляют делами государства (5).– Роскошь и беспорядочность жизни Исаака; постройки его (6).– Его святотатство; чеканка им фальшивой монеты; его пороки и добродетели (7).– Приготовление его к походу против валахов; недоверие к известиям о злых умыслах брата; посещение им Васильюшки; лишение престола и зрения (8).
ЦАРСТВОВАНИЕ АЛЕКСЕЯ КОМНИНА, БРАТА ИСААКА АНГЕЛА.
Книга 1. Сочувствие римлян к несчастью, постигшему Исаака; расточительность нового императора без всякого внимания к потребностям государства; подавление его супругой Евфросинией мятежа, поднятого Алексеем Контостефаном (1).– Раболепство константинопольцев перед императрицей; вступление Алексея в Византию, помазание на царство и несчастные предзнаменования его царствования (2).– Алексей, оставив фамилию Ангела, принимает фамилию Комнина и предается праздности и неге; ум, характер, роскошь, гордость и предосудительное поведение императрицы Евфросинии; мятеж и смерть Лже-Алексея киликийского; происки и смерть Исаака Комнина кипрского (3).– Отвержение валахами мирных условий, предложенных Алексеем; речь Асана к валахам; взятие Асаном в плен севастократора Исаака (4).– Предречение Асану смерти одним священником и убиение Асана Иванкой (5).– Иванко просит помощи римлян, но они не в состоянии оказать ее; теснимый Петром, который делает своим соправителем Иоанна и вскоре затем умирает, он отдается под покровительство Алексея и оказывает ему услуги (6).– Анкирский сатрап завоевывает город Дадивру; посольство к римлянам короля Генриха, сына Фридерикова, и ответ Алексея на требования Генриха (7).– Согласие Алексея купить мир с Генрихом; тщеславие его, осмеянное аллеманами; требование аллеманскими послами огромной ежегодной дани; неудачная выдумка Алексеем аллеманской подати; Алексей грабит царские гробницы (8).
Книга 2. Смерть Генриха и его жестокости в Сицилии; поражение Иоанном Стирионом генуэзского пирата Кафура (1).– Беспорядки при дворе Алексея и продажность всех званий и должностей в государстве; возвышение императрицей Евфросинией Константина Месопотамского; обвинение ее перед Алексеем в супружеской неверности; казнь молодого Ватаца и неприличное поругание над его головой (2).– Несостоявшийся поход Алексея против валахов; ссылка Евфросинии в монастырь и возвращение снова ко двору (3).– Возвышение и падение Константина Месопотамского (4).– Алексей безрассудно возбуждает войну с иконийским султаном; разрушение султаном нескольких городов; неожиданное спасение Антиохии Фригийской от разорения; милосердие султана к пленникам; ничтожные попытки Алексея к сопротивлению султану (5).– Не полагаясь на врачей, Алексей неудачно лечит сам себя; заботы императрицы об избрании преемника престола; плачевное состояние империи; вторжение скифов во Фракию (6).
Книга 3. Поход Алексея против валаха Хриса и неудачная осада крепости Просака; примирение его и вступление в родство с Хрисом (1).– Вторжение скифов в Македонию; вторичное замужество двух дочерей Алексея; мятеж Иванки; поход против Иванки и плен протостратора Мануила Камица (2).– Прения об евхаристии и разногласие богословов в поднятом вопросе (3).– Алексей вероломно берет в плен Иванку; императрица Евфросиния, подавив мятеж Контостефана, вдается в разные беспутства; прибытие в Византию султана Кайхозроя, изгнанного из Иконии братом Рукратином (4).– Усмирение команов народом русским и в особенности Романом, князем галицким; попытка ограбить Каломодия; разбойничество Иоанна Лагоса (5).– Мятеж Иоанна Комнина Толстого; пиратство Алексея; неудавшаяся попытка его убить Рукратина; мятеж Михаила Ангела Комнина; несчастное мореплавание Алексея и провал в комнате, которую он занимал в Халкидоне (6).– Изгнание Стефаном сербским дочери Алексея Евдокии; разорение Иоанном болгарским Констанции и Варны; выкуп протостратора Камица Хрисом и совокупная борьба их против Алексея; мятеж Иоанна Спиридонаки; усмирение мятежников и заключение Алексеем мира с валахами (7).– Приступая к описанию завоевания Константинополя латинянами, автор говорит о беспечности Алексея, который не обращал внимания на жизнь низверженного им брата; бегство Алексея, сына Исаакова, на запад; расточительность и поборы братьев Ангелов (8).– Приготовление венецианцев по настоянию дожа Генриха Дандуло к войне с римлянами и союз их с разными топархами, стремившимися в Палестину; соединение Алексея, сына Исаакова, с венецианским флотом; император Алексей смеется над экспедицией венецианского флота, который между тем явился под стенами Константинополя (9).– Осада Константинополя латинянами; битвы между латинянами и римлянами; первый пожар Константинополя; слабая попытка императора Алексея к сопротивлению и его бегство в Девельт; суждение автора о его недостатках и достоинствах (10).
ВТОРИЧНОЕ ЦАРСТВОВАНИЕ ИСААКА АНГЕЛА ВМЕСТЕ С СЫНОМ СВОИМ АЛЕКСЕЕМ.
Книга 1. Вторичное восшествие на престол Исаака и принятие им сына своего Алексея в соправители; употребление на латинян всех сокровищ государственных и церковных; разграбление чернью домов латинян, проживавших в Константинополе (1).– Разграбление латинянами сарацинской молельни и описание второго пожара в Константинополе (2).– Поход Алексея, сына Исаакова, против дяди Алексея; беспутное поведение Алексея, сына Исаакова, и неразумное доверие Исаака к внушениям недостойных иноков и астрологов; чернь разбивает статую Афины; императоры занимаются сбором денег для латинян, не щадя ни частного, ни церковного имущества (3).– Грабежи латинян; восстание народа против императоров и народное собрание для избрания нового государя (4).– Избрание на престол Николая Канавоса; смерть Исаака; усилия сына его Алексея удержать престол; заговор Мурцуфла; заключение императора Алексея IV в темницу; воцарение Мурцуфла, заключение Канавоса под стражу и смерть императора Алексея IV (5).
ЦАРСТВОВАНИЕ АЛЕКСЕЯ ДУКИ МУРЦУФЛА.
Ум и характер Алексея Дуки Мурцуфла; приготовления его к войне с латинянами; поражение его Балдуином (1).– Безуспешные старания о заключении мира между враждующими сторонами; осада и взятие латинянами Константинополя; третий константинопольский пожар; последние усилия императора спасти город (2).– Бегство Мурцуфла; спор о престоле между Феодором Дукой и Феодором Ласкарисом; напрасные усилия Ласкариса возбудить народ и войско к сопротивлению; разграбление латинянами города и безбожное поругание над святыней церквей (3).– Буйство и беспутства латинских грабителей; латиняне бесчеловечнее сарацин (4).– Плач автора о падении Константинополя (5).– Обращение его с молитвой к Богу; надежда на помилование Богом, восстановление империи и падение врагов ее
О СОБЫТИЯХ ПО ВЗЯТИИ КОНСТАНТИНОПОЛЯ.
Автор не находит возможности подражать примеру Солона и решается продолжать «Историю» (1).– Отсутствие всяких предзнаменований падения Константинополя; бедственное положение жителей города; переселение автора со своим семейством в дом знакомых венецианцев (2).– Автор со своим семейством выбирается из Константинополя и спасает от похищения дочь одного своего знакомого (3).– Прощальная речь автора Константинополю (4).– Путешествие автора по следам патриарха в Силиврию; неприязненность поселян к византийцам; латиняне заняты беспутствами и осмеянием римских обычаев (5).– Латиняне забавно делят еще не завоеванные области и государства; избирают по проискам дожа Дандуло на константинопольский престол Балдуина, графа Фландрского; достоинства Балдуина (6).– Император Балдуин ставит латинские гарнизоны в городах Фракии и Македонии и заключает договор с Фессалоникой; ссора с ним маркиза Бонифатия, вследствие которой Бонифатий провозгласил римским императором Мануила, сына Исаака Ангела; примирение Балдуина и Бонифатия; занятие Бонифатием Фессалоники и поход его в Элладу (7).– Поход Генриха, брата Балдуинова, и Петра де Плашеса в Азию для занятия римских областей; неудачная осада латинянами Прусы; битва Генриха с Феодором Филадельфийским; сопротивление Бонифатию Льва Сгура; предшествующая история Сгура и отражение его от Афин Михаилом Хониатом (8).– Соединение Сгура с низверженным императором Алексеем, братом Исаака, и женитьба на его дочери Евдокии; ослепление и смертная казнь Алексея Дуки Мурцуфла; завоевание Бонифатием Эллады и Пелопоннеса; осада Навплия и Акрокоринфа, в котором укрылся Сгур; отречение Алексея, брата Исаакова, от императорского сана и его жизнь с женой в Алмире (9).– Отказ Бонифатия и Балдуина принять на службу римлян; обращение римлян к Иоанну, царю мизийскому, или болгарскому; восстание против латинян городов Фракии и Македонии; старание латинян усмирить восстание; взяв Аркадиополь, латиняне приступили к осаде Адрианополя; страшное поражение латинян Иоанном мизийским в союзе со скифами; плен Балдуина и бегство дожа Дандуло (10).– Грабежи латинян в Константинополе, Даонии и Силиврии; двойные страдания римлян от латинян и от скифов; взятие Иоанном города Серр; восстание в Фессалонике и казни, которыми отомстил за него Бонифатий; победа Иоанна мизийского над войском Бонифатия, который заключился в стенах Фессалоники, и дальнейшие его успехи; решение латинян продолжать борьбу с восставшими римскими городами (11).– Генрих, брат Балдуина, истребляет жителей Апроса; упорная, но безуспешная осада им Адрианополя; неудавшаяся также осада Дидимотиха; бедственное положение римлян во Фракии (12).– Разделение римлян азиатских на партии; споры Маврозома, Феодора Ласкариса и Давида Комнина об императорском престоле; разрушение Иоанном мизийским Филиппополя; нашествие скифов; победа их над латинянами под Рузием и окончательное разорение ими города Апроса (13).– Разорение скифами разных римских городов; подступление их к стенам Константинополя, в котором заперлись латиняне, и обратное возвращение в свою сторону; безуспешная осада Иоанном мизийским города Дидимотиха и смерть патриарха Иоанна Каматира (14).– Поход латинян на помощь Адрианополю и Дидимотиху; состояние Фракии после нашествия скифов и валахов; образование в западных областях римского государства многих отдельных независимых владений и бедственное положение их; смерть Николая, архиепископа коринфского (15).– Границы владений на востоке Феодора Ласкариса, Маврозома, Алексея и Давида Комниных, Алдебрандина; Родос составляет отдельное государство; борьба между этими владениями; занятие генуэзцами Крита; неудачная осада Кайхозроем Атталии; война Давида Комнина с Ласкарисом при помощи латинян; поражение латинян Андроником Гидом; занятие города Пиг Петром де Плашесом; избрание латинянами в императоры Генриха, брата Балдуинова; казнь Иоанном мизийским Балдуина и многих римских пленников, в том числе Константина Торникия; разрушение латинянами пророчественных талисманов, или роковых статуй города Константинополя (16).– Настойчивость в характере латинян и непостоянство римлян; жалобы автора на заносчивость и пренебрежение к нему его никейских сограждан и его жизнь в Никее; в заключение «Истории» автор рассказывает о счастливом походе императора Генриха против валахов и скифов (17).
ИЗ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОЙ ИСТОРИИ.
(КНИГА О СТАТУЯХ ГОРОДА КОНСТАНТИНОПОЛЯ).
Прибытие в Константинополь латинского патриарха Томаса со свитой (1).– Святотатство латинского духовенства, простершееся на гробницы римских царей и завесу великой церкви (2).– Латиняне, нуждаясь в деньгах, решаются перелить в монету медные статуи константинопольские; так погибают статуи Гэры, Париса и Афродиты (3).– Статуя Ветроуказательницы, или Анемодулии; статуя Иисуса Навина на коне или Веллерофонта на Пегасе (4).– Статуя Геркулеса (5).– Статуя Осла и Погонщика (6).– Статуи Гиены и Волчицы, Человека в борьбе со львом, Нильской Лошади, Слона, Сфинксов, Невзнузданного Коня и Сциллы (7).– Статуя Орла и Змея (8).– Статуя Елены (9).– Статуя Молодой Женщины со всадником на руке (10).– Статуя Возниц (11).– Статуи Аспида и Василиска, или Нильского Быка и Крокодила (12). Хронологическая таблица событий. Родословные таблицы. Алфавитный указатель.
ЦАРСТВОВАНИЕ ИСААКА АНГЕЛА
КНИГА ПЕРВАЯ
1. Без всякого труда со своей стороны получив таким образом царскую власть и, так сказать, купив ее кровью Агиохристофорита, Исаак Ангел перешел из большего дворца во дворец влахернский и показал себя государем, по-видимому, в высшей степени правосудным, несправедливо впрочем применяя к себе и постоянно повторяя стихи из песни о быкообразном царе*, которые читаются так: {1}
«Наружность показывает способ и место, как и откуда пришел ты, достойный всякой любви в том виде, каким представляешься мне, потому что ты более других украшен лучшими достоинствами и разумно управляешь теми, кто тебе дороже всего. Итак, ты счастливо достиг цели, один только со славою вышедши из царственных чертогов и прекратив власть умершего. В скором времени, державный, ты сделаешь счастливою свою державу».
В самом деле, воцарившись, он обильно умастил милостью главу бедных, во внутренней своей клятве беседуя с Богом Отцом, видящим втайне. Все томившиеся в ссылках, все, кого Андроник или лишил имущества, или изувечил, были теперь собраны и надлежащим образом удовлетворены; так что царь не только возвратил им все, что из прежнего имущества их не пропало, сберегаясь в царской казне, или уцелело еще, быв отчужденным Андроником в пользу других, но восполнил их потери сверх того из государственных сокровищ, сыпля щедрою рукою. А это поправило и войну с итальянцами, которые занимали уже Фессалию и стояли под Амфиполем, дерзко порываясь на самый Константинополь и хвастаясь, что его легко осадить с моря и с суши и в самое непродолжительное время можно взять, как пустое гнездо, и разграбить без труда. Видя в воцарении Исаака как бы перемену зимы на весну, или бури {2} на совершенную тишину, римляне со всех сторон потекли в Константинополь; шли не только бывшие прежде в военной службе, но и никогда не знавшие ее, даже вовсе юноши, – одни, чтобы только взглянуть на нового Моисея-освободителя, или Зоровавеля, возвратившего пленников сионских (так они представляли себе Исаака), другие, чтобы получать следующее служащим в войске содержание, а некоторые и за тем, чтобы записаться в войско и действительно отправиться на войну с сицилийцами. Между тем, как скоро падение Андроника сделалось известно сопровождавшим царя Иоанна, Андроникова сына, в филиппопольскую епархию, то немедленно и он был схвачен, ослеплен и предан мучительной смерти, не нашедши ни в ком ни сочувствия, на которое надеялся, ни сострадания, которого просил. Брат его Мануил был также ослеплен в заключении, хотя ничем нельзя было доказать, чтобы он сколько-нибудь участвовал в преступлениях своего отца, и это самым точным образом знали не только люди, знакомые вообще с ходом общественных дел, а еще более всех сам Исаак, который лишил его зрения.
Пользуясь многочисленным стечением народа из восточных городов, представлявших возможность собрать достаточное войско против сицилийцев, Исаак ласково принимал всех приходивших, награждал по возможности и, вооружив их, отсылал в лагерь Враны. {3} Прочим римским войскам, находившимся в поле против врагов, он также послал царское жалованье, в количестве сорока центенариев золота, и тем еще более укрепил их к предстоявшей борьбе. В это время неприятельское сицилийское войско, еще не зная судьбы, постигшей Андроника, смело шло вперед, замышляя положить предел трудам своего похода в Константинополь. Равным образом флот неприятельский уже подплыл и пристал к островам, лежащим близ самого города. Но Тот, Кто не попускает сильным спасаться во множестве силы их, на колесницех и на конех, смиренным же и кротким дает благодать, Господь – унизил надменных и, внезапно сошедши к ним, как древле к строившим столп (в земле Сеннаарской – Быт. 11, 1—9), не смесил их языки, но самих их разделил на три отдельные части. Одна часть осталась стеречь главный город Фессалии и находилась в этой стране с быстроходными кораблями; другая, блуждая без всякого опасения, опустошала Серры. Наконец третья, шедшая впереди, подразделялась на два отряда, из которых один стоял при реке Стримоне, разоряя окрестности Амфиполя, а другой, весело идя вперед и как бы желая предвосхитить вступление в столицу, стал лагерем в Мосинополе. Всегда побеждая и уже не встречая более сопротивления, этот последний отряд, нужно ли было когда выходить из Мосинополя на грабеж, или на поиск съестных {4} припасов, дозволял себе самые неосмотрительные разъезды и делился на партии до того, что, наконец, каждый солдат бродил везде, где ему было угодно. 2. Подметив где-то подобную оплошность варваров, римский полководец Врана однажды напал на них со своим войском. Сначала он едва мог убедить своих солдат выйти несколько из гор и ступить на открытую равнину; но потом, когда первое нападение было произведено с некоторым успехом, и неприятельский отряд обратился в бегство, они оправдали на себе сказку о мирмидонянах, мгновенно превратившись в храбрецов и неудержимо поражая спасавшихся бегством. Случилось так, что римляне простерли преследование врагов до самого Мосинополя. Удачно разбив по дороге еще одну неприятельскую партию, они решились напасть и на заключившихся внутри города. Городские ворота были защищаемы неприятелями (которых обуял уже трепет и ужас); несмотря на то римляне, зажегши их, ворвались в город и пресытились убийствами, давно не вкушавши лакомств Арея. А когда они, поевши богатство этих пришлецов, насытились и утучнились добычею, то стали помышлять уже и об амфипольском отряде, пренебрегая третьего дня одержанною победою, как вчерашнею пищею. Таким образом, подкрепившись конями и оружием врагов, они, как строй Божий, или как войско львов, двинулись на другую часть неприятелей, еще стояв-{5}шую лагерем на Стримоне. И вот, Божиим велением, жребий изменился! Те, которые недавно были горды, высоковыйны и едва не хвастались, что могут своими копьями передвигать и переставлять горы, теперь, быв поражены и ошеломлены, как будто молниею, или необычайным ударом грома, ужасными слухами o мосинопольской битве, избегают сражения и неохотно строятся в ряды. Напротив, римляне, оправившись от смущения, летели, как подоблачные орлы на охоту за привязанными к земле птицами, и быстрее, чем на крыльях, стремились встретиться с теми, которые прежде позорили их поносными речами. Когда оба войска сошлись на одном поле (при местечке Димитрицы), то сицилийцы еще более обнаружили свою робость тем, что стали предлагать мирные условия и с этою целью вступили с Враною в переговоры. Сначала римляне согласились на их требования; но спустя немного переменили решение, подозревая, что в предложении противников кроется обман, или, если обмана нет, то, по крайней мере, высказывается несомненная робость, и, не ожидая никакого знака к войне, ни звука трубы, ни какого-нибудь другого распоряжения вроде тех, которые обыкновенно дают полководцы пред началом сражений, бросились на врагов с обнаженными мечами. До некоторого времени сицилийцы бодро и мужественно выдерживали натиск римлян; сражение имело много перемен и переворотов, но на-{6}конец, уступая чрезмерному одушевлению римского войска, латиняне обратили тыл и в беспорядке бросились в бегство. Пользуясь победою, римляне били их, брали в плен, сталкивали в реку Стримон, обогащались добычею, снимали с убитых доспехи. Это было седьмого числа ноября месяца, и день склонялся уже к вечеру, когда происходило преследование. Между прочими были взяты в плен также два неприятельских полководца: Ричард, брат жены Танкреда, командовавший сицилийским флотом, и Алдуин Конт, человек невысокого и незнаменитого рода, но пользовавшийся высоким уважением короля за свое военное искусство и в то время почтенный саном главного предводителя всего войска. Превозносясь своими прежними победами над римлянами, Алдуин сравнивал себя с Александром Македонским, и хотя не показывал подобно ему волос на своей груди, представлявших будто бы подобие орлиного клева и крыльев, тем не менее хвалился, что в самое короткое время и без кровопролития совершил больше великих дел, чем он. Те же из неприятелей мосинопольского и амфипольского отрядов, кому удалось спастись от бедственной участи поражения, а равно и те, которые составляли отряд, опустошавший окрестности Серр, бросились немедленно в Фессалонику и там, севши на долгие корабли со всею поспешностью, свойственною бегству, уплыли, но неблагополучно. Поднявшиеся на погибель {7} их порывистые ветры произвели то, что они, избежав участи, ожидавшей их на земле, спустя немного по Божию мановению были постигнуты ею на море. Многие не попали на триеры. В отчаянии бродя еще по Фессалонике, они были захвачены здесь и истреблены разным образом, преимущественно наемными аланами. Отплачивая тем же, что потерпели сами при взятии Фессалоники, аланы не давали пощады ни одному неприятелю и наполнили убийствами улицы и преддверия божественных святилищ. Где брат мой, спрашивали они захваченных сицилийцев, то есть земляк-аланин, которого те убили при взятии Фессалоники, и вместе с вопросом вонзали в них меч. Где батюшка, то есть где те священники, которых избили сицилийцы, врываясь внутрь святилищ, говорили они врагам, искавшим убежища в храмах, и вместе с этими словами наносили им смерть. Но вот необыкновенный случай: рассказывают, что при взятии города сицилийцами собаки не растаскивали и не терзали трупов, даже не касались ни одного мертвого тела убитых римлян; теперь же они с таким бешенством бросились на трупы павших латинян и до такой степени были ненасытно плотоядны, что разрывали могилы, выкапывали тела, преданные погребению, и делали их своею добычею. Вместе с теми двумя полководцами, о которых мы говорили, взят был в плен также виновник всех этих бедствий – Алексей Комнин, пустой и {8} вредный человек; он был достоин хароновых жилищ, но его лишили только зрения. Наконец несколько человек латинян спаслись бегством в Эпидамн и там, как жалкий остаток многотысячного войска, радостно присоединились к своим одноплеменникам, составлявшим гарнизон города. Король сицилийский, укрепив этот город всеми оборонительными орудиями, не сдал его римлянам непосредственно по истреблении своих войск, но удерживал с безумным упорством, неразумно гоняясь за пустою славою после явного поражения и стыда; впрочем, немного спустя он добровольно отступился от него, испугавшись страшных издержек.
Таким образом, сухопутная война получила такой счастливый исход, какого никому из нас и в голову никогда не приходило. Господь, промышляющий обо всем, как Владыка всего, всегда милующий и со всею попечительностью управляющий делами человеческими, как всемощный распорядитель их, взвесив дела наши, отняв у нас всякую добрую надежду и наказав нас вмале, поразил врагов наших в тысячу раз более. Он не изменял стихий, не изводил из земли множества скифов, не повелевал рекам изрыгнуть водяных жаб, не посылал впереди нашего воинства песьих мух, вообще не совершил ни одной из древних чудесных казней; но сделал то, что избиваемые избили своих убийц, мгновенно превратившись в победоносных {9} воителей, и показал на врагах наших, что злоба сама по себе робка, так как ее обличает собственное свидетельство и она везде видит опасности, будучи тревожима собственною совестью. В самом деле, в каком преступлении могли обвинять римлян сицилийцы, которых совершенно удаляют от нас темные горы и шумное море? Но, если можно безнаказанно касаться глубочайших судеб Божьих, – Господь наказал нас, потому что познал грехи наши; а так как те, кому по божественному мановению дано было наказать нас, были до бесстыдства жестоки и немилосердны, то и сами они не избежали праведного гнева Того, Кто хочет милости, Кто слезный хлеб посылает только небольшими частями и поит слезами в меру. Нападая, как львы из лесу, терзая, как волки, и бросаясь, как леопарды, они из пленителей сделались пленниками и из обладателей обладаемыми. Господь напоил их водою, растворенною заблуждением, и показал, что на них также были пятна, сделавшиеся багровыми от кровавой жестокости их и для своего уничтожения требовавшие селитряной щелочи. Итак, переступив свои пределы, они вошли в наши, чтобы нас наказать немного и себя подвергнуть наказанию большему.
Между тем, как мщение Божие постигло, таким образом, сухопутное войско сицилийцев, 3. долгие корабли их, числом более двухсот, отступили также не без урона. {10} Они лишились значительного числа людей, пристав в Астакинском заливе и быв встречены римскими войсками, которые, быстро двигаясь около утесистых берегов, нигде не допускали их высадиться и везде делали материк неприступным; так что едва сицилийцы ступали на землю или начинали бросать лестницы для выхода из кораблей, как немедленно со всех сторон сыпались на них дождевыми каплями стрелы, и они прятались под корабельные палубы, как черепахи в свою скорлупу. Несмотря на большой численный перевес их флота, наш флот, простиравшийся едва до ста кораблей, сильно желал сразиться с ним. Не говорю, что у моряков болело сердце; даже многие из жителей Константинополя, вооружившись, чем попало, и севши на суда нетерпеливо порывались плыть на врагов, но это не дозволялось царем и его советниками в общественных делах, обращавшими внимание не на одну только ревность нашу, но в то же время не упускавшими из виду и превосходства неприятельских кораблей. Вследствие того наши триеры, крейсируя у Кионского берега, не пускались далее. Около семнадцати дней неприятельский флот проплавал таким образом между островов. Наконец, не видя ни на одном берегу появления своих единоплеменников и заключив, что подобное исчезновение не обещает ничего доброго, сицилийцы решились отправиться в обратный путь и действительно уплыли домой, {11} выжегши перед отправлением остров Калоним и все прибрежные места в Геллеспонтском заливе. Говорят, впрочем, будто значительная часть их кораблей вместе с людьми потонула в море, встретившись с противными и бурными ветрами, а некоторые суда были совершенно опустошены голодом и болезнями.
В этих войнах неприятельские войска потеряли убитыми не менее десяти тысяч человек; сверх того в обе войны более четырех тысяч неприятелей взято было в плен. Быв заключены в общественные темницы, между тем не получая содержания и необходимых потребностей жизни ни из царских кладовых, ни из другого какого-нибудь источника и пробавляясь только хлебом, доставлявшимся из любви к Богу посещавшими узников, пленники жестоко гибли, так что правитель Сицилии, возбудивший тогдашнюю войну против римлян, узнав об этом, письменно упрекал царя в бесчеловечии за то, что он оставляет гибнуть от голода и наготы целые сонмы невинных людей, правда, поднявших оружие против римлян по закону войны, но в тоже время христиан, сделавшихся пленниками по воле Божьей. Победитель, говорил он, должен или немедленно осудить на смерть всех пленных, презирая закон человечности и от счастливого оборота дел превратившись в дикого зверя, или, если он, не решаясь на это, связал их и {12} заключил в темницы, – по крайней мере, давать им достаточный кусок хлеба, если уже скупится на настоящее содержание, а не мучить страданиями более тяжелыми, чем мгновенная смерть от меча, не терзать голодом и не морить холодом и стужею, иначе на него опять падет вина смертоубийства, хотя бы он не пронзал груди копьем и не наносил глубоких и смертельных ран стрелами, потому что все равно – убивать, или убийственно доводить до смерти. Впрочем, царь, не обратив внимания на его послание, оставил несчастных сицилийцев гибнуть по-прежнему, так как именно этого он и желал им. Часто в один день умирало, таким образом, по два и по три человека, и без погребения, без последнего омытия тела, их раскидывали по кладбищам и подземным пещерам.








