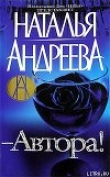Текст книги "Смерть по сценарию"
Автор книги: Наталья Андреева
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 18 страниц)
– А Саша знает?
– Да, ей не повезло. Ладно, Марина, кто там звонил, пока я так надолго отвлекся?… – И Алексей снова со вздохом взялся за телефон.
2
Жаруч что свалилась на Москву в начале июня, в общем-то ждали. Вернее, предполагали, что она должна когда-нибудь наступить после такого жуткого майского холода. Надо же было наконец-то взойти и подрасти всему, что настойчивые огородники запихали-таки в промерзшую землю. Но когда эта долгожданная жара свалилась наконец на огромный заасфальтированный и зацементированный город, люди почувствовали себя неважно. Действительно, кому охота задыхаться в помещениях и общественном транспорте и ежесекундно чувствовать на себе потную, горячую одежду? А магазины ведь должны работать, торгаши – торговать, водители – водить то, что обязано в любую погоду исправно ездить, милиционеры – следить за порядком.
Леонидов выбирался из офиса уже вечером, не раньше девяти часов. В его кабинете исправно работал климатконтроллер, установленный еще роскошным Павлом Сергеевым, поэтому отрегулированные двадцать три градуса и напряженный рабочий день сглаживали впечатление от любой погоды. Но сегодняшний вечер для Алексея стал открытием: он вышел и почувствовал, что в пиджаке жарко. Люди разделись до всего, что еще подпадало под определение «прилично». Улицы Москвы напоминали гигантский пляж, на голые участки тел внимания никто не обращал, все пялились на людей в костюмах с единственной мыслью: «И не жарко?» Почувствовав себя идиотом, Алексей поспешно снял пиджак и пошел к машине. Его «Жигули» выглядели так, будто их металлические части сняли только что с прокатного стана и слепили в небольшой раскаленный коробок.
«Как жить?» – отчаянно подумал Леонидов, забираясь в эту камеру пыток. Все мировые катаклизмы мгновенно ушли в глубокую тень перед индивидуальной бедой: необходимостью торчать в этом городе в тридцатидвухградусную жару.
На ближайшем к дому рынке у обалдевших от непривычной для столицы погоды и оттого сильно обсчитывающих, но непременно в свою пользу продавцов Алексей купил фруктов и овощей. В жару хотелось есть только продукты, содержащие много воды. Воду Леонидов тоже купил и мороженое, два мороженых после секундной паузы. В его квартире все нагрелось так, что Алексей понял: быстро не уснуть. Он со вздохом достал из «дипломата» распечатку скопированного на даче у Клишина. Наугад взял один из листков и, открыв бутылку минеральной воды, сел в кресло. Это была та самая философия, которая отпугнула Михина: рассуждения Клишина о людях и о себе. Данный листок, например, был как раз о себе, то есть о Павле Клишине как незаурядной человеческой личности. Оказалось, что свою персону он воспринимал с той же долей ненависти, что и окружающих.
СМЕРТЬ НА ДАЧЕ (ОТРЫВОК)
«…и каждый день я вижу в зеркале именно это лицо. Какая гнусность, что приходится с утра бриться! Отрастил бы бороду, да не могу преодолеть временный отрезок колючей щетины, похожей на наждачную бумагу, которой не хватает только незаконченного деревянного изделия, чтобы его отшлифовать. Именно из-за подобного неудобства я по утрам спросонья иду в ванную и пялюсь в зеркало, приходя в отчаяние. Лицо мое похоже на цветную коробку дорогих шоколадных конфет, такое же яркое и пустое внутри, где крохи настоящего шоколада размазаны с плотностью десять граммов на десять квадратных сантиметров: глаза слишком синие, волосы слишком желтые, рот слишком яркий, ресницы слишком черные. Зачем? Это величайшая цветная глупость, которую я видел в жизни, от нее тошнит уже через час, а мне приходится рассматривать буйство плохо сочетающихся красок каждый день. Это самое большое наказание в моей жизни, хотя многие со мной не согласятся. Если бы лишние килограммы не вызывали у меня раздражения и страх перед многочисленными болезнями толстых людей не давил бы так на психику, я отрастил бы здоровое брюхо и успокоился наконец. Но я ужасно мнителен: когда, взбегая на пятый этаж, обнаруживаю у себя одышку, сразу начинаю думать, что это рак. Смешно? И мне. Поэтому в спортзал я хожу тайно, и тайно же не ем жирного и мучного.
Будь я при всех моих жеребцовых статях дураком – это было бы огромное для меня счастье. Но мне не везет: слишком ясно понимаю и чувствую, чем привлекаю к себе всех этих женщин и что они хотят от меня слышать и получить. Им плевать на то, что я мыслю, важно только, что умею двигаться, есть, пить, укладывать их в постель и, вообще, что я живой, а не экранный и не журнальный вариант. Конечно, были и такие, которые утверждали, будто любят мою бессмертную душу. Совсем по Льву Толстому, черт возьми! Бессмертная душа! Какого Дьявола она попала в эту дешевую оболочку? Так вот о тех женщинах: все они врут. Быть может, попривыкнув к моему конфетному лицу, они вгляделись бы и в душу мою и попытались ее понять, но это до первого появления со мной на публике. На улице или в гостях я не теряю ощущения, будто попал на выставку собак, что я породистый пес на поводке у раздувшейся от гордости хозяйки и она с восторгом демонстрирует публике, какая у меня редкая масть, роскошный экстерьер и сколько на подобных же собачьих выставках я успел получить медалей. Любая женщина, идущая со мной, не устает ловить завистливые взгляды соплеменниц и чувствовать себя пусть временной, но владелицей того, что не каждой доступно.
Многие мечтают хоть на миг оказаться в шкуре очень красивого человека и понять, что он чувствует. Могу с уверенностью сказать только одно: красота не вызывает доверия. Что угодно – зависть, восхищение, желание обладать, но не доверие. От красивых людей ждут чего-то такого же неординарного, как и их внешность, и потому относятся настороженно. Вот почему это мешает мне быть тем, чем я хочу быть: писателем. Я не могу ничего знать, потому что со мной никто не бывает откровенен, могу только догадываться, и это моя трагедия…»
Тут Леонидов почувствовал, что у него пересохло в горле, и налил себе воды. Пока он понял только одно: покойный писатель был человеком весьма оригинальным в своих взглядах и далеко не таким однозначно циничным и отвратительным, каким воспринимали его другие. «Негодяй поневоле» – так Алексей про себя назвал Клишина.
Самому Леонидову иногда тоже хотелось почувствовать себя красавцем, и определенную долю истины в словах писателя он находил. Но чтоб так ненавидеть собственную внешность! И какую внешность…
«Ох, кабы мне бы!» – вздохнул Алексей, но тут вспомнил, что у Клишина трудно понять, где ложь, где правда, он часто врет и любит события искажать, все вышенаписанное могло быть просто позерством. Ну, устал человек от постоянных домогательств, только это не значит, будто теперь сможет без них прожить. Леонидов посмотрел на пачку бумаги: «Нет, лучше кино посмотреть, в больших дозах творчество Клишина несъедобно».
«Смерть на даче» была заброшена, зато на столе появились купленные на рынке фрукты. Очистив банан, Алексей включил телевизор и попытался выслушать очередную версию первого канала о событиях в стране и мире. Банан Леонидов съел, речь диктора застряла в горле, через ушные раковины проникнув в организм, и едва не испортила процесс пищеварения. Юбилейные волнения уже улеглись, но Пушкин на этой неделе еще оставался живее всех живых, и все желающие продолжали делиться воспоминаниями о том, как они перечитали недавно то, что нормально успевающие школьники с детства знают наизусть.
Устав от обсасывания прошедших торжеств, Леонидов лег в постель и вытащил из пачки следующую страницу. Она начиналась словами: «Творчество – это состояние постоянного нервного стресса». Он нашел в себе силы прочитать:
СМЕРТЬ НА ДАЧЕ (ОТРЫВОК)
«…стресса. Писатель – это всего лишь проводник. Он похож на электрический провод, по которому идет ток от генератора к источнику света для окружающих. Дело в том, что находящийся вокруг нас воздух насыщен словами. Эти слова берутся отовсюду: из тех мыслей, что вертятся в любой голове, из звуков, доносящихся с улицы, из того невидимого горла, что орет беззвучно и внушает нам желание куда-то идти и чего-то делать. Слышат не все, только те, чья психика менее устойчива и подвижна, и это особая нервная организация, неприятная для окружающих.
Обижаясь на меня, люди и не подозревают, что я всего лишь зеркало. Да-да, именно зеркало, потому что только отражаю их самих, их слова, настроение и мысли. Если человек внутренне не агрессивен, то я ему улыбаюсь и говорю приятные вещи, от которых в свою очередь улыбается он. Но таких, увы, мало. Большинство – люди с большим самомнением, пренебрежением к окружающим, лицемерные и скрытные. Они говорят гадости завуалированные и очень обижаются, когда слышат в ответ гадости откровенные: а именно – правду о себе. Если их неискренняя улыбка отражается от моего лица и уходит обратно к собеседнику как отвратительная гримаса, так разве я в этом виноват? Как писатель, я всего лишь изучаю, я настраиваюсь на того человека, с которым в данный момент рядом нахожусь, как на определенную волну радиоприемника, я его ловлю, а потом слушаю те звуки, что эта волна доносит. Вот и все. И никакой моей неприятности для окружающих. Как говорится, неча на зеркало пенять…
У меня очень много врагов. Вернее будет сказать, что моими врагами считают себя все знакомые со мной люди, исключая тех женщин, что еще рассчитывают мною поживиться. Плохо мне от этого? Не знаю. Во всяком случае, мое творчество имеет неприятную особенность: оно не видит ничьих достоинств. Я пишу о людях гадости, но пишу не сознательно. Это просто та аура, которая меня окружает, а я проводник ее содержания. Скажите мне, что может написать счастливый человек? Сопли. А несчастный? О, несчастье имеет столько оттенков, что скучать не приходится! Страдают все, и очень разнообразно: миг наслаждаются и вечность страдают. Словно в один из редких праздников напьются вволю дряни, испытают минутный кайф – потом весь следующий день мучаются газами и еще неделю выводят прыщи на лице. Вот это и есть счастье и его последствия. Я, например, чем больше сегодня ною и жалуюсь на жизнь, тем лучше у меня завтра все получается. Мой рецепт удачи – действие от противного – дарю человечеству.
Так, все поняли, например, как следует сдавать экзамены в ГИБДД? За день до этого надо напиться, разбить чужую машину, попасть в приемный покой, весь следующий день стонать от боли и ругаться с приятелем, а в день, который был запланирован для вас как самый неприятный, вдруг почувствовать, что вас пронесло, такой ерундой покажется предстоящий экзамен…»
Тут Леонидов даже хрюкнул, почувствовав, что ему смешно. Этот парень и впрямь был не дурак, и Алексею нравились некоторые его рассуждения и как он писал. Потом ему вдруг стало скучно, он бросил листки обратно в стол и набрал номер Барышева. Трубку взяла Анечка.
– Аня, Барышев дома?
– Алексей Алексеевич? – Анечка работала в «Алексере» продавцом и стеснялась демонстрировать особые отношения с семьей коммерческого директора Леонидова.
– Девушка, десять часов, я уже не на работе.
– Сейчас Сергей к телефону подойдет.
На другом конце провода Барышев взял трубку:
– Бездарный Леонидов, это ты?
– Я, я, глупый огромный Барышев. Кстати, не такой уж я бездарный, версия о хулиганах прошла, хотя некоторые слишком умные и догадались. Но нас с тобой простят.
– А если нет?…
– Ладно тебе, Серега. Тот капитан в офис приходил, почти мирился и жаловался, что не понимает творчество Клишина.
– А ты понял?
– Читаю вот. Местами весьма живо, а иногда в сон клонит.
– Стоило хоть?
– Чего?
– Того. У меня Анюта рядом, не могу же я открытым текстом заявить про поход вокруг чужой дачи.
– Сам пока не знаю. Какое-то мнение у меня уже сложилось, не хочешь послушать?
– В десять вечера? А если я усну?
– А я уже сплю. Нет, Серега, я просто приглашаю вас к себе на дачу в выходные, у нас в стране их нынче целых три штуки намечается.
– В честь чего?
– А как же? А День независимости? Никто толком не знает, чего от чего у нас теперь не зависит: то ли расходы от доходов, то ли Президент от Думы, но все празднуют, и весьма охотно, потому что лето. Целых три дня отдыха в такую погоду – разве не радость? Раньше, во времена моей туманной юности, именно летом и зияла злосчастная дырка, но была ликвидирована вместе с социалистическим режимом.
– Слушай, Леонидов, да ты обчитался, несешь ахинею. Так мы празднуем или нет?
– Празднуем. Приезжайте часикам к двум, за день ваш огород не увянет, а чтобы не расслабляться, можете мой полить.
– Я думал, ты бескорыстный, а ты бесплатную рабочую силу ищешь, всего-то.
– Да, но обещаю достойно ее накормить.
– Согласен. Маршрут я помню, надо только перед женой прикинуться, что попал в ваши края впервые. А ты смотри не проговорись.
– Ладно, значит, до субботы?
Леонидов повесил трубку и подумал, что Саша ничего о гостях не знает и придется в пятницу после работы закупить продукты.
«Придется злоупотребить служебным положением и попросить кого-нибудь из водителей заехать на рынок. Неужели я становлюсь барином? Подло, Леонидов, но иначе ты теперь не проживешь». На этом душевные терзания закончились, как и фрукты в вазе на столе, он лег в теплую от жары, а не от человеческого тела постель, накрылся простыней и уснул, поставив будильник на привычное время.
3
Когда Леонидов появился на даче с двумя большими сумками, набитыми разнообразной едой и бутылками, Александра удивленно раскрыла глаза:
– У нас что, прием намечается?
– И по высшему разряду. Завтра часам к двум Барышевы приедут. Ты не против?
– Так ты с Барышевым на дачу к Паше лазил?
Он уставился на жену:
– Когда?!
– Да ладно тебе, бедная овечка. Не прикидывайся уж. Тут Михин недавно приходил и лез с расспросами о моем чутком сне, я сразу поняла, что без тебя не обошлось. Уж больно тихо хулиганы себя вели, к тому же рано утром, перед тем как это обнаружили, я рядом с дачей кое-что нашла. Не твое? – Жена держала в руках его блокнот, а он искал его уже дня три и сегодня утром списал как потерянный навсегда в неизвестном месте.
– Саша!
– Эх ты, профессионал! И чему тебя учила твоя сыщицкая работа? Ходить на кражу с паспортом и правами, а потом надеяться, что любимая жена прикроет тыл? Нет, Леонидов, с тебя штраф.
– Согласен на все. Каюсь.
– Тогда завтра целых полдня, пока я буду обед готовить, будешь таскать в душ воду из колодца.
– Есть!
– Напоминаю, что до колодца метров двести, ведер два, в каждом по десять литров, а бачок в душе абсолютно пуст.
– Саша, я же умру!
– Не умрешь, но похудеешь. Приказы старшего по званию не обсуждаются. Рядовой Леонидов поворачивается кругом и идет на кухню принимать пищу.
– Саша, с каких пор жена по званию старше мужа?
– С тех самых, когда ловит его на очередной глупости. Рядовой Леонидов, почему вы еще не в процессе движения?
– Иду, иду. Только Барышеву не говори, он и так меня бездарностью обозвал.
– Оба хороши. Один идеи дурацкие подает, а другой как огромный ребенок, честное слово. Ты хоть алиби-то свое отработал?
Саша вошла за Леонидовым в кухню и стала разбирать сумки, пока он полез ложкой в какую-то кастрюлю.
– Свинина? Леша, это же так дорого! Нам еще долги за машину отдавать.
– Прорвемся. Там еще много чего, ты разбирай, разбирай.
– Хорошо, что ты Барышевых пригласил, я уже заскучала совсем.
– Есть у меня мысль, завтра с Серегой додумаем. Жаль, спать охота, меня на свежем воздухе клонит куда-нибудь урониться.
– Ты что там ищешь?
– Еду.
– Еду я тебе в сковородке разогрела, а в кастрюле – это собаке.
– Ой, а что она ест?
– Какая разница?
– Я это только что проглотил. Саша, я умру?
– Да. Завещание написал? Леша, ты что? Это просто позавчерашний суп, он даже не совсем прокис. Ну еще хлеба немножко и кусок печенки.
– Сырой?! – Леонидов обессиленно опустился на стул. – Это ужасно.
– Что ужасно-то?
– Все. Жизнь ужасна. Еда – и та ужасна.
– Брось, Лешка. Недавно рассказывали по телевизору, как один геолог, у которого ноги отнялись, два месяца лежал в хибаре без еды. Даже замазку из окон выковыривал и жевал. Так нашли его живым, и сейчас он в больнице килограммы набирает. Ученые там его исследуют, как это так и где в кроличьей шапке, которую он сварил, органические и питательные вещества. А ты из-за собачьего супа ноешь.
– Сашенька, экстремальная еда не отравляет организм только в экстремальной ситуации. Конечно, где-нибудь в обезвоженной пустыне я мог бы поискать органику и в обычном речном песке, если бы отбился от каравана. Но здесь, у себя дома, рядом с двумя сумками, полными деликатесов, съесть нечто, предназначенное какому-то псу! Нет, это жестоко. А что в сковороде?
– Жареная картошка и пара наисвежайших домашних котлет.
– Давай.
– Может, водки выпьешь для дезинфекции, а то как бы диарея не прихватила.
– Кто-кто?
– Это так загадочно в одной рекламе называют процесс, когда человек полдня из туалета не вылезает. Смешно, а главное, как деликатно и красиво.
– Тогда давай водки. Знаешь, я сегодня пойду спать в террасу. Как там?
– Жара. Нагрелось за день, даже душно. Ты иди, а мы с Сережкой позже придем, ночи-то какие стоят, а? Светло как днем, можно гулять и гулять, и все так здорово поет, а лягушки квакают.
– Чего ж они квакают?
– Глупый ты, у них же сейчас самая любовь.
– Ay нас? – Леонидов потянулся к Саше и полез целоваться.
– А у нас всегда любовь. Только маслеными губами не лезь к моему чистому халату.
– А если вытру?
– Тогда я, пожалуй, приду к тебе на диван сегодня ночью.
– Приходи. – Он прижался к жене и почувствовал, что не так уж все и ужасно. Можно даже на несколько деньков в ту хижину, как геологу, только бы знать, что потом будет эта жара, эта дача и красивая, пахнущая ландышами жена, ласково целующая его в теплую выгоревшую макушку.
…Сергей Барышев с Анечкой приехали на знакомых Леонидову «Жигулях» минут в двадцать третьего. Барышев вылез из машины, огромный, мокрый, в коротких шортах и черной майке, выразительно открывающей роскошную мускулатуру. Светленькая Анечка уже успела загореть, она была вся медно-золотистая, волосы выгорели до белизны, а губы потемнели от горячих лучей всесильного солнца. Она сразу кинулась к Саше, стала что-то щебетать, с завистью косясь на ее животик:
– Ой, Сашка, какая молодец! Уже второго! Я тоже хочу.
– Второго? – усмехнулся Серега.
– Ну тебя, мы и на первого-то никак не решимся.
– Я уже давно. Спроси коммерческого директора, отпустит он тебя в декретный отпуск или нет? Все вопросы можно решить здесь же, так, Леша?
– Так, так. Вам уже пора, скоро годовщина свадьбы.
– Ну, еще три месяца, успеем. Как, Аня?
Обмениваясь шутками, они прошли в сад. Сюда, к старым раскидистым яблоням, Алексей вынес с утра стол и положил кирпичики по бокам вырытой ямы, чтобы на них класть шампуры. Одуванчики вокруг уже были не желтыми, а белыми, легкий ветер поднимал вверх тончайшие кружевные семена, и временами сад напоминал комнату, в которой вспороли и выпотрошили бабушкину пуховую подушку.
– Вот заразы, в рот ведь будут лезть. – Леонидов кивнул на поляну одуванчиков.
– Ничего, этим не отравишься, особенно если чем-нибудь этаким запить. Ты водку-то будешь, Леонидов? – Серега выразительно кивнул на влажную прозрачную бутылку, по которой каплями стекала расплавившаяся на жаре прохлада из ледяной морозилки.
– А то! Да под шашлычок, эх! – Алексей придвинул кастрюльку с мясом и вручил Барышеву шампур. – Угольки я нажег, можно закладывать.
Часа через полтора мужчины, уже слегка объевшиеся и захмелевшие, растянулись под яблоней на зеленой травке и блаженно разглядывали плывущие по небу белые мохнатые облака.
– Смотри, Серега, вон то – вылитый верблюд.
– Где? Какой верблюд? Это скат.
– Сам ты скат, у него же два горба. А за ним какая-то ящерица.
– Акула.
– Откуда эта морская тематика? Ты не в круиз собрался?
– Какой там круиз! К матери в Тамбовскую губернию. Мне там как раз и будет ежедневный круиз вокруг двадцати соток картошки.
– Когда поедешь-то?
– В конце августа, на урожай.
– Вообще по человеческим ассоциациям можно многое узнать. Вот тебе то акулы в этих облаках мерещатся, то скаты. Значит, на работе проблемы: какая-то хищная рыба норовит тебя пожрать.
– Не будем о неприятном. Если тебе в белом и пушистом видится верблюд, это что?
– А я верблюд и есть. Еще и убийство какого-то писателя навьючили. До кучи, значит.
– Кстати, разобрался с его шедеврами?
– У тебя хотел кое-что спросить. Ты сейчас как?
– Ну, если больше пить не будем, то вполне. Неси творение. Как там оно называется?
– «Смерть на даче».
Алексей на всякий случай посмотрел, что делают женщины, и успокоился: обе надели купальники, разлеглись на солнышке и шептались о чем-то настолько женском, что он не решился даже подойти. В прохладном доме Леонидов прихватил прозрачную папку с распечаткой и пошел к Барышеву под яблоню. Вместе они склонились над «Смертью…».
– Так, ну это про тебя и Сашу. Гнусно, ничего не скажешь. Мерзкий тип, рожу бы ему набить, да помер, к несчастью.
– А дальше интересно. Там он пишет про себя, про писательские муки и про то, что ни в чем этом не виноват.
– И что? Где мысль?
– Я тут сделал несколько выдержек, подчеркнул интересные места. Ты послушай. Нет, не смотри сюда, а так, на слух, что тебе это напоминает? – Леонидов отодвинулся и с выражением и акцентами на нужных словах зачитал: – «Истина – это не последняя, а предпоследняя инстанция, последней всегда остается вера, хотя она слепа, а истина зряча. Выходит, что в человеке главенствуют слепые чувства, так кто он после этого?»
– Философ. Не любил парень людей, а?
– Вот еще: «Семья – это попытка установить более тесные узы с людьми, которые кажутся тебе близкими по духу, но в итоге оказывается, что в кругу, куда тебя пытаются затащить, столько лишних! обитателей, что начинаешь думать: а стоит ли?»
– Не женат, значит, был парень, а?
– После такого вывода, как следующий, не удивительно. Вот послушай: «Любовь – это один из самых слепых инстинктов, целиком основанный на противоречиях, нелепостях и недоразумениях. Отсутствие в ней логики подразумевает отсутствие разума, отсутствие разума – отсутствие воли, а отсутствие воли – полную деградацию личности. Значит, любовь – низшее из чувств, так почему оно тогда самое великое для человека?»
– Бред.
– Не бред, а определенная жизненная концепция. Отрицание основных человеческих ценностей. Вот что это за бред. А вот уже ближе к теме: «Мой Бог – это моя совесть, назвать меня неверующим нельзя, но то, во что верю я, для других неприемлемо. Поэтому со своей жизнью я имею право поступать согласно своей религии, а она не пассивна по отношению ко всему, а активна». Ну? Серега?
– Стой-стой. Он был псих?
– Писатель. Улови мысль – три заданных вопроса и один ответ: «…со своей жизнью я имею право поступать…»
– Самоубийца?
– Вот. И я так подумал. Был задуман неплохой спектакль, голова у парня варила: умудрился и к Саше зайти, и платок стащить, и пуговицу отодрать. Зачем подставлял? Непонятно. Мстил за детскую обиду? Такой зрелый, сложившийся человек, писатель, красавец, талант и помнить про какую-то девчонку? Не поверю.
– Тогда что? Ты понял?
– Сначала подумал, что понял. После десяти листов такого чтива совершенно был уверен, что Клишин – самоубийца, причем помешанный на собственном величии. Не было мотива: почему? Я объяснил это легкой шизанутостью, больше ничем. Да, его не публиковали, но Павел Андреевич не бедствовал: дачку ты сам видел, дамочки по нему с ума сходили, и дамочки, заметь, не бедные. Словом, мужчинка был не из дешевых. Статейки в газеты пописывал, гонорары получал, славы не было, это да. Но ведь непризнанные гении тем и утешаются, что уверены, будто настоящий талант современники не понимают. Рассудит, мол, история, а памятники у нас ставят только после смерти. Больная страна, страдающая некрофилией, как я недавно по телевизору услышал. Так что безвестность писателя – это не повод.
– А что же повод?
– Да ничего. Его убили, Серега.
– Ты же сам…
– Да, пока не прочитал вот это: «…Мое тело лежит у стола, потому что я не смог умереть сидя. В сидячей позе есть смирение, а я хочу просто упасть, ни на миг не согнув коленей. Я хотел посмотреть в глаза Ему и спросить: «Ну что, ты доволен?» Его изображение висит в углу, и никто в этом доме не смеет зажигать перед ним свечу в дни великих религиозных праздников, потому что те, кто сюда придут в этот вечер, не верят ни во что, кроме стакана с ядом, стоящего на столе. Если я прав, то лежу сейчас возле стола, голова левой щекой собирает с пола пыль и остатки опилок, правая нога чуть согнута в колене, левая выпрямлена, глаза открыты и остекленели, руки раскинуты, ладони открыты. Я ухожу пустой, все оставив здесь. А все – это моя последняя книга…»
– И что? Из чего ты, Леша, сделал вывод, что писателя убили? Я ничего не нашел.
– Вот и я сначала ничего не заметил. Так, прочитал, пробежал глазами, пропустил, пошел дальше, а потом вдруг всплыло. Я видел труп Клишина, Серега. И он лежал точно в такой же позе, какая здесь описана.
– Ну и что?
– А то. Ты можешь сколько угодно позировать, прицеливаться к стакану с ядом и видеть себя после смерти красивым и спокойным. Можешь даже выпить этот цианистый калий и приготовиться красиво упасть, но, когда яд начинает действовать, в дело вступают инстинкты, самый могучий из которых у человека – желание жить. Ты видел, как умирают от мгновенно действующего яда? Прежде всего наступает удушье, человек хватается руками за горло, потому что яд парализует, сердце останавливается и воздуха не хватает. Тем более повернутая в нужную сторону голова, нога, согнутая в колене. Нет, Серега, ему просто подыграли, еще теплое тело положили согласно сценарию, так он и окоченел.
– Погоди, значит, убийца дал яд, потом посмотрел, как Клишин корчится в агонии, тут же передвинул его к столу и заботливо по книге все устроил? Да это же монстр!
– Не знаю, кто это. А главное, не пойму – зачем. Такое ощущение, что написали пьесу, всем раздали роли, даже мне и моей жене, хотя мы не соглашались ни на какое действо, занавес подняли и она началась. Только парадокс в том, что пьесу написала жертва, то есть тот человек, который на события теперь влиять никак не может. Понимаешь? Но действие-то идет! Каким образом он мог заставить актеров исполнить свои роли так близко к тексту, с убедительностью, и, главное, зачем? Ты понимаешь?
– Я все равно ничего не понимаю. Слушай, давай выпьем, что ли? – Он принес нагревшуюся бутылку, два стакана, плеснул туда водки и, чокнувшись с Алексеем, продолжил мысль: – Я человек физически сильный и не такое повидал в жизни в бытность свою в горячих точках на службе в Вооруженных Силах. Я боюсь только того, чего не могу задушить голыми руками, – всякой мистики и привидений.
– Брось, тут не мистика. Это какой-то розыгрыш, рожденный больным воображением, но породил его человек.
– Хочешь взять неизвестного монстра за жабры?
– Ну, во-первых, не хочу, чтобы эта «Смерть…» появилась в печати. Во-вторых, не могу представить, что его поймает Игорек Михин. А про милиционеров ты у Клишина читал?
– Что, честь мундира задета?
– А не надо всех считать глупее себя. Я и Сашке уже об этом говорил, и тебе повторяю.
– Ну, если тебе будет нужен еще раз взломщик с руками, способными согнуть железную кочергу…
– Ты мне всегда нужен. Знаешь, Барышев, я тебе втайне иногда завидую: если бы я был таким высоким, здоровым, сильным и, главное, спокойным. Ты по жизни идешь без всяких дурных мыслей, как по проспекту, а я все закоулки какие-то ищу, меня в стороны швыряет, и помойки на пути часто попадаются, не то что на твоих элитных тротуарах. Но когда мы вместе, то ты – вроде как моя действующая рука.
– Так. Стакан поставь.
– Ладно, я понимаю, что сам, вроде Клишина, начинаю нести бред. Последнюю не надо было пить, пардон. Все, забыли. Пойдем, что ли, купаться?
– А ты не потонешь после водки и шашлыков?
– А ты, Серега, на что? Я видел в санатории, как ты плаваешь. Парочку Леонидовых за волосы из воды вынешь одной левой.
– Раз доверяешь, тогда пойдем. Женщины! Купаться! – заорал Барышев так, что Анечка с Александрой вздрогнули и вскочили.
– Сережа, ты нас напугал! – накинулась Аня на мужа.
– А чем вы так увлеклись? Пошли охладимся, дамы.
Речки в деревне Петушки не было, не повезло местным жителям с природным водоемом. Но жадные до отдыха дачники скинулись на экскаватор и вырыли пруд, вполне пригодный для купания. Сначала на берега завезли несколько машин речного песка, чтобы создать иллюзию настоящего пляжа, но песок со временем куда-то рассосался, местами зарос травой, и теперь все зрелище напоминало большую грязную лужу, особенно после того, как местные ребятишки перемесили все дно, бултыхаясь целый день у берега. Конечно, вода в пруду прозрачной и без того не была – дно илистое. Через пару лет после того, как пруд вырыли, в нем завелись пиявки и лягушки, но, когда на улице больше тридцати градусов жары, уже все равно, с кем вместе ты будешь плавать, в смысле с какими животными.
Женщины еще жались и косились на мутную воду, не плывет ли что-нибудь зеленое лупоглазое, а Барышев с Леонидовым уже бултыхнулись с разбега прямо с мостков и поплыли, отфыркиваясь, к противоположному берегу.
– Ух, хорошо! – заорал Леонидов. – Сашка, ныряй!
Александра с Анечкой робко сползли в воду по деревянной лестнице.
– Ой, лягушка!
– На суп ее! – крикнул Барышев. – Дамы, ловите зеленых, вечером сварим!
– Дурак здоровый, – сказала, подплывая к нему, жена. – Не бултыхай ногами, я плаваю плохо. Саша! Ты где?
Они обе по-лягушачьи поплыли на середину.
Берег пруда был облеплен желающими пересидеть огненный день в периодическом общении с прохладной водой; люди с надеждой поглядывали в высоченное, пронзительное, голубое небо, но оно не обещало ничего, кроме того, что завтрашний июньский день будет таким же жарким. Оводы кружили у воды, натыкаясь на потные тела, лениво кусая их, падали, сбитые лениво отмахивающимися от них руками. Все вокруг расплавилось и изнемогало в ожидании сумерек, которые, может быть, принесут долгожданную прохладу.
Этот жаркий летний день, казалось, не предвещал ничего неожиданного.