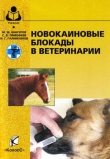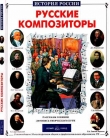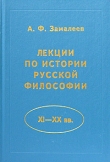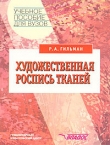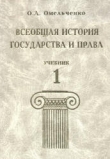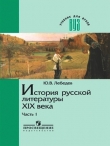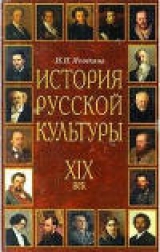
Текст книги "История русской культуры: XIX век"
Автор книги: Наталья Яковкина
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 38 страниц)
Хотя спор между шишковистами и карамзинистами шел как будто по специальным вопросам языка и стилистики, тем не менее современникам было ясно, что он превратился в политическую дискуссию. Выдвинутый Шишковым тезис о том, что новый слог порожден опасным вольнодумством, чудовищной французской революцией, выражал его реакционную политическую позицию. В таком контексте его призывы к сохранению «истинно русского духа» в литературе и жизни двигали утверждением охранительного начала, стремлением повернуть вспять общественную и культурную жизнь. Это было очевидно и современникам. Батюшков в письме к Гнедичу так оценивал приверженность Шишкова к «исконным древнерусским началам»: «Любить– отечество должно. Кто не любит его, тот изверг. Но можно ли любить невежество? Можно ли любить нравы, обычаи, от которых мы отдалены веками и, что еще более, целым веком просвещения».
В ходе полемики группа единомышленников Шишкова объединилась в кружок под названием «Беседа любителей русского слова», выпускавший свой журнал «Чтения беседы любителей русского слова». Состав «Беседы», достигшей наибольшего расцвета в период начавшейся реакции 1810-1811 годов, наглядно свидетельствует о политической позиции ее создателя: членами «Беседы» были четыре министра, два митрополита, много «сиятельных» титулованных персон: граф Разумовский, князь Шаховской, князь Ширинский-Шахматов, граф Хвостов и др. Сначала члены «Беседы» собирались в особняке Шишкова на Фурштатской ул., д. 14. Потом они были перенесены в особняк Г. Р. Державина на набережной Фонтанки. Мемуарист следующим образом описывает обстановку этих собраний: «Зала средней величины, обставленная желтыми, под мрамор, красивыми колоннами, казалась еще изящней от блеска роскошного освещения. Для слушателей вокруг залы возвышались ряды хорошо придуманных седалищ. Посреди храмины муз был поставлен огромный продолговатый стол, покрытый зеленым тонким сукном. Около стола сидели члены «Беседы» под председательством Державина, по мановению которого начиналось и перемежалось занимательное чтение вслух...». 6Раз в месяц к особняку Державина съезжались кареты, подвозившие сановных участников «Беседы» или приглашенных: сверкали шитые золотом мундиры, ордена почетных гостей, украшения дам. На собраниях члены «Беседы» оглашали свои новые творения – хвалебные оды, напыщенные трагедии. Для чтения их был нанят специальный чтец-актер, который декламировал в строго классической манере с «завываниями» в конце каждой строки. Литературные дарования большинства «беседчиков» были не высоки. Вот как оценивали творчество одного из членов «Беседы» князя Шаликова: «Талант князя Шаликова известен, – писал мемуарист, – вялость мыслей и слога, поддельная чувствительность; в стихах – никакого одушевления... и никакого искусства». 7Не уступал ему в бездарности и другой сановный сочинитель граф Хвостов. В его творениях тот же мемуарист замечает не только литературные погрешности, при отсутствии здравого смысла: «Граф Хвостов теперь забыт, но в наше время он составлял наслаждение веселых литераторов и молодых людей... которые хотели позабавиться... Его сочинения 'замечательны не тем, что плохи... он в Петербурге и Москве создавал себе имя тем, что в его сочинениях сама природа является иногда навыворот... осел лезет на рябину и крепко лапами за дерево хватает, голубь – разгрыз зубами узелки, уж – становится на колени». 8Естественно, что такие и подобные им произведения подвергались презрительной критике карамзинистов. Поэты Батюшков и Измайлов в пародийном гимне певцам «Беседы» предсказывали печальную участь их творениям:
Их вирши сгнили в кладовых Иль съедены мышами, Иль продают на рынке в них Салакушку с сельдями.
Дискуссии по поводу русского слога, так продолжительно увлекавшие русских литераторов, замерли с наступлением грозных военных событий 1812 года. Однако они оказали положительное влияние на русскую литературу. В ходе полемики складывался новый строй литературного языка, освобожденный как от устаревших славянизмов Шишкова и его последователей, так и от неологизмов и галлицизмов, порой излишне широко употребляемых карамзинистами. Кроме того, в литературных спорах набирала силу и крепла русская критика, которой в дальнейшем суждено было сыграть такую значительную роль в журнальной и общественной борьбе.
§ 4. ВОЙНА 1812 ГОДА И РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Отечественная война 1812 года оказала огромное влияние на духовную жизнь России. Как известно, декабристы признавали себя детьми двенадцатого года. Герцен считал 1812 год важной вехой общественного движения в России. Продолжая эту мысль, Белинский писал: «Двенадцатый год, потрясший всю Россию, из конца в конец, пробудил ее спящие силы и открыл в ней новые, дотоле неизвестные источники сил... возбудил народное сознание и народную гордость, и всем этим способствовал зарождению публичности как началу общественного мнения». 9Война 1812 года, можно сказать, прошла через русскую литературу. Прежде всего, многие писатели стали непосредственными участниками военных событий. Во всех сражениях кампании 1812 года участвовали кадровые офицеры Д. Давыдов и Ф. Глинка, имена которых были на устах у всех. Оба профессиональные военные, личности яркие и своеобразные, оставшиеся в памяти современников не только благодаря своей деятельности, но и личным качествам.
Блестящий кавалергард Денис Васильевич Давыдов еще в молодости наряду с «гусарскими проделками» увлекся литературным творчеством. Стихи его быстро получили признание, они звучали и в великосветских гостиных, и на приятельских пирушках, его эпиграммы ходили по Петербургу во множестве списков. Но вопреки общему представлению о легковесности этих стихотворных шуток в стихах лихого кавалериста начала проявляться острая политическая сатира (басни «Голова и ноги», «Орлица, Турухтан и Тетерев», 1803). Вскоре басни дошли до царя, и Давыдову пришлось сменить кавалергардский мундир на ментик армейского офицера. Таковым он принимает участие в кампаниях 1805-1807 годов, причем за храбрость и проявленные воинские способности был награжден и возвращен в гвардию. В период Отечественной войны он прославился своими дерзкими рейдами в тыл французской армии и славными делами руководимых им партизанских отрядов. «Поэт-гусар» превратился в национального героя, портрет которого по нынешний день занимает почетное место в галерее участников войны 1812 года в Эрмитаже. Под непосредственным впечатлением военных событий Д. Давыдов написал «Дневник партизанских действий».
Не менее интересным человеком был и Ф. Н. Глинка. Литературно одаренный, необыкновенно энергичный и добрый, он, будучи кадровым военным, гвардейским подполковником, много времени уделял литературным и общественным делам. Участник походов 1805—1806 годов, награжденный несколькими орденами и золотым оружием (за личную храбрость), он до 1812 года был известен как беллетрист и поэт. Огромный успех имели его письма с театра военных действий 1812 года. Современник вспоминал о том впечатлении, которое произвели на его сверстников письма Глинки: «Я помню, с каким восторгом наше, тогда молодое поколение, повторяло начальные строки письма от 26 августа 1812 года:
«Застонала земля и пробудила спавших на ней воинов. Дрогнули поля, но сердца покойны были. Так началось беспримерное сражение Бородинское». 10Стихи Глинки носили в основном гражданский и патриотический характер. Одним из лучших его произведений была «Военная песня», также написанная под впечатлением событий 1812 года и пользовавшаяся огромным успехом среди молодежи. Последние строчки ее были как бы рефреном всего поэтического творчества Ф. Глинки: «И громче труд на поле чести Зовет к отечеству любовь!».
После войны пламенный патриотизм Ф. Н. Глинки, сочувствие к крестьянам, героически сражавшимся с захватчиками, а потом вернувшимся в крепостную неволю, привели его в Союз Спасения.
В 1812 году ушли на фронт военных действий не только кадровые военные, но и штатские литераторы. Так, хранитель рукописного отдела петербургской Публичной библиотеки поэт К. Н. Батюшков по его просьбе был зачислен в армию и стал адъютантом генерала Н. Н. Раевского. Будущий известный романист Загоскин, служивший тогда в Петербурге в департаменте горных и соляных дел, оставил службу и записался в ополчение. Ополченцем стал и молодой поэт В. А. Жуковский, который находился невдалеке от Бородино в момент сражения и затем вместе с армией отошел в Тарутино.
Наряду с литературой влияние военных событий сказалось и на русской журналистике. Военная тема заняла главное место на страницах газет и журналов, возникали и новые органы, призванные отразить события, волновавшие всю страну.
В августе 1812 года в среде петербургских литераторов возник замысел нового патриотического журнала, который отражал бы ход военных действий и настроения русского общества. Таким журналом стал основанный Н. И. Гречем «Сын Отечества» (1812-1840). Он выходил еженедельными книжками тиражом 400-600 экземпляров.
Первая книга «Сына Отечества» открывалась статьей Арндта «Глас истины», в которой автор намеревался изобразить Наполеона «в ужасном зерцале». Он представлял его «сидящим на престоле своем посреди блеска и пламени, как Сатана в средоточии ада». Вообще нападки на Наполеона и дальше будут продолжаться в самом яростном тоне, подчас переходящем в брань. Вместе со своим императором осуждалась и высмеивалась французская армия.
Большое место в журнале уделялось публицистическим произведениям, выразившим патриотические настроения русского общества. Одной из таких публикаций стала статья профессора А. П. Куницына «Послание к русским» («Сын Отечества», № 5 за 1812 год), в которой он отмечал особое значение войны с Наполеоном как борьбы за свободу русского народа. Народный характер войны отмечался в разделе журнала «Смесь», где печатались известия о подвигах русских воинов, причем наряду с героизмом офицеров описывались героические поступки солдат.
Кроме этого, журнал публиковал и беллетристику, письма из армии, патриотические стихи. Так, в первом номере журнала была помещена «Солдатская песня» Ив. Кованько, в которой говорилось:
Хоть Москва в руках французов:
Это, право, не беда!
Наш фельдмаршал князь Кутузов
Их на смерть впустил туда. 11
Большое политическое значение имела публикация басен Крылова «Волк на псарне», «Обоз», «Ворон и курица» и др. Значение их возрастало еще и потому, что Крылов писал свои исполненные едкой иронии басни по следам конкретных военных событий. Например, напечатанная во второй книге журнала знаменитая басня «Волк на псарне», как известно, излагала историю тщетных попыток Наполеона вступить в мирные переговоры с Кутузовым. Другая басня Крылова «Обоз», появившаяся в седьмой книге «Сына Отечества», воздавала должное гениальной стратегии Кутузова, благодаря которой он сохранил армию и готовил ее к разгрому врага. «В необычайный год и под пером баснописца нашего Крылова живые басни превращались в живую историю», – писал С. Н. Глинка, издатель журнала «Русский вестник». 12
К басням Крылова в плане политической сатиры примыкал и иллюстративный материал. События 1812 года вызвали появление и расцвет нового жанра – патриотической карикатуры. Художник А. Венецианов в целой серии рисунков высмеял Наполеона с его претензиями на мировое господство и «великую армию» французского императора, страдающую от голода и холода и бегущую под мужественным натиском русских воинов. Художник сделал постоянными героями своих карикатур вымышленных персонажей – ратника Ивана Гвоздилу и крестьянина Долбилу, которые победоносно сокрушали французское воинство. Вместе с Венециановым работали в этом жанре художники А. Иванов и И. Теребенев, карикатура которого «Французский суп», изображающая французских солдат, приготовляющих суп из ворон, тоже была помещена на страницах «Сына Отечества».
Журнал «Сын Отечества» был самым характерным, но не единственным изданием этого периода. Тема защиты России от иноземных захватчиков, например, широко освещалась на страницах московского журнала «Русский вестник», издаваемого С. Н. Глинкой, братом Ф. Н. Глинки, «Вестника Европы» и др. Военные события 1812 года, общественный подъем и героика тех лет повлияли и на характер литературных произведений. Под непосредственным их влиянием в русской литературе стало развиваться новое направление – романтизм.
§ 5. РОМАНТИЗМ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 1810-1820 ГОДОВ
Романтизм как художественное направление возник в ряде европейских стран на рубеже XVIII и XIX веков. Важнейшими вехами, определившими его хронологические рамки, стали Великая Французская революция 1789-1794 годов и буржуазные революции 1848 года.
Романтизм представлял собой сложное идеологическое и философское явление, отражавшее реакцию различных социальных групп на буржуазные революции и буржуазное общество.
Антибуржуазный протест был свойственен и консервативным кругам, и прогрессивной интеллигенции. Отсюда те чувства разочарования и пессимизма, которые свойственны западноевропейскому романтизму. У одних писателей-романтиков (так называемых пассивных) протест против «денежного мешка» сопровождался призывом к возврату феодально-средневековых порядков; у прогрессивных романтиков неприятие буржуазной действительности порождало мечту о другом, справедливом, демократическом строе.
Русский романтизм, в отличие от европейского с его ярко выраженным антибуржуазным характером, сохранял большую связь с идеями Просвещения и воспринял часть из них – осуждение крепостного права, пропаганду и защиту просвещения, отстаивание народных интересов. Огромное воздействие на развитие русского романтизма оказали военные события 1812 года. Отечественная война вызвала не только рост гражданского и национального самосознания передовых слоев русского общества, но и признание особой роли народа в жизни национального государства. Тема народа стала очень значительной для . русских литераторов-романтиков. Им казалось, что постигая дух народа, они приобщались к идеальным началам жизни. Стремлением к народности отмечено творчество всех русских романтиков, хотя понимание «народной души» у них было различным.
Так, для Жуковского народность – это прежде всего гуманное отношение к крестьянству и вообще к бедным людям. Сущность ее он видел в поэзии народных обрядов, лирических песен, народных примет и суеверий.
В творчестве романтиков-декабристов представление у, о народной душе связывалось с другими чертами. Для них народный характер – это характер героический, национально-самобытный. Он коренится в национальных традициях народа. Наиболее яркими выразителями народной души они считали таких деятелей, как князь Олег, Иван Сусанин, Ермак, Наливайко, Минин и Пожарский. Так, понятному народному идеалу посвящены поэмы Рылеева «Войнаровский», «Наливайко», его «Думы», повести А. Бестужева, южные поэмы Пушкина, позднее – «Песнь про купца Калашникова» и поэмы кавказского цикла Лермонтова. В историческом прошлом русского народа поэтов-романтиков 20-х годов особенно привлекали кризисные моменты – периоды борьбы с татаро-монгольским игом, вольного Новгорода и Пскова – с самодержавной Москвой, борьбы с польско-шведской интервенцией и т. п.
Интерес к отечественной истории у поэтов-романтиков порождался чувством высокого патриотизма. Расцветший в период Отечественной войны 1812 года русский романтизм воспринял его как одну из своих идейных основ. В художественном плане романтизм, подобно сентиментализму, уделял большое внимание изображению внутреннего мира человека. Но в отличие от писателей-сентименталистов, которые воспевали «тихую чувствительность» как выражение «томно-горестного сердца», романтики предпочитали изображение необыкновенных приключений и бурных страстей. Вместе с тем безусловной заслугой романтизма, прежде всего его прогрессивного направления, стало выявление действенного, волевого начала в человеке, стремления к высоким целям и идеалам, которые поднимали людей над повседневностью. Такой характер носило, например, творчество английского поэта Дж. Байрона, влияние которого испытали многие русские писатели начала XIX века.
Глубокий интерес к внутреннему миру человека вызывал у романтиков равнодушие к внешней красивости героев. В этом романтизм так же кардинально отличался от классицизма с его обязательной гармонией между внешностью и внутренним содержанием персонажей. Романтики же, наоборот, стремились обнаружить контрастность внешнего облика и духовного мира героя. В качестве примера можно вспомнить Квазимодо («Собор Парижской богоматери» В. Гюго), урода с благородной, возвышенной душой.
Одним из важных достижений романтизма является создание лирического пейзажа. Он служит у романтиков своего рода декорацией, которая подчеркивает эмоциональную напряженность действия. В описаниях природы отмечалась ее «духовность», ее соотношение с судьбой и участью человека. Ярким мастером лирического пейзажа являлся Александр Бестужев, уже в ранних повестях которого пейзаж выражает эмоциональный подтекст произведения. В повести «Ревельский турнир» он так изображал живописный вид Ревеля, соответствовавший настроению персонажей: «Это было в мае месяце; яркое солнце катилось к полудню в прозрачном эфире, и только вдали серебристой облачной бахромой касался воды полог небосклона. Светлые спицы колоколен ревельских горели по заливу, и серые бойницы Вышгорода, опершись на утес, казалось, росли в небо и, будто опрокинутые, вонзались в глубь зеркальных вод». 13
Своеобразие тематики романтических произведений способствовало использованию специфического словарного выражения – обилию метафор, поэтических эпитетов и символов. Так, романтическим символом свободы представало море, ветер; счастья – солнце, любви – огонь или розы; вообще розовый цвет символизировал любовные чувства, черный – печаль. Ночь олицетворяла зло, преступления, вражду. Символ вечной изменчивости – волна морская, бесчувственности – камень; образы куклы или маскарада означали фальшь, лицемерие, двуличность.
В. А. Жуковский.Родоначальником русского романтизма принято считать В. А. Жуковского (1783-1852). Уже в первые годы XIX века он приобретает известность как поэт, воспевающий светлые чувствования – любовь, дружбу, мечтательные душевные порывы. Большое место в его творчестве занимали лирические образы родной природы. Жуковский стал создателем в русской поэзии национального лирического пейзажа. В одном из ранних своих стихотворений элегии «Вечер» поэт так воспроизводил скромную картину родного края:
Все тихо: рощи спят; в окрестности покой,
Простершись на траве под ивой наклоненной,
Внимаю, как журчит, сливался с рекой,
Поток, кустами осененный.
Чуть слышно над ручьем колышется тростник,
Глас петела вдали уснувши будит селы.
В траве коростыля я слышу дикий крик... 14
Эта любовь к изображению русской жизни, национальных традиций и обрядов, легенд и сказаний выразится и в ряде последующих произведений Жуковского. В 1808 году им было создано поэтическое произведение, баллада «Людмила». Хотя сюжет ее был заимствован из сочинения немецкого поэта Бютера, тем не менее Жуковский переносит действие баллады в Россию, изображая русскую жизнь конца XVIII века. Фантастическому сюжету баллады присущи все характерные для романтических произведений такого рода черты: возвращение пропавшего жениха, полночная поездка его с Людмилой, сопровождаемая вереницей таинственных видений, которые «с поздним месяца восходом Легким светлым хороводом В цепь воздушную свились. Вот за ними понеслись.
Вот поют воздушны лики: Будто в листьях повилики Вьется легкий ветерок, Будто плещет ручеек». После «Людмилы» им были созданы баллады «Громобой» (1810), «Светлана» (1808—1812). Они были написаны поэтом на сюжеты, взятые из русской средневековой жизни, изобилуют описаниями народного быта, обрядов, в частности святочных гаданий:
Раз в крещенский вечерок
Девушки гадали;
За ворота башмачок,
Сняв с ноги, бросали;
Снег пололи; под окном
Слушали, кормили
Счетным курицу зерном.
Ярый воск топили,
В чашу с чистою водой
Клали перстень золотой,
Серьги изумрудны,
Расстилали белый плат
И над чашей пели в лад
Песенки подблюдны». 15
Поэт тонко и впечатляюще изображает взволнованное состояние девушки, томимой тревогой за судьбу любимого и страхом перед ночными чудесами:
Вот красавица одна
К зеркалу садится.
С тайной робостью она
В зеркало глядится,
Темно в зеркале, кругом
Мертвое молчание.
Свечка трепетным огнем
Чуть лист сиянье…
Робость ей волнует грудь,
Страшно ей назад взглянуть,
Страх туманит очи.
С треском пискнул огонек,
Крикнул жалобно сверчок,
Вестник полуночи. 16
Изображение чудесного и таинственного в балладах Жуковского, доставляющее, по выражению Белинского, «сладостно-страшное удовольствие», определило необычайный успех его произведений.
С началом Отечественной войны 1812 года Жуковский становится ратником дворянского ополчения, с которым находится под Можайском в день Бородина, а затем попадает в Тарутинский лагерь. Здесь он создает под впечатлением военных событий и общего патриотического подъема свое лучшее гражданское стихотворение «Поэт во стане русских воинов», позднее напечатанное журналами «Вестник Европы» и «Сын Отечества». «Певец во стане...», по существу, был страстным публицистическим произведением рождающегося гражданственного романтизма, дальнейшее развитие которого произойдет в начале 20-х годов XIX века. Написанная после оставления Москвы русской армией, в то время, когда еще не был ощутим перелом в военных действиях, поэма была обращена к патриотическому чувству русских людей, напоминала им о славных боевых традициях их предков, начиная с киевского князя Святослава, Дмитрия Донского и кончая Суворовым. Значительное место в поэме было уделено изображению национального героя М. И. Кутузова и его сподвижников – генерала Ермолова, Раевского, Коновницина и др. За ними следовали и командиры казацких и партизанских отрядов: «Вихрь-атаман» Платов, «пламенный боец» Денис Давыдов, бесстрашный Сеславин, который «где ни пролетит с крылатыми полками. Там брошен в прах и меч и щит. И устлан путь врагами». С большим чувством говорил поэт о любви к родной земле:
...Страна, где мы впервые Вкусили сладость бытия, Поля, холмы родные, Родного неба милый свет, Знакомые потоки, Златые игры юных лет И первых лет уроки. Что вашу прелесть заменит? О, Родина святая, Какое сердце не дрожит, Тебя благословляя? 17
Вместе с тем, многое в ходе военных событий осталось непонятым автором, – например, национально-освободительный характер великой борьбы русского народа. Не понят был Жуковским и стратегический замысел Кутузова, хотя он прославлял в поэме опыт и твердость «героя под сединами». Несмотря на это, обращение поэта к высокому патриотизму соотечественников нашло горячий отклик в их сердцах. С волнением и восторгом читали современники «Певца во стане русских воинов». Поэма переписывалась от руки и распространялась сотнями списков.
Популярность поэта обратила на него внимание высшего общества и самого царя. Он был приближен ко двору. Так началась длительная придворная служба Жуковского. Сначала он стал чтецом вдовствующей императрицы, затем учителем невесты великого князя Николая Павловича (будущего императора Николая I), a позднее – учителем его сына. В годы нелегкой придворной службы Жуковский не хлопотал о личной карьере, он стремился наряду со знаниями передать членам царской семьи идеи гуманизма и просветительства. И хотя молодые друзья упрекали подчас поэта в том, что его талант начинает меркнуть в придворной атмосфере, они никогда не сомневались в его человеческой порядочности и душевных качествах. О степени доверия Жуковскому знавших его людей говорит тот факт, что декабристы (в частности Н. Муравьев) сообщили ему о существовании «Союза благоденствия» и звали присоединиться к ним. Жуковский отказался, но зная о заговоре, не выдал друзей, несмотря на свою близость ко двору.
В молодости Жуковский активно участвовал в литературной жизни. В начале XIX века он был членом «Дружеского литературного общества», куда входили Андрей Тургенев, Мерзляков, Воейков и др., затем секретарем «Арзамаса». Его природная общительность, остроумие, склонность к шутке ярко отразились и в протоколах этого общества и его письмах к «арзамасцам». Устраивал Жуковский и собственные «пятницы» и «субботы», на которые собирались друзья, писатели и музыканты. Это время осветилось для него сердечной дружбой с Пушкиным, постоянным защитником которого он оставался до конца жизни поэта. Он добивался смягчения участи опального Пушкина, ходатайствовал за него перед Александром I и Николаем I. Много делал Жуковский и для других литераторов. Он добился освобождения от солдатчины Баратынского, выкупа из крепостной неволи Шевченко, возвращения из ссылки Герцена, защищал Н. И. Тургенева, И. В. Киреевского, помогал Н. В. Гоголю.
Взгляды поэта даже в молодости были далеки от радикализма, позднее он осудил восстание на Сенатской площади. Но в то же время пользовался любым случаем, чтобы облегчить участь ссыльных. Будучи противником «тиранства», угнетения человека человеком, он смелым гражданским поступком доказал верность своим убеждениям, освободив своих крепостных. В архиве его хранятся письма никому не известных, бедных людей, просивших его о заступничестве, – среди них были сироты, вдовы, крепостные. Жуковский помогал и сохранил их письма.
В поздний период своего творчества Жуковский много занимался переводами и создал ряд поэм и баллад сказочного и фантастического содержания («Ундина», «Сказка о царе Берендее», «Спящая царевна»).
Баллады занимали одно из центральных мест в творчестве Жуковского, он обращался к этой форме поэтического произведения в течение всей жизни. В литературных кругах он даже получил прозвище «балладника». Под его влиянием балладный жанр стал «расти вширь». Появился и ряд последователей – ими были П. А. Плетнев, В. К. Кюхельбекер и даже молодой Пушкин. Критика неоднозначно оценивала баллады Жуковского. Журналист Греч, не одобрявший распространение балладного жанра, писал: «Ах, любезный творец «Светланы», за сколько душ ты должен дать ответ? Сколько молодых людей соблазнил ты на душегубство?». 18Возможно, одной из причин подобного отношения были новизна и сложность этого жанра. Баллада, ставшая одним из излюбленных жанров поэтов-романтиков, оказалась наиболее удобной поэтической формой для воплощения тех нравственных и сословных сдвигов, которые произошли в начале XIX века, сложностей человеческой психики.
Баллады Жуковского исполнены глубокого философского смысла, в них отразились и его личные переживания, и раздумья и черты, присущие вообще романтизму.
Личная жизнь поэта не была безоблачной, с юных лет он почувствовал горечь социального неравенства, затем – несбывшиеся мечты о счастье с любимой девушкой, чувство к которой он сохранил на долгие годы. Меланхолические настроения, близкие самому Жуковскому, окрашивают большинство его творений. Они усиливаются сознанием неверности житейских благ, предчувствием утрат. Решение общественных и индивидуальных проблем поэт пытается найти этическим путем. Основная тема его баллад – преступление и наказание. Жуковский обличал низменные страсти человека – эгоизм, жадность, честолюбие. Он считал, что преступление совершается тогда, когда человек не сумел обуздать эти страсти и забыл свой нравственный долг.
Так, Варвик – герой одноименной баллады – захватил престол, погубив законного наследника, своего племянника. Жадный епископ Гаттон («Божий суд над епископом») не дает хлеба голодающему народу. Наказаниями за преступления в балладах Жуковского являются или муки совести, или – в тех случаях, когда раскаяние не наступает, – судьей человеческих преступлений становится природа. Природа в балладах Жуковского всегда справедлива, и она часто осуществляет возмездие: так, река Авон, в которой был утоплен маленький престолонаследник, выходит из берегов, и в ее яростных волнах тонет преступный Варвик; жадного епископа Гаттона загрызли мыши, которые расплодились в его полных амбарах. Преступление должно быть наказано.
Жуковскому, как и другим русским романтикам, в высокой степени было присуще стремление к нравственному идеалу. Этим идеалом для него были человеколюбие и независимость личности. Их он утверждал и своим творчеством, и своей жизнью.
«Эпоха Жуковского» в русском литературном романтизме заканчивается вместе с 20-ми годами XIX века, но значение его творчества непреходяще. Помимо поэтического наследия поэта, большой заслугой Жуковского являются его достижения в области русского стихосложения. В этом отношении он может считаться одним из зачинателей новой, национальной школы русской литературы. Белинский справедливо заметил, что «без Жуковского мы не имели бы Пушкина».
§ 6. ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ 1815-1825 ГОДОВ
Творчество основоположника русского романтизма В. А. Жуковского идейно претворило новую страницу в истории отечественной литературы, которая в значительной степени определялась общественной обстановкой послевоенных лет.
Патриотический подъем, возникший во время военных событий 1812 года, осознание особой роли народа в жизни государства, усиливающееся осуждение существующих порядков и распространение свободолюбивых идей способствовали политизации общественной жизни и литературы. Позднее И. И. Пущин назовет этот период «политической эпохой русской жизни».
Политическая направленность общественных интересов, проникая в литературную среду и сочетаясь с романтическими тенденциями, выражалась в вольнолюбивых мотивах творчества ряда поэтов и писателей 1815-1825 годов, в тематике журнальных публикаций, в образовании литературных обществ, в которых обсуждались все волнующие вопросы современности. Литературная жизнь сочетается с жизнью общественной, становится ее фактором. Особенно ярко это проявилось в деятельности таких литературных обществ, как «Арзамас», «Зеленая лампа», «Вольное общество любителей российской словесности». Первым из них был «Арзамас», возникший в 1815 году в ходе литературной дуэли между Шаховским, приверженцем «Беседы» Шишкова, и Жуковским. Мысль о создании дружественного литературного кружка зародилась еще раньше. В 1814 году Жуковский писал Воейкову о желательности подобного объединения и среди предполагаемых участников называл Вяземского, Батюшкова, Уварова, Дашкова и др. Поводом к оформлению кружка послужили написание и постановка Шаховским, ярым «беседчиком», комедии «Липецкие воды, или Урок кокеткам», в которой под видом поэта Фиалкина был выведен Жуковский. На спектакле присутствовал поэт с друзьями, и когда Фиалкин заговорил стихами Жуковского, зрители стали обращать на него насмешливые взгляды. «Можно вообразить себе положение бедного Жуковского! – писал в своих воспоминаниях Вигель. – Можно представить удивление и гнев вокруг него сидящих друзей! Перчатка была брошена; еще кипящие молодостью Блудов и Дашков спешили поднять ее». Для отпора «беседчикам» было решено создать особое литературное общество «безвестных любителей словесности». «Арзамас» пародировал в своей структуре организационные формы «Беседы» с царившей в ней служебно-сословной и литературной иерархией. В «Арзамас» вошли лица сугубо частные, имена их признавались несущественными и взамен давались прозвища: сам Жуковский, избранный секретарем общества, был наречен Светланой, А. Тургенев получил имя Эолова арфа, серьезный сдержанный Дашков был прозван Чу (предостерегающее междометие), пылкий и темпераментный Блудов – Кассандрой, Вигель за характерный острый профиль получил прозвище Ивиков журавль и т. п.