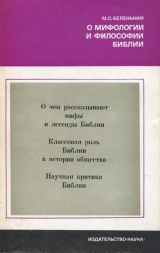
Текст книги "О мифологии и философии Библии"
Автор книги: Моисей Беленький
Жанр:
Религиоведение
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 12 страниц)
Притчи придают огромное значение слову. Слова уст человеческих – глубокие воды, источник мудрости, струящийся поток (XVIII, 4). Здравомыслие и рассудительность, выраженные в словах, подчеркивается в Притчах, являются «жизнью» для души человека и украшением для его тела (III, 22). В противовес мистической проповеди учение Притчей игнорирует мифотворчество о Яхве и совершенно не интересуется ни генотеизмом, ни монотеизмом. Выраженное в афоризмах учение Притчей пронизано, как правило, реализмом и несет важную философскую и поэтическую информацию.
Все ли суета сует?
Иудейская и христианская традиция полагает, будто царь Соломон обобщил свой богатый и горький опыт не только в Притчах, но и в кн. Екклесиаст. В древнееврейском каноне она называется Когелет. Это – одно из наиболее сложных произведений Библии.
Автор начинает свои размышления о ценности жизни словами «Когелета, сына Давидова, царя в Иерусалиме».
Но что такое когелет? Иудейская традиция утверждает, что это – имя собственное. Однако сына с таким именем, по Ветхому завету, у Давида не было. Защитники традиции, не задумываясь, выдают Когелета за Соломона, т. е. за человека, который, по Библии, был сыном Давида и царем в Иерусалиме. Но почему автор, ведя родословную своего героя от Давида, не назвал его настоящим именем? А если герой не сын Давида, так почему его нужно было возвеличивать царским титулом?
Кн. Екклесиаста вызвала споры уже в среде талмудистов в связи с канонизацией Ветхого завета. Некоторые из них задавали такой вопрос: может ли она стоять в списке божественных книг? Законоучитель Иегуда рассказывает, что ее хотели запрятать, так как ее слова «противоречат друг другу» (Шаббат 30б). Хотели, но не запрятали. Почему? По сведениям того же рабби, начало и конец книги суть «слова Торы», т. е. идентичны основным мифам иудаизма. К началу книги Иегуда относит 3-й стих I главы («Что польза человеку от всех трудов его, которыми он трудится под солнцем?»), а к концу – 13-й стих XII главы («Выслушаем сущность всего: бойся бога и заповеди его соблюдай, потому что в этом все для человека»). И поскольку приведенные стихи составляют «слова Торы», то, стало быть, они и защитили кн. Когелет от уничтожения.
И все же одних приведенных стихов было, видимо, недостаточно, чтобы включить всю книгу в канон. Защитникам пришлось ее править и придумать ей автора, благочестивое имя которого было бы верным средством для ее освящения. Они решили приписать это произведение такому безоговорочному авторитету в древнееврейской среде, как царь Соломон. Известно, что сочинители библейской литературы чаще всего скрывали свое авторство, приписывая свои произведения существовавшим и несуществовавшим героям, пользовавшимся авторитетом у народа, историческим или вымышленным вождям.
Если талмудисты, поставившие себе цель всеми правдами и неправдами включить Когелет в канон, освящали его именем Соломона, то авторы «Когелет рабба» – комментария IX в. к этой книге со ссылками на более ранние источники – утверждают, что она была произнесена «мудрым царем на публичных собраниях». Мудрый царь в качестве глашатая общины – серьезный намек на сомнительность авторства Соломона. Когелет – личность вымышленная, нереальная. Более того, когелет – вовсе и не личность.
В Ветхом завете слово «когелет» встречается только в одноименной книге и нигде более. При этом один раз (VII, 27) когелет произносится в женском роде: «Вот что нашла я, сказала когелет: надобно соединить одно с другим, чтобы найти вывод» [36]36
Этот стих дан в дословном переводе с древнееврейского. Богословы скрыли эту несуразицу и в переводах пишут: «Вот что нашел я…»
[Закрыть]. Приведенное место ставит под сомнение взгляд на «когелет», как на имя собственное.
Сомнение укрепляется тем, что один раз рефрен произведения «суета сует, все суета» произносит, согласно древнееврейскому оригиналу, ха-когелет (XII, 8). Будь «когелет» имя собственное, то, согласно правилам еврейской грамматики, форма «ха» в данном случае была бы невозможна. Этот префикс присущ только именам нарицательным. А если «когелет» – имя нарицательное, то что оно означает?
Хотя «филология и критика», по меткому выражению Э. Ренана, «не были делом древности», все же обратимся к первому переводу Библии на греческий язык – Септуагинте. Комиссия переводчиков полагала, что «когелет» – женская форма еврейского «кагал» (сбор, собрание народа), и потому перевела его словом «экклесиастэс», что значит «проповедник».
Приведенные доводы дают основание для заключения, что автор книги, называя героя Когелет, хотел, видимо, подчеркнуть, что он не храмовый жрец и не синагогальный проповедник, а провозвестник мудрости. Поучения же, защищавшие разум, провозглашали, по свидетельству Притчей Соломоновых, не в храмах, а на улицах и площадях. Знание заявляло о своем существовании «в главных местах собраний, при входах в городские ворота». Автор Когелета – один из тех мудрецов, который открыто держал речь перед народом и громко проповедовал свои идеи.
Создатель книги избрал форму монолога, которая позволила ему устами героя раскрыть его внутренний мир. Поясняя, что Екклесиаст (Когелет) был «царем над Израилем в Иерусалиме» (I, 12), автор предоставляет ему слово для откровенного и развернутого рассказа о самом себе. «Вздумал я в сердце своем, – говорит Когелет, – услаждать вином тело мое и, между тем, как сердце мое руководилось мудростью, придержаться и глупости, доколе не увижу, что хорошо для сынов человеческих, что должны были бы они делать под небом в немногие дни жизни своей» (II, 3). А потому «я предпринял большие дела»: построил дома, посадил виноградники, сады и рощи, приобрел крупный и мелкий скот, слуг и служанок, собрал серебро, золото и много драгоценностей. Одним словом, «чего бы глаза мои ни пожелали, я не отказывал им» (II, 10). В итоге – полное пресыщение и разочарование: «И возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем; ибо все – суета и томление духа» (II, 17).
Перед нами поэт и мыслитель, который иронизирует над стремлением иерусалимского вельможи присвоить все себе одному, над его алчностью, ненавистным стяжательством. Судя по его откровенным высказываниям, властитель Иудеи – жадный и пресыщенный, занятый только собой человек. Мыслитель показывает безысходность жизни, сконцентрированной в собственном «я», как миросозерцании единичного, замкнутого в себе счастья.
«Человек одинокий, и другого нет; ни сына, ни брата нет у него; а всем трудам его нет конца и глаз его не насыщается богатством. „Для кого же я тружусь и лишаю душу мою блага? И это – суета и недоброе дело!“» (IV, 8). Беспомощному состоянию одиночки противопоставлена сила человеческого сообщества. «Двоим лучше, нежели одному… И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него. И нитка, втрое скрученная, не скоро порвется» (IV, 9–12).
Насмешливый тон в адрес царя переплетается со словами горькой правды по поводу царских порядков: «И обратился я, и увидел всякие угнетения, какие делаются под солнцем: и вот слезы угнетенных, а утешителя у них нет; и в руке угнетающих их – сила, а утешителя у них нет» (IV, 1). За внутренним монологом владыки, разоблачающим его фальшивую доброту и лживое сочувствие угнетенным, проглядывает лукавое притворство писателя. Не ясно ли, что под маской рассудительного царя скрывается мудрый мыслитель, который издевается над «доброхотством» вельмож и стяжательством угнетателей?
Библейскую литературу нельзя научно понять и оценить вне социальных условий ее возникновения и вне связи с литературами Древнего Востока. Поэтому необходимо установить время появления кн. Когелет. Мнения исследователей по этому вопросу расходятся.
Дело усложняется тем, что материал, зафиксированный в Екклесиасте, – не исторический рассказ или беллетристическое повествование. Когелет – книга без сюжета. В ней отсутствуют картины современного ей общества. Ее автор – не летописец и не прозаик. Он – мыслитель. Поэтому важнейшая задача исследования – анализ идеологии Екклесиаста. Это приблизит нас к пониманию эпохи, когда была написана книга.
Когда Иудея оказалась в составе империи Александра Македонского, а затем его престолонаследников, она не могла не испытать серьезного влияния древнегреческой культуры. «Со времени завоевания Востока и Иудеи Александром, – пишет советский историк Η. М. Никольский, – условия для осуществления праведности и благочестия, основанных на крайнем обособлении, стали чрезвычайно неблагоприятными. Эллинизм проник во все щели и поры» 5.
Напомним, что проникновение древнегреческой культуры обострило классовую борьбу в древнееврейском обществе. Когелет, видимо, и отражает борьбу двух основных группировок в Иудее в III–II вв. до н. э. В книге явно соседствуют две культуры. В каждом стихе чувствуется автор, воспитанный иудейской литературой и усвоивший философию эллинов. Он – типичный представитель тех слоев Иудеи III в. до н. э., которые хорошо знали культуру своего народа и стремились обогатить ее великими ценностями древнегреческой мысли. Кумранские находки подтверждают этот вывод. Найденный в четвертой пещере отрывок из Когелета, «обнаруживающий расхождение с масоретским текстом и в то же время не являющийся автографом, по палеографическим данным, датируют 175–150 годами до нашей эры. Это позволяет думать, что Екклесиаст был составлен в III в. до нашей эры» 6.
Автор Екклесиаста свои возражения высказывает намеками, нигде не стремится к законченной форме. Его взгляды на жизнь, его понимание морали и смысла человеческого бытия чаще всего переданы в форме загадок. Эти стилистические особенности произведения объясняются тем, что философия как самостоятельная отрасль знания в Иудее не существовала, однако косвенным образом она проявлялась в художественной литературе, даже в той, которой пользовались богословы, включив ее в канон. И все же философская мысль упорно стремилась к самостоятельности, высвобождаясь от оков религиозной догмы, и выражалась в форме философских поучений. Наиболее, талантливое их собрание – книга Екклесиаста.
Широко распространено мнение, будто ее отличительная особенность – безысходный пессимизм и скептицизм. Мнение это обусловлено тем, что в ее некоторых стихах автор твердит о тщетности всех людских дел: «Суета сует, все суета». Такое традиционное суждение о философии Екклесиаста, на наш взгляд, не совсем оправдано.
Екклесиаст – произведение многослойное. В единый узел здесь сплелись смех отрицания и улыбка утверждения, поиск и разочарование, тонкое наблюдение и мудрое обобщение. И, конечно же, ирония и скепсис. Однако основную идею этого произведения нельзя свести к скептицизму. «Принципом скептицизма, – писал Гегель, – является деятельное отрицание всякого критерия, всяких определенных принципов, какого рода они не были бы: чувственное ли знание, рефлекторное ли представление или мыслящее познание» 7. Автор книги отрицает далеко не всякие принципы. Необходимо только иметь в виду, что почва, в которой зародились и созрели идеи этого произведения, – иудаизм III в. до н. э. с его мессианским мифом и учением о делении общества на праведных и нечестивых.
Восставший против химер иудаизма, автор Екклесиаста откровенно выражает свое негативное отношение к теории «того света» и небесного суда. «Сказал я в сердце своем, – рассуждает мыслитель, – о сынах человеческих, чтобы испытал их бог и чтобы они видели, что они сами по себе животные. Потому что участь сынов человеческих и участь животных – участь одна: как те умирают, так умирают и эти, и одно дыхание у всех, и нет у человека преимущества перед скотом; потому что все – суета! Все идет в одно место: все произошло из праха, и все возвратится в прах» (III, 18–20).
Философ разбивает концепцию иллюзорных обещаний и потусторонних царств. Свои размышления о единстве всех живых организмов и об их конечном существовании он заключает оптимистическим в духе эпикуреизма выводом: «Итак, увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это – доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?» (III, 22). Мыслитель сводит, таким образом, счастье к наслаждению. Унизительна жизнь без счастья. Но стремление к счастью в социальном неустроенном мире сдерживается и подавляется злой и антигуманной силой. Расширяя материал своих философских наблюдений, мыслитель пытается объяснить причины зла.
Учение, в центре которого находится божество и его промысел, окутало человеческое сознание мраком. Учение это проповедует бессилие разума, его неспособность познать подлинные причины общественных конфликтов и социального неравенства. «Тогда я увидел все дела божии и нашел, что человек не может постигнуть дел, которые делаются под солнцем» (VIII, 17). Деление людей на праведных и нечестивых в зависимости от их отношения к богу автор книги решительно отвергает. Ибо «всему и всем – одно: одна участь праведнику и нечестивому, доброму и злому, чистому и нечистому, приносящему жертву и не приносящему жертвы; как добродетельному, так и грешнику; как клянущемуся, так и боящемуся клятвы» (IX, 2). Но классификация людей по религиозным признакам несостоятельна. Классовое разделение связанных между собой личностей в государстве кроется, по Когелет, в абсолютной зависимости людей от воли отдельного лица, располагающего неограниченной властью. «Есть зло, – говорит философ, – которое видел я под солнцем, это – как бы погрешность, происходящая от властелина» (X, 5). Осторожно и намеком мыслитель призывает к мятежу: «Если притупится топор, и если лезвие его не будет отточено, то надобно будет напрягать силы; мудрость умеет это исправить» (X, 10).
Но автор книги – человек своего времени. Он знает нравы вельмож и властелинов. Свое благополучие и спокойствие они охраняют с помощью доносов и темниц, убийц и виселиц. Умудренный опытом, он осмотрительно заканчивает десятую главу так: «Даже и в мыслях твоих не злословь царя, и в спальной комнате твоей не злословь богатого; потому что птица небесная может перенести слово твое, и крылатая – пересказать речь твою» (X, 20).
Мера негодования автора Екклесиаста против зла весьма ограничена. В принципе он защищает устои рабовладения и ту социальную систему, при которой мудрые и благородные князья передвигаются на конях, а нищие и невежественные рабы ходят пешком (X, 7).
Живущие в иудейском мире люди, принявшие на веру тезис Даниила: «И многие из спящих в прахе земли пробудятся: одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление» (Даниил, XII, 2), не в состоянии понять истинный смысл жизни индивидуума. Пафос же Екклесиаста – в поиске реальных и непреходящих основ существования личности. Злобе и жестокости «сильных мира сего» Когелет противопоставляет мудрость и доброту. «Слова мудрых, высказанные спокойно, выслушиваются лучше, нежели крик властелина между глупыми. Мудрость лучше воинских орудий» (IX, 17, 18). Наблюдения убеждают автора в том, что ценность имеет только сама жизнь во всем многообразии ее проявлений. «Да будет во всякое время одежды твои светлы, и да не оскудевает елей на голове твоей. Наслаждайся жизнью с женой, которую любишь во все дни суетной жизни твоей и которую дал тебе бог под солнцем на все суетные дни твои; потому что это – доля твоя в жизни и трудах твоих, какими ты трудишься под солнцем. Все, что может рука твоя делать, по силам делай; потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости» (IX, 8–10).
В условиях господства религиозной идеологии мыслителю, игнорирующему ее мифы и догматы, необходимо было, пользуясь выражением Гегеля, найти «принцип мышления», который явился бы «определяющим критерием истины». Таким принципом стал скептицизм.
Скептицизм автора кн. Когелет – это прежде всего деятельное отрицание иудейского вероучения о безотрадности земного существования человека. «И похвалил я веселье; потому что нет лучшего для человека под солнцем, как есть, пить и веселиться; это сопровождает его в трудах во дни жизни, которые дал ему бог под солнцем» (VIII, 15). Следовательно, формула «суета сует, все суета» не содержит идеи об абсолютном бессилии и безысходности. Ближайшим выводом приведенной формулы является отрицательное отношение мыслителя к доктрине о потустороннем существовании личности.
Отклоняя эту доктрину, автор книги неутомимо трудится над созданием новых начал жизнепонимания. В своей концепции он сочетает дерзость юности с мудрым спокойствием возмужалости. «Утром сей семя твое, и вечером не давай отдыха руке твоей; потому что ты не знаешь, то или другое будет удачнее, или то или другое равно хорошо будет» (XI, 6). Неподвижности, господствовавшей в ветхозаветной идеологии, автор Екклесиаста противопоставляет пытливость, независимость духа, его устремленность к познанию мира, прославление радостей жизни. «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и по видению очей твоих, только знай, что за все это бог приведет тебя на суд» (XI, 9). Предупредительные слова о суде являются, по-видимому, вставкой благочестивого редактора. Они не вытекают ни из откровенного игнорирования мифотворчества Торы, ни из призыва к вольному духу, ни из всей внутренней логики произведения. Отметим, что исследователи Екклесиаста указывают и на ряд других подобных вставок. Полагают, в частности, что стихи, на которые ссылается рабби Иегуда, как на «слова Торы», также являются тенденциозным добавлением тех, кто канонизировал книги, включенные в состав Библии. К подлинной философии Екклесиаста эти вставки и добавления никакого отношения не имеют. Реалистическая в своей основе, она безоговорочно признает только жизнь в ее конкретно земной многоликости: «Сладок свет, и приятно для глаз видеть солнце» (XI, 7).
Дерзновенный мыслитель добродушно смеется над невежеством и ханжеством, над глупостью и косностью: «По какой бы дороге ни шел глупый, у него всегда недостает смысла, и всякому он выскажет, что он глуп» (X, 3). Открыто обращаясь к человеку, автор Екклесиаста советует ему: «Удаляй печаль от сердца твоего, и уклоняй злое от тела твоего» (XI, 10). Работай, трудись, люби жизнь, пока «не померкли солнце, и свет, и луна, и звезды, и не нашли новые тучи вслед за дождем» (XII, 2). Будь в жизни активным, «доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодезем» (XII, 6). Не останавливайся в нерешительности, ибо «кто наблюдает ветер, тому не сеять; и кто смотрит на облака, тому не жать» (XI, 4).
Жизнелюбием и жизнедеятельностью пронизана философия Екклесиаста. Ее скепсис отвергает иллюзию и защищает реальные основы жизни и естественные начала нравственности. Таким образом, анализ кн. Когелет показывает, что учение богословов о небесном происхождении Ветхого завета – религиозный вымысел, что философия Екклесиаста имеет исключительно земной характер и что она, находясь в связи с иудейской религией, отрицает важнейшие ее догматы и, обнаруживая известное сходство с рядом положений эпикурейской этики, утверждает концепцию человека с характерными для нее реалистическими представлениями о благе и счастье.
Критика этической ценности бога
Переходя к анализу содержания кн. Иова, отметим, что она отличается от остальных произведений Ветхого завета своим особым жанром. Это – философская поэма. Ее 42 главы содержат выразительный пролог, вдохновенные диалоги и лаконичный эпилог. В прологе воспроизведена жизнь человека из земли Уц по имени Иов, которого бог одарил несметным богатством и семейным счастьем. Но настал день, когда «сыны божии» предстали перед господом и «между ними пришел и сатана» (I, 6), только что вернувшийся из скитаний по земле. «И сказал господь сатане: обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он, на земле: человек непорочный, справедливый, богобоязненный» (I, 8). Сатана резонно ответил богу: даром разве Иов праведник, ведь у него все есть – и дома, и стада, и сыновья, и дочери. «Но простри руку твою и коснись всего, что есть у него, – благословит ли он тебя?» (I, 11). По взаимному согласию бога и сатаны последний разорил Иова, уничтожил его двор и скот, умертвил его детей и их слуг и его самого поразил проказой, причинявшей ему жестокие страдания. Чтобы усилить впечатление от страданий Иова, автор книги «Иов» включил в сюжет поэмы трех друзей главного героя (Елифаза Феманитянина, Вилдада Савхеянина и Софара Наамитянина), которые пришли «сетовать с ним и утешать его». Но, подняв глаза свои, они издали еле узнали его, зарыдали, разодрали свою верхнюю одежду и сидели с ним на земле семь дней и семь ночей, не проронив ни слова.
Жалуясь на свою злосчастную судьбу, Иов обращается к друзьям. Его речь – торжествующая ненависть, обретшая достойный объект: бога и его неправые деяния. В спор вступают друзья главного героя. После трех диалогов между Иовом и каждым из его друзей автор в заключительной части поэмы рисует картину теофании (богоявления), которая, по выражению 3. Косидовского, имеет характер «хэппи энд» – счастливого конца 8.
Для исследования философской направленности дискуссии, развернувшейся на страницах поэмы, необходимо иметь в виду, что Библия, как и другие памятники письменности древности, «многосложна».
От далекого прошлого, которое фантастически преломилось на ее страницах, нас отделяют тысячелетия. Только по намекам можно догадаться о смысле и содержании многих элементов ее литературного материала. К этим намекам мы, в частности, относим слова «орах олам» (буквально: «пути древних»), которые помогут разобраться в содержании книги Иова.
Слова «орах олам» встречаются в Ветхом завете только один раз: в кн. Иова (XXII, 15). В русском переводе мы читаем: «Неужели ты держишься пути древних [орах олам], по которому шли беззаконные». Вопрос Елифаза Феманитянина обращен к Иову. Вопрошающий напоминает другу, что сторонники «орах олам» считаются нечестивцами, так как говорили богу «отойди от нас», а потому преждевременно были истреблены.
Нам представляется, что слова «орах олам» могут послужить верным основанием для правильного понимания подлинных воззрений автора кн. Иова.
Редко можно встретить книгу, которая пользовалась бы таким вниманием исследователей истории литературы, как кн. Иова. Автор ее, как и другие поэты древности, остался неизвестным. Судя по содержанию книги, можно сказать; что для своего времени он был человеком широкой образованности.
Исследователи кн. Иова приходят к выводу, что она была написана в IV–III вв. до н. э., когда Иудея испытывала особенно сильное влияние со стороны эллинистической культуры и философии, когда борьба «за» и «против» эллинизма в Иудее имела глубокий политический смысл 9.
Автор произведения был в отчаянии от окружающего мира и старозаветного принципа его постижения. Он восстал против религиозной доктрины, отрицающей земную жизнь и обещающей благо в некоем потустороннем царстве.
То, что кн. Иова является произведением художника и не имеет ничего общего с божественным откровением, понимали в древние времена даже благочестивые толкователи Библии. Так, талмудист Самуил бар Нахмани отметил, что «Иова никогда не было, Иов только притча» (Баба-батра 15а).
Христианские богословы II в. воспевали Иова, выставляя его в качестве примера праведности и долготерпения, вознагражденного за страдания милостью бога. Современные теологи и буржуазные философы также утверждают, что Иов – страдалец, который сохранил верность создателю, а потому и был обласкан его вниманием. Кн. Иова, подчеркивает буржуазный исследователь И. Трунк, написана «благочестивым евреем, апологетом иудейства» 10. Американский библеист С. Терриен, как бы полемизируя с Трунком, утверждает, что автор кн. Иова опровергает иудейский этический монотеизм и открывает «чистую религию», пригодную для всех людей, особенно для современного человечества 11.
Для иудейского теолога и философа М. Бубера Иов – символ великой тайны деяний бога Яхве и нерасторжимости святого союза Яхве со своим народом. «В наши дни, – пишет Бубер, – не перестают спрашивать: после трагедии в Освенциме может ли иудаизм продолжать свое существование?.. Можем ли мы после того, что случилось в Освенциме, жить в боге… верить в бога?» 12. Бубер ставит в пример Иова, его страдания и его непоколебимую веру в справедливость божьего суда.
Однако на самом деле тема произведения – кн. Иова – не в теодицее, не в оправдании бога, а в выяснении нравственной ценности бога.
Человек глубокой мысли и неукротимой страсти, автор кн. Иова осознал несостоятельность религиозного мировоззрения, обесценивающего земное и единственно реальное бытие человека. В поэме показана трагедия мироощущения личности, разуверившейся в божественной справедливости. Иов – обобщенный художественный образ. Пытаясь проникнуть в сущность неотвратимых явлений Вселенной, Иов выходит за рамки привычной религиозной идеологии и иудейского мифотворчества. Иов не разделяет генотеистический миф о Яхве и библейскую проповедь о сотворении мира из ничего, по слову божьему.
Примечательно, что теолог и философ X столетия Саадия Гаон, страстно защищавший библейскую космогонию и резко нападавший на критиков догмата миросотворения, говорил, что люди, утверждающие, будто все существующее не имеет ни начала, ни конца, т. е. что мир существует вечно, находят основание для подобных воззрений в кн. Иова. В этом произведении Саадия выделяет слова «орах олам» и подчеркивает, что они означают не «пути древних», как их обычно толкуют, а «пути вечности». Указав на то, что теорию вечности мира в Ветхом завете называют «орах олам», т. е. системой вечности, а сторонников этой теории – нечестивцами, потому что они допускают безграничное в пространстве и беспредельное во времени существование вселенной, Саадия приведенные слова из кн. Иова комментирует следующим образом: «Смысл этих слов такой: неужели и ты (Иов. – М. Б.) признаешь правильным взгляд тех сторонников вечности мироздания, которые погибли безвременно» и т. д. 13
Это важное свидетельство. Богослов, цепко державшийся за доктрину священных книг Ветхого завета, признает, что Иов не был приверженцем библейского мифа о боге Яхве и его творческой силе. Иов, по мнению Саадии, – поборник системы вечности, теории «орах олам», т. е. Иов опровергает сверхприродную сущность бога. По воззрениям Иова, космическое бытие бога растворилось в бесконечном и необходимом бытии природы.
Однако Иов не ограничивает исследование вопроса о бытии бога лишь темой о взаимоотношении господа и вселенной. Его особо интересует проблема взаимоотношения бога и человека. Может быть, бог – этический принцип мира, а человек – интегральная частица в существовании высшего нравственного принципа?
Развитие сюжета поэмы строится на диалоге, в ходе которого Иов гневно обрушивается на всевышнего. Зачем бог коварно играет с человеком? Почему он создает светлые возможности, скрывая условия их реализации? Если человек – ничтожная игрушка в руках случая, то зачем богу сводить мелкие счеты с ним?
Друзья пытались успокоить Иова, отстаивая религиозное учение о возмездии. Один из них, Елифаз Феманитянин, говорил: страдание – благо, страдающий воскреснет из мертвых, обретет счастье в загробном царстве.
Автор кн. Иова негодующе отвергает доводы Елифаза. В почти тех же выражениях, что и Екклесиаст, он говорит: божественная справедливость – миф, вымысел. Жизнь показывает, что «все одно», бог «губит непорочного и виновного… Если этого поражает он бичом вдруг, то пытке невинных посмеивается» (IX, 22, 23). Реальные факты опрокидывают доктрину воздания. Защита божественной несправедливости теорией «того света» несостоятельна, устарела. Друг Иова Вилдад Сахвеянин откровенно заявляет: да, «мы – вчерашние, и ничего не знаем» (VIII, 9).
Концепция друзей Иова – иудейская идеология вчерашнего дня, она ничего общего с разумом и правдой не имеет. Отвергая ее, Иов стыдит бога, который за малейшие проступки тяжко карает человека. И этическая ценность бога оказывается весьма сомнительной. Бог безразличен к людским судьбам и страданиям. Человек конечен, дни его земного существования сочтены, а иной, кроме земной, жизни не существует. Умирает человек и нет ему возврата: «…редеет облако и уходит, так нисшедший в преисподнюю не выйдет» (VII, 9). Так где же «страж человеков»? Может ли он спокойно перенести муки и горе людей, унижающие в человеке человеческое? Нравственно ли не сострадать к страдающему? Тем более нравственно ли заставлять страдать безвинного и праведного человека? Философия Иова – это трагедия бессмысленного и бесцельного страдания.
«Невинен я! – восклицает Иов, – а страдаю». Страдает Иов не только физически, но главным образом духовно, ибо распадается старая, укоренившаяся картина и концепция жизни. Религиозная доктрина о боге как вседержителе вселенной и нравственной ее основы рушится. Бог по наущению сатаны хотел проверить человека, а вышло, что человек в силу превратности своей судьбы проверил бога и ступил на извилистый и трудный путь обретения новой философии жизни.
Глубокие размышления Иова о жизни и страданиях, об ответственности и невиновности человека направлены против религиозного догмата об абсолютной доброте бога. Иов приходит к противоположному выводу: бог – воплощение зла. «Земля отдана в руки нечестивых, лица судей ее бог закрывает» (IX, 24). Бог, стало быть, защищает социальное зло, превращает суд в произвол. Довод о неправом божестве, прикрывающем беззаконие, – яркое свидетельство скептического отношения поэта к духовным ценностям современного ему общества.
Один из друзей, Софар Наамитянин, вопрошает Иова: неужели можно отыскать сущность божества, неужели можно постичь совершенство всемогущего? Совершенство? В чем оно находит свое выражение? В том, иронизирует Иов, что «покойны шатры у грабителей», у тех, кто «носят бога в руках своих» (XII, 6).
Социальная неустроенность мира причиняет величайшие муки и страдания. Иов готов вступить в спор с самим богом и от него потребовать ответ на вопрос, почему нечестивцам хорошо, а праведникам худо. «Но я к вседержителю хотел бы говорить и желал бы состязаться с богом» (XIII, 3).
Однако человек из земли Уд понял, что нельзя состязаться с божеством. Почему? «Еще и ныне горька речь моя… О, если я бы знал, где найти его… Я изложил бы пред ним дело мое… Неужели он в полном могуществе стал бы состязаться со мной?» (XXIII, 2–6). Но куда ни пойдешь, бога нигде не сыщешь. «Вот, я иду вперед – и нет его, назад – и не нахожу его; делает ли он что на левой стороне, я не вижу; скрывается ли на правой, не усматриваю» (XXIII, 8, 9).








