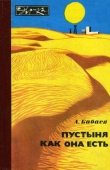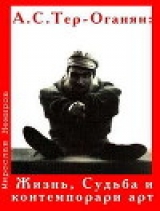
Текст книги "А. С. Тер-Оганян: Жизнь, Судьба и контемпорари-арт"
Автор книги: Мирослав Немиров
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 14 страниц)
Слепченко, Василий

Ростовский друг А.С.Тер-Оганяна, художник, участник товарищества «Искусство или Смерть» Вместе перебирались в Москву в 1988-м, вместе обитали на Речном Вокзале и Трехпрудном. Погиб осенью 1991. Дополнительные подробности см. в книге М.Белозора «Волшебная страна»
Сорос, Джордж

«Саму акцию я не видел, но информацию имею избыточную, и от прессы, и от очевидцев. Мы видим продуманное и оплаченное кем-то глумление. Не знаю кем, но догадываемся. Конечно, Тер-Оганян знал, что дело дойдет до суда, но его покровители, видимо, посчитали, что ему ничего не угрожает. В печати появились сведения, что действия Тер-Оганян оплатил фонд Сороса.» – Михаил Кузнецов, профессор, общественный обвинитель от Комитета за нравственное возрождение отечества, соратник Виктора Илюхина по адвокатской коллегии заявлял такое в газете «Сегодня» 21 апреля 1999.
Это все о тех же Иконах.
Логика просто карикатурно классическая: сам Оганян до этого додуматься, конечно, не мог, – говори, сука, кто научил! Говори, сука, кто, как, где передавал инструкции, толченое стекло заграничного производства, чтобы подсыпать в муку, через какую границу собирался затем уходить!
Так вот, о Соросе.
Давал фонд Сороса один раз деньги Оганяну – в 1994-м году на издание книги о галерее в Трехпрудном – как чего не рассуждай, а одной из довольно видных страниц в истории московского контемпорари арт.
Авдей написал заявку – приложил суждения искусствоведов, которые подтверждали, что это была довольно видная страница, ее нужно зафиксировать в книжном виде – получил деньги согласно представленной смете.
Дальнейшая судьба этих денег была печальной: автор этих строк в указанный период жизни как раз пытался заниматься бизнесом, и причем именно полиграфическим. И я вызвался пристроить книгу в типографию, где все сделают быстро, дешево и хорошо, и убедил в этом Оганяна, и тот деньги передал мне, и – и как-то так получилось, что никакой книжки так издано не было: как то оказалось, что деньги понемножку размотались.
Другой бы на месте Оганяна с автором этих строк срать бы больше рядом не сел – и это еще в лучшем случае!
Но Оганян простил.
Вот какой он человек.
Сортирная выставка
1988, сентябрь, Ростов-на-Дону. Тер-Оганян лето проводит в Москве, где обнаруживает – там художественная жизнь ох и кипит. Нужно и у нас так – делать произведения искусства в больших количествах, сделанное – немедленно выставлять. Эх, нам бы крохотненький бы выставочный бы зальчик, чтобы —!
Где?
И мы ходили по Ростову, гуляли, это все обсуждали.
В фойе кинотеатров? Не пустят. Тут, проходя по Газетному переулку, увидели новооткрытый кооперативный сортир. Оганяна осенило: в нем! в сортире!
И – тут же договорились с его владельцами, которые, не устояв перед Оганяновым напором, согласились, и – сделали.
Успех был полный: возмущенные отклики появились во всех трех тогдашних ростовских газетах («Молот», «Комсомолец», «Вечерний Ростов») и даже в центральной «Литературке»: кооператоры совсем оборзели! Выставку тут же закрыли, сортир, кстати – тоже. Вот как было просто в те времена испугать советскую власть!
Вот какова была невинность советского человека – и, это, кстати, было очень удобно для деятелей контемпорари арта: всего-то навсего повесь на стены в сортире картины – и ты уже поп-звезда.
Сейчас, когда никого уже ничем не удивишь, —
Оганян, впрочем, все-таки нашел способ удивить – см. Иконы – да уж тысячу раз пожалел об этом.
Соц-арт

«Срисовывание»
оно же «апроприация»
Направление творчества А.С.Тер-Оганяна с начала 1990-х и по сей почти что день.
Мастерская на Пятницкой, год, например, 1991, месяц, например, февраль. Я у Тер-Оганяна в гостях. Еще у Оганяна в гостях делегация каких-то западноевропейских теток: рашен авангард! Это есть модно и престижно! Они хотят приобрести произведения модных новейших московских художников! Тетки ходят по мастерским Пятницкой колонии художников – а это две огромные, восьмикомнатные квартиры, занятые самозахватом в доме под снос, – смотрят работы, покупают. Доходит очередь и до Оганяна. Он начинает выносить свои картины. Он выносит огромную, полтора на два метра, картину, ставит ее лицом к теткам. Тетки смотрят с недоумением.
– Так это же, – с изумлением, – Матисс?
– Матисс, – подтверждает Оганян.
– Но это не подлинник! – возмущена тетка.
– Конечно, нет, – соглашается Оганян. – Я сам срисовал.
– А это – Пикассо? – не верят глазам своим тетки, когда Оганян предъявляет им следующий холст, тоже между прочим, здоровенный.
– Пикассо.
– Сам срисовал?
– Ну.
Эти тетки уж не знаю, купили ли в конце концов что-нибудь у Оганяна или нет ли, но многие – покупали. Те, которые были пообразованней, и понимали, что на свой вкус в таких вопросах полагаться не стоит, а нужно советоваться с экспертами – вот эти тетки и дядьки, по подсказкам экспертов, они покупали. Потому что эксперты им объясняли, что они не правы, а что это есть действительно новейшее, и действительно авангардистское, и, действительно, такое, которое искусство – ну, которое следует купить в качестве хотя бы образчика.
То есть, мы перешли к тому периоду Оганяновского искусства, когда он занялся срисовыванием = присвоением = «апроприацией». Собственно, он и до сих пор занят именно этим, модифицируясь, естественно в течение времени. Опишем, как он до этого дошел.
Он и раньше охотно перерисовывал классические картины знаменитых авторов – трактуя их по-своему. Например, «Девушку у рояля» Коро он перерисовывал четыре раза, причем каждый следующий вариант был все более радикальным, а последний был уже больше похож на картину абстрактного экспрессиониста, чем на исходное произведение французского мастера середины XIX века.
Теперь же Оганян основным направлением своего искусства выбрал копирование разных классических авангардистских картин – Пикассо, Матисса, Лихтенстайна, и проч., и проч., их тщательное срисовывание и перерисовывание, и потом, конечно, выставление на выставках в качестве собственных произведений А.С. Тер-Оганяна, и продажа в качестве именно оригинальных работ представителя современного московского искусства, отнюдь не копий.
Зачем так поступать? И кому нужны эти копии?
А вот зачем. А вот почему. А все потому же: задача живописи – изображать прекрасное, так? Ну, так я именно его и изображаю!
– Все нарисовано, – говорил Оганян. – Пейзажей – срисованы с натуры миллионы. Ну, так какой же смысл мне срисовать миллион первый? Потому что я художник и мне нравится сам процесс рисования? Ну, так я тогда уж самый лучший нарисую пейзаж – тот, который уже обработан замечательным художником, таким художникам, который не нам, недоучкам, чета.
– Можно рисовать, например, табуретку. Почему нельзя рисовать картину? Картина – такой же предмет мира, что и табуретка, ну и вот – кому-то нравится рисовать табуретки, кому-то – мне например, – картины. – Так объяснял свое направление Тер-Оганян, и это звучало опять же убедительно, и картины Оганяна выставлялись, и продавались, и покупались. И это было действительно новое, и действительно авангардистское искусство.
Тут еще вот в чем дело: это было скромное искусство.
Мол, мы, новое поколение, мы не претендуем на авторское своеволие и дерзость, мы понимаем бессмысленность и смехотворность таких претензий в постмодернистскую эпоху – и вот мы скромно перерисовываем шедевры, стараясь срисовать их как можно лучше.
И эта скромность была шокирующей и вызывающей, ибо была демонстративной, ибо собственно, являла собой, при всей своей якобы тихости и незатейливости, отрицание всего предыдущего опыта истории авангардизма. Ибо по всем каноном этой истории каждый следующий художник должен был начинать с того, что объявлять предшественников козлами и дураками, и только себя самого тем, наконец, который – Именно то, что Оганян демонстративно делал все наоборот, именно это и делало его – Вышеописанная реакция теток есть самое наглядное подтверждение того, что Оганян являлся в этом своем копировании именно авангардным художником, и именно по-настоящему авангардным. Ибо именно способность вызывать у неподготовленного человека шок от неожиданности увиденного – се и есть, как известно, один из классических признаков по настоящему авангардного искусства.
И уже к концу 1990-го года он выдвигается в достаточно видные фигуры новейшего московского авангардного искусства, какой фигурой он и пребывает по сей день.
Дальнейшая эволюция этого ответвления творчества Т.: от срисовывания почтительного, он переходит к срисовыванию скорее издевательскому. Например, перерисовывает все более и более радикальные авангардистские произведения – на все более маленьких холстах, вплоть да холстиков величиной в две ладони. Да еще и – в черно-белом варианте! Получалось смешно: например, знаменитое произведение Клайна, которое представляло из себя несколько гектаров земли, покрытых синей краской, и производило впечатление именно безумным и совершенно никчемным размахом, в Оганяновом варианте – аккуратный крохотный холстик, ровно закрашенный серым.
Или – знаменитое произведение некоего итальянца, фамилию забыл – пустой незакрашеный холст с прорезанной бритвой вертикальной щелью посередине. Смысл его – «выход за пределы картины, холста», «прорыв в иное измерение». То есть, по Оганяну, – крохотная картинка серого цвета с вертикальной полоской посередине. Довольно жестокая насмешка.
И нарисовал таких штучек Оганян до фига, и получился из этого проект «Передвижной музей»: чемодан, битком набитый такими крохотными репродукциями знаменитых авангардистских сочинений.
Авангард для бедных: кому не по карману купить подлинник Клайна – или хотя бы хорошую, то есть большую и цветную копию – тот может дешево купить авдеевскую маленькую черно-белую. Кому не по карману поехать в Москву на большую выставку авангарда (да и редко они бывают, а чтобы все сразу корифеи авангарда собраны вместе, так и вообще никогда, ибо это невозможно) – тот может посетить авдеев «Передвижной музей» и все увидеть в одной комнатке. Контемпорари арт – народу!
Еще поздней – на эмалированных табличках, слегка подцвеченых розовым и зелененьким, как делали некогда немые. В понятной и близкой народу форме.
Еще поздней – на кружках и тарелках: «агитационный фарфор» Малевича, агитирующий за «контемпорари арт».
Струков Артур
Есть такой знакомец у А.С.Тер-Оганяна. В 1980-е был-рок-музыкантом, затем погрузился в православие, поступил в Богословскую академию. Затем женился, и тесть, принадлежащий к числу богачей, на свадьбу купил ему грузовик – чтобы он при помощи его, развозом грузов и т. д., зарабатывал себе и жене на жизнь.
– Да не грузовик нужно было дарить! – прокомментировал Оганян. – Лучше бы он ему церквушку купил! Вел бы Артур в ней службы, собирал бы требы – и работа непыльная, и денег больше!
Стулизм

Сюрреализм

С. Дали. «Что-то там, вызванное полетом шмеля за сколько-то секунд до пробуждения», – точнее не помню.
Таланты из провинции

– Гельман совсем обалдел, – с возмущением рассказывает Оганян, вернувшись от этого самого Гельмана (см.). – Говорит, вы все – отработанный пар, ваше время истикало, ему теперь подавай новых талантов из провинции.
– Ну, а что ты хочешь, – пришлось ответить мне ему, – ты сам этого хотел, Жорж Данден! Кто делал акциюСмерть гандоном от искусства! и все в этом духе?
– Но не отчаивайся, – придумал я, – есть выход: ты прикинься! Побрейся налысо, отрасти бороду до пояса и покрась ее в рыжий цвет, сделай повязку через глаз, как у пирата, и приходи к Гельману (с костылем) – вот, я талант из города Кургана!
Оганян очень обрадовался и развеселился.
– Точно! Когда меня, старого козла уже начнут не пускать в галереи, так и сделаю!
Но до этого покуда не дошло.
Театр художественный
Вот история из жизни Тер-Оганяна А.С., описанная очевидцем. Лето 1993-го отличалось особой моросливостью. Автор этих строк проживал тогда в Серебряном переулке, что на Арбате, и, идя уж не помню зачем и куда по Камергерскому переулку, бывшему проезду Художественного театра, был мной вдруг встречен Авдей Тер-Оганян. Главное в следующем: в руках у него была сумка. Главное в еще более следующем: не в сумке, конечно, а в ее содержимом. Оно было двумя бутылками портвейна!
Тут же, в ближайшем подъезде, в обстановке сплошной, но теплой исмороси, они довольно быстро были выпиты.
Естественно, все фибры существа автора были не согласны с этим и требовали продолжения. Все надежды неимущего автора этих строк могли возлагаться лишь на чудовищно богатого по моим тогдашним меркам Оганяна; и Оганяном было заверено: банкет – будет продолжен!
Но – не сразу.
А сначала – нужно пойти в Художественный театр, и посмотреть там спектакль, ибо Оганян приглашен, и не пойти не может.
Ну, а уж после спектакля банкет точно будет продолжен, и в притом еще куда лучшем виде – с актрисками!
Дополнительная дополнительность была в том, что это был спектакль на английском языке. Это были какие-то английские театральные студенты, приехавшие на какой-то театрально-студенческий фестиваль; в рамках его они показывали свое творчество. Они пригласили Оганяна на свое выступление.
Мы прошли как очень важные люди через служебный вход, сели в зале. Зал был – ох! Художественный театр! Тот самый МХАТ! Народу в зале сидело кучками человек около шестидесяти, говорили они меж собой не по-русски. Липкий красный портвейн, к которому такое пристрастие питает Оганян, имеет многие всем известные особенности воздействия на пустой желудок, нужно ли их описывать? Если хотите, вот их описание в рифмованной форме.
Смысл его: с автором с немалой силой происходило следующее:
Сердце как будто пукнуть желало —
так его сжало.
Будто пукнуть желало, а не выходило, —
так давило его и давило.
Хлопотун Оганян тут же умчался лопотать на различных зарубежных языках с разными людьми приятного зарубежного вида. Я сидел и смотрел спектакль. Спектакль был студенчески-модернистского типа, то есть на пустой сцене стояло то по два, то по три человека разного пола, что-то громко рассказывая друг другу на заграничном языке. Временами оставался вообще один, и тогда он что-то рассказывал на все том же языке зрителям. Длилось это все часа наверное два с половиной, причем Оганян то и дело вообще исчезал из зала, и тогда то, что происходило с внутренними органами и сознанием автора, было являющимся таким, чего не описать даже в рифму. Тут Сартр и Камю потребны: заброшенность…покинутость…бессилие человека перед лицом отчаяния…
Но самое главное было потом: в конце концов на сцене не оказалось никого. Потихоньку стали исчезать и сидевшие в зале. Постепенно сидящим остался один я, да несколько кучек людей в очках стояло по углам, негромко с приятством беседуя на разных языках, да Оганян, неутомимо продолжавший сновать от кучки к кучке. Робко я приблизился.
– А, старик! – радостно приветствовал меня Авдей Степанович. – Ну, как тебе? Мне что-то не очень!
Всеми возможными кивками и экивоками я стал напоминать о планах продолжения банкета.
– Да ну, старик, какой банкет! Спектакль так себе, чего же тут праздновать? – ответил Оганян и тут же продолжил лопотание на неизвестном языке с каким-то то ли шведом, то ли, может, судя по его могучести, канадцем, который усиленно кивал, подтверждая: спектакль, действительно, не вышел, какой уж тут банкет.
Что мне оставалось делать? Я и сделал то, что только и оставалось мне сделать: пошел к себе на Арбат, выпил со злости в очередной раз купленную было женой в очередной же раз туалетную воду; получил пропиздон; устроил пропиздон ответный – где ты, где ты, волшебник в голубом вертолете? Забери меня на фиг скорей отсюда!
Или опять же в стихах:
Странное дело – водяру хлестал,
А поутру во рту
Как будто, напротив, мыло жевал, –
Чем сию объяснить хуету?
Если хотите, можно этой истории придать и общечеловеческое звучание, закончив ее выводом типа – не такова ли и вся наша жизнь: бесконечное пребывание в ожидании, чтобы потом услышать: какой банкет, чего праздновать-то?
24 июня 1995 года, красота, жара.
Телевизор
Массовой культурой, как я уже писал Тер-Оганян А.С. совсем не интересуется – а вот телевизор все-таки смотрит. И даже специально его себе купил, чтобы смотреть.
Например, я прихожу к нему в гости, и вот какую застаю картину: они всей семьей – Оганян, Ира, его теперешняя подруга, сын Давид, подруга сына Полина – смотрят в стоящий на столике черно-белый переносной телевизорЮность производства конца 1970-х, с экраном с открытку. И смотрят они в нем кинофильмСвадьба в Малиновке.
– Ты что, сбесился? – изумлен автор этих строк. – Выключи немедленно!
– Ну что ты, старик! – засуетился застуканный Оганян. – Ну, посмотрели кино – что тут такого? Это же так, чисто по приколу!
Тимофеев, Сергей

Ростовский, потом московский, художник, дружбан А.С.Тер-Оганяна и автора этих строк, участник товарищества Искусство или смерть; вместе переезжали в Москву, вместе обитали на Речном вокзале, Трехпрудном. Погиб летом 1993 года.
Осенью 1989-го года Сергею Тимофееву довелось посетить тогда еще существовавшую Германскую Демократическую Республику в качестве гостя одного германско-демократического человека по имени Ральф, см. о нем в сообщении Шнапс. Тима и его друг Дмитрий Келешьян прилетают самолетом в ГДР – и попадают в самый разгарбархатной революции и крушения Берлинской стены. Нежданно и негаданно, они получают возможность посетить не только братскую страну развитого социализма, но и своими глазами посмотреть на звериной оскал западноберлинского капитала – а в те годы получить такую возможность для простых парней из города Ростова-на-Дону!
Глухой осенней европейской ночью они отправляются туда.
Ночью – потому что какие-то КПП все-таки существовали, и, если немцев свободно пускали туда и обратно, то с советским паспортом были сложности. А ночью пограничников было можно убедить, подарив им бутылку, например, шнапса. И они – делают это, и в результате, вот, они стоят в самом Западном Берлине, в обстановке глухой ночи и поздней осени.
Они стоят.
Им, прямо скажем, страшно.
Кругом – глухая ночь.
Кругом – подозрительные трущобы.
Кругом – запад, да еще и какой: Западная Германия! Узнает в них русских какой-нибудь гитлеровский недобиток, и – поминай как звали!
Тут они видят: некий подвальчик, и вывеска над ним, и свет, горящий внутри – кафе, и, что главное, открытое, несмотря на ночное время.
Они заходят в него: глупо, действительно, торчать на улице посреди дикого и пустого ночного Западного Берлина, тем более поздней осенью, в обстановке холода и сырости.
Они заходят.
Ни души.
Они садятся в уголке.
Кельнер с салфеткой через руку предлагает им заказывать что-нибудь. Подумав и рассудив – денег у них, естественно, кот наплакал, а уж тем более западноберлинских, они заказывают – чай. Чай, напоминаю, в СССР при советской власти стоил 3 копейки за стакан, то есть практически ничего.
– Чай? – изумляется официант.
– Чай! – подтверждают эти двое. Озадаченный официант удаляется на кухню. Спустя некоторое время он возвращается, и действительно, с чаем. Чай он приносит – в пивных кружках. Расплачиваясь, два наших друга мрачно понимают, что на те деньги, в которые им обошелся сей экзотический напиток с далекого острова Цейлон, они могли бы в сракотан упиться простым немецким пивом, и даже еще съесть по немудреной немецкой сосиске. Но, деваться некуда, назвавшись груздем, приходится лезть в кузов, и они сидят, пьют этот чай безобразной дороговизны, обсуждают вполголоса свои дальнейшие планы и намерения.
– А ю рашенз? – тут вдруг обращается к ним скучающий за стойкой буфетчик.
Началось! – в ужасе понимают Дима с Тимой. Гитлеровские недобитки и реваншисты все-таки распознали в них русских, и сейчас вот —
– Ну, рашенс, – неохотно признаются они.
– О! Дас ист зер шен! Вери Велл! Gorbatschoff! Perestroika! Glasnost! – в восторге кричит буфетчик. – Что же вы эту бурду пьете? Я уж подумал, что вы англичане. Вы же русские – русским положено пить русскую водку! Wypiem, dryzia! Я угощаю! – объявляет он. Ибо был, был, был этот краткий, но исторический момент: западные люди ужасно любили Горби, а заодно и всех остальных русских. И буфетчик достает рюмки, достает бутылку, разливает.
– Начнем с самой лучшей, – поясняет он, – а уж потом перейдем к остальному. Потом нам уже будет все равно!
К изумлению двух друзей, за 25 лет своей жизни в СССР твердо привыкших к тому, что все советское – третьесортное и говняненькое, западный немец вытаскивает из закромов в качестве лучшей не легендарную водку Смирнофф, о которой был наслышан всякий советский человек, как о превосходящей по замечательности все, что только можно себе представить, и не каких-нибудьГорбатчофф илиРаспутин, о существовании каковых тоже доваживалось им уже слыхивать, и не всякие прочие водки сплошь в двуглавых орлах и коронах, а простую советскую водкуМосковскую особую со скромной бело-зеленой этикеткой.
Изумленные, они выпивает по стопке, буфетчик прячет бутылку обратно в загашник и вытаскивает новую – и опять неСмирнова – Горбатчова, а – Столичную.
Выпили и эту.
Третьей была, наконец, Смирновская.
Четвертой – Распутин.
Пятой – еще какая-то.
– Да сколько ее у тебя? – в ужасе хватаются за голову Дима с Тимой.
– Да сортов сорок есть, – отвечает западногерманский буфетчик. Немая сцена. Два русских героя сией истории смотрят на буфетчика, не в силах вымолвить ни слова. Нынешнему поколению читателей уже, наверное, и не понять, почему. Для них разъясняю: а потому, что в СССР в это время было 2 (две) марки водки: Русская иПшеничная, да еще те люди, которые были вхожи в дома правящей номенклатуры, рассказывали, что видели в этих домах еще и такие марки советской водки, как Золотое кольцо, Посольская и Старка.