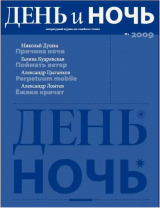
Текст книги "День и ночь, 2009 № 05–06"
Автор книги: Михаил Лермонтов
Соавторы: Яков Полонский,Валентин Курбатов,Александр Щербаков,Эдуард Русаков,Николай Переяслов,Наталья Данилова,Зинаида Кузнецова,Владимир Алейников,Оскар Уайлд,Константин Кравцов
Жанры:
Газеты и журналы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 39 страниц)
Конечно – и спорить тут бессмысленно – многие поэты, собравшиеся в Доме Ильи, смогли бы войти в литературу и прожить в ней самостоятельно. Но кто знает, как бы повернулась судьба поэта из таёжного посёлка Лесогорск Иркутской области Вячеслава Тюрина, не пришли он свои тексты на конкурс «Илья-премия»? Благодаря москвичу Илюше Тюрину «дикорос» из тайги, мыслящий планетарно широко, но прикованный к своей деревне, где по весне «в отогретую флейту берёз дует яростно только северный ветер», выпустил первую книжку в Москве и, только годы спустя, вторую – у себя на родине, в Иркутске. Именно после счастливого признания его в Доме Ильи Тюрина у Вячеслава Тюрина (здесь однофамильство только подчёркивает духовное родство) сдвинулась с мёртвой точки поэтическая судьба от публикации к публикации, от читателя к читателю. Хотя обстоятельства личной жизни, кажется, намертво приковали его к месту, где сельсоветская Муза чахнет на одной картошке – ведь, как известно, на одном этом продукте таланты не растут. Да и там Бог поэзии жмётся по углам, выцарапываясь из глухомани свободой рифмованного слова:
В лесопарковой зоне города, на отшибе
русской изящной словесности, среди хвои,
куда заезжают для пикника на джипе
любопытные существа, эти вечные двое,
позаниматься на заднем сиденье блюзом,
а затем рок-н-роллом. Есть и другие жанры.
Сюда заплывают, дабы расстаться с грузом
одиночества, крепко друг друга держа за жабры.
И всё же для меня Вячеслав Тюрин – певчий глагол Бытия, сжатый до божественно притягательного Я. Поэт поёт самого себя, и многим теперь его песня становится слышна. Может ли вырваться в урбанизированное пространство поэт из сельсовета? Такие попытки были, и не один раз, но он всегда возвращался в своё замкнутое пустотой пустоты пространство, где ему трудно живётся, но легко пишется каждый день. Хотя не всё, что записывается, отдаётся в печать.
Пригрели в Доме Ильи и вывели на читательский свет вечно путешествующего в «безъязыковом пространстве» до нищеты тела и духа иркутского поэта Андрея Тимченова, лирический герой которого «мертвецу протягивает списку». Жизнь поэта оборвалась – по строго запрограммированному сценарию – рано, но вовремя, ведь он
«Пошёл по свету с лицом Иуды
С отчаянным желанием полюбить и поверить».
А в Доме Ильи он продолжает общую и единую для всех дорогу поэта, о котором постоянная обитательница поэтического сообщества Анна Павловская (и сама – гран-при Илья-премии) написала самое проникновенное слово, согласно которому «мир Тимченова – это вопящий, кровоточащий мир Иова, в безумии соскребающего с себя черепками гной незаслуженной проказы. Какая-то поистине библейская внутренняя невиновность чувствуется за всеми его вопросами-вопрошаниями, обращёнными мимо недоумевающей публики – прямо к Богу. Причём сам текст и есть ответ Бога Иову – торжественная песнь, из которой появляется мир: города, дороги, поля». Потому что
У флейты сорвался голос.
Дрогнул и захлебнулся…
Эхо улиц и тонкий волос
на руке…
Утро,
как яблоко, надкушенное несмело.
– Утро, – шептали губы
флейты-Лены.
А потом внезапно зима кончилась.
Все разъехались в разные стороны.
Осталась бессонница
с длинным вдоль сердца корнем.
Нашёл себя в Доме Ильи, прежде чем стал популярным в сетевом пространстве, поэт из Обнинска Валерий Прокошин. Последние годы, а особенно после его смерти, о нём открыто говорят как о мощном одиноком мейнстриме современной поэзии. При жизни ему успели воздать должное и похвалой, и премией имени Марины Цветаевой. Но мы помним, что он был в числе первых завсегдатаев Ильи-Премии, когда о нём знали только в Калужской области. В главной своей прижизненной книге поэт мыслил себя, как и его 19-летний поэт-собрат, между Пушкиным и Бродским. «У поэта всегда есть вопрос, на который пока нет ответа», – заявил в начале своего творческого пути Валерий Прокошин. Но, словно поиграв словами, тотчас добавил: «У поэта всегда есть ответ, на который пока нет вопроса». И тем самым обозначил свой диапазон. Да, он дал в своих стихах ответы, на которые современные философы ещё только ставят вопросы. Его стихи стали ритмической попыткой бытия осветить себя внутренним светом из общака поэзии, завербованного будущим, которое подало Валерию Прокошину руку:
В январе этот вымерший город рифмуется с тундрой,
Потому что ветер срывается с крыш ледяною пудрой
И летит в переулки, которым названия нет,
Где божественный SOS отзывается полубандитской полундрой
И ментоловый вкус на губах от чужих сигарет.
Здесь чужие не ходят: шаг влево, шаг вправо – и мимо
Остановки, которой присвоят геройское имя
Отморозка пятнадцати или шестнадцати лет.
Переулками можно дойти до развалин Четвёртого Рима
И войти в кипячёные воды реки Интернет.
Впрочем, вся наша жизнь – электронная версия
Бога: Этот город, зима, и к тебе столбовая дорога —
Мимо церкви, по улице Ленина, дом номер два.
Если я иногда возвращаюсь к тебе, значит, мне одиноко
На земле, где душа завернулась, как в кокон, в слова.
Всё слова и слова, что рифмуются слева направо,
Невзирая на жизнь или смерть, словно божья отрава —
Боль стекает медовою каплей с пчелиной иглы.
В темноте переулками вдруг пронеслась отморозков орава:
Снегири, свиристели, клёсты, зимородки, щеглы.
Писал, будто чувствуя свой земной конец. Бог проходит сквозь каждого из нас жизнью, но только через избранных Словом. На одних он останавливается, других уводит за собой, ему тоже надо с помощью поэтов на том свете укреплять силу слова. Потому что наша самонадеянная попытка присвоить себе авторские права на Слово вынуждает Господа призывать лучших поэтов раньше срока. Потому что как на этом, так и на том свете без человека поэзия отсутствует.
Человек заполняет пустоты бытия не информационным, а поэтическим говорением – Словом, которого не хватило вначале. Сегодня Поэзия – бытие в оправе Бога, а благодаря ей и Бог – в формате бытия.
Печально, что никто не объяснил
Решительно никак природу слова.
Оно – начало доброго и злого,
С его уходом мир бы ощутил
Такую боль и глубину событья —
И вновь бы совершил своё открытье.
Мои слова, рождённые умом,
Ещё не став собой, уже солгали.
Но хуже то, что и в уме едва ли
Я их сказал бы о себе самом.
1999
Это из последних стихов Ильи Тюрина, где мысль неизречённая и немота им засчитаны по разряду лжи, а молчание – спасение. Но при этом молчание ещё и главная часть речи, которая звучит понятно на всех языках мира.
Только поэт после смерти не теряет права голоса. Больше того – часто приобретает Голос более сильный, мощный, который при жизни порой даже не прозвучал. И потому Дом Ильи продолжает активно собирать рифмующих всюду, формируя не союзы ЕДОмышленников, а отряды певчих, за плечами у которых стоит эпоха с перерезанным горлом, формируя современное состояние русской словесности. Как предсказывал Илья Тюрин, даже когда человечество охватывает немота, «…беспокойные пальцы рвут затишье». поэзии.
И теперь за горизонтом литературы, обгоняя течение фраз, реку родной речи, закованную в берега рифмы, несчётное множество раз переплывает гениальный мальчик, рождая новое звучание слова… Он плывёт через нашу жизнь по черновикам памяти, стараясь перебраться на другую сторону языка, где главная часть речи поэтов – молчание, исполняет на эшафоте бытия роль задумчивости ненаписанных стихов. Мы всё ещё слышим его шаги, которыми он растаптывает звуки тишины на дне последнего глотка истории. Он напоминает нам, что Поэзия – архив неиспользованной человеческой памяти, закупоренной практическим смыслом неизвестного нам пути, по которому Эпоху нужно ещё пронести вперёд стихами! Стихи – алиби поэта, который ничего не должен этому свету, всех дел у него – представить небу душу, зная при этом, что жизнь продолжается новой песней и оставшиеся здесь эту песню услышат.
Услышат, потому что испытывают повседневную ностальгию по будущему, к которой нас приручил Илья Тюрин. И как точно напомнил всё тот же Андрей Тимченов в своих стихах:
Мы строили дом или даже больше,
Нечто подобное мирозданью.
И мы в этом мирозданье говорим и слышим голос поэта, который нельзя заглушить.
ДиН перевод
Шимон Токаржевский
Среди умерших для общества
Зарисовки из жизни поляков в Сибири[12]
С особым чувством редакция «ДиН» представляет читателям фрагмент масштабного труда известного польского патриота, литератора и общественного деятеля XIX века Шимона Токаржевского. Как многие его соотечественники, борцы за освобождение Польши, большую часть жизни Токаржевский провёл на каторге и поселении в Сибири. Восьмикнижие его воспоминаний под общим названием «Сибирское лихолетье» – предмет неугасающего интереса историков, культурологов, литературоведов. Достаточно упомянуть, например, лишь о том, что на омской каторге вместе с Токаржевским находился Ф. М. Достоевский и об одних и тех же событиях оба написали по-разному, каждый «со своей колокольни», – чтобы этот интерес оказался не только объяснимым, но – само собой разумеющимся. Становится загадкой как раз другое: почему книги Токаржевского до самого недавнего времени не были переведены на русский язык? Этот досадный недостаток в нашем культурном багаже наконец восполнен, благодаря – не побоимся этого слова – подвижничеству двоих кемеровчан: искусствоведа, переводчицы, публициста Мэри Моисеевны Кушниковой и её помощника, литературоведа Вячеслава Тогулева. «Сибирское лихолетье» в 2007 году вышло в Кемерово на русском языке крошечным тиражом и сразу же стало раритетом. Мы пользуемся случаем ещё раз поблагодарить кемеровских коллег за возможность публикации уникального текста на страницах нашего журнала.
Редакция «ДиН»
На Иртыше
Светало. На светло-сером небосводе из-за лёгких опаловых облачков местами проглядывали как бы только что расцветшие бледно-розовые цветы.
Из-под тонких, прозрачных предрассветных покровов мглы начал проглядывать погожий, летний, жаркий день, розовели воды Иртыша, а на бескрайних киргизских степях, что тянулись по ту сторону величественной реки, появились светлые полосы, что предвещало: сейчас покажется солнце. И вскоре оно показалось, щедрое и лучезарное.
Тут же повеял живительный ветер. Какое-то радостное оживление послышалось над Иртышом, над степью, над дальним аулом кочевников, над табуном пасущихся коней и над скалистым берегом, который при солнечном восходе заискрился, словно посыпанный крупными песчинками золота.
По этому берегу в тот ранний час ватага каторжников омской крепости отправлялась на работу.
Барабан, подающий заключённым сигнал подъёма, отбивал дробь задолго до рассвета.
Но никто не жаловался на такую раннюю побудку, потому что жаркие летние ночи в душном воздухе каземат были истинной пыткой, после которой даже самая тяжёлая работа под открытым небом, на свежем воздухе, казалась живительным облегчением.
В тот день нам надлежало в мрачном старом бору начать прорежать гущу, прокладывать дорожки, делать на деревьях зарубки, «зачёсы».
И всё это, чтобы губернатор Западной Сибири Пётр Дмитриевич Горчаков мог здесь легко ориентироваться во время охоты, которые затевал, чтобы развлечь и в знак почтения к чиновникам, приезжавшим из Петербурга для проверки.
С лопатами на плечах, с топорами в руках, мы маршировали бодро и весело.
Веселы были все без исключения.
Даже обычно хмурый и ворчливый дозорный на сей раз не ругался, не поторапливал, не грозил «пулей в лоб» за задержку, не осматривал, крепко ли привинчены кандалы, что делал постоянно, поскольку каторжане работали в лесу, в степи, над Иртышом, либо на отдалённых от Омска полях и на тракте.
Творец живописной природы и благоуханного воздуха на время смягчил дозорного и сделал его весёлым и даже снисходительным.
Он стал до того снисходителен, что велел бить в барабан на отдых уже в половине двенадцатого.
И тогда целая ватага вышла из бора из-под тени древних деревьев и группами разместилась на траве.
Мы, поляки, сели с краю, стараясь, как обычно, занимать возможно меньше места, ничем не стесняя наших сотоварищей по каторге, чтобы не вызывать их недоброжелательности, но и не привлекать их внимания.
Фёдор Достоевский и Сергей Дуров присоединились к нам.
– Сегодня впервые с тех пор, как прибыл в острог, в первый раз дышу сейчас полной грудью и испытываю приятные впечатления. Такое впечатление, будто я не на каторжных работах, а как свободный человек на какой-нибудь загородной прогулке, – сказал по-французски писатель Фёдор Достоевский.
Каторжники-преступники ненавидели «политиков»[13]. Поэтому, если случалось, что между собой мы говорили не по-русски, они просто впадали в ярость.
Хотя до сих пор исключительно французские разговоры Фёдора Достоевского раздражали, сейчас мы не обратили на это внимания, может, оттого, что он обратился к нам любезно.
Только арестант Сушилов сплюнул сквозь зубы в нашу сторону и, презрительно оглянув нас, запел во всё горло:
Пётр через Москву прёт,
А теперь верёвки вьёт.
Тут же послышались хохотки вслед насмешливой песенке Сушилова.
Но вдруг общее внимание обратилось к пришедшим из города «калачницам».
Калачницами звались девчата, которые разносили «сайки».
Для многих омских женщин выпечка таких пшеничных булочек составляла неплохой источник заработка, хотя за добрую сайку платили всего полкопейки.
Крепостные заключённые толпами покупали сайки, хрусткие, свежие, и поедали их так же жадно, как вглядывались в румяные лица и ладную стать молоденьких продавщиц.
Они тоже приязненно и охотно «зыркали» на ловеласов с наполовину обритыми головами, с выжженными на лбу и на щеках клеймами, с кандалами на ногах.
Где бы ни работали каторжане, за забором острога, в предместье или на окраинах города, в кирпичных мануфактурах, в сараях и кузнях или на ремонте тракта после осенней слякоти или весенних паводков, в любое время года, – в полуденный час отдыха всегда появлялись эти девчата с корзинами булочек, и их встречали бурными проявлениями радости и шутливыми колкостями.
Подойдя к булочницам, каторжане весело загалдели:
– Ксекунда! Марьяшка! Хаврошка! Мы уже давно мечтали погрызть ваши сайки. Почему сегодня так поздно? Где валандались?
– Помогали матушкам высаживать сайки из печи, – отвечали девчата.
– Так-с?! Бендерская хвороба на вас, какая это правда!
– Глянь-ка! Он ещё и проклинает! – с притворным возмущением парировали калачницы, а Ксекунда важно заявила:
– Я вам скажу чистую правду. Правда, чистая как золото: со вчерашней полночи до сегодняшнего полудня мы всё время танцевали.
– В кабаке, под рыжим псом, – прервал Сушилов, – у паршивого Элиашки…
– А неправда! А врёшь! – вроде бы обиделась Ксекунда, – не в кабаке и не у Элиашки, а у самого генерала, мы здорово позабавились с офицерами.
– Пусть у генерала, – сказал Сушилов, – генерал большой человек! Но генерал генералу рознь! И вот что скажу вам, миленькие девчата, вы у какого-нибудь бандитского генерала баловались…
Эта шутка вызвала взрыв хохота и возмущение калачниц – так закончилась оживлённая перепалка. Сушилов ещё и пригрозил девчатам:
– И глядите, соломенные коровы, чтобы не скалили зубы в сторону политиков!
– А мы вот как раз и собираемся! «Приказ» твой, а воля наша! – хохотали девчонки, осчастливленные беседой с кавалерами, но и тем, что в их кожаные кошелёчки так и сыпались грошики за булочки, которые вместе с водой из источника, что сочился с ближайшей скалы, составляли основную часть нашего обеда.
С пустыми корзинами на головах, булочницы уже собрались уходить, дозорный уже должен был отдать приказ, чтобы мы вернулись в лес к начатым работам, когда пред нами предстало пречудное видение. Посреди Иртыша плыла ладья, украшенная зелёными гирляндами, в которых местами проглядывали разноцветные цветы.
Величественная, роскошная, в виде огромного лебедя, с пурпуровыми парусами и флагом с надписью «Mon plaisir»[14]…
За ней, как бы сопровождая, плыла целая флотилия меньших лодок, выкрашенных в белый цвет, тоже роскошных и с разноцветными парусами. Там сидели женщины в светлых платьях и шляпках, были и военные высших чинов в парадных мундирах квартирующего тогда в Омске полка «красноярцев».
Течение реки легко уносило эти красивые, изящные силуэты.
Гребцы шевелили вёслами только изредка и как бы скуки ради, и вскоре полковой оркестр в сопровождающей флотилии заиграл fortissimo[15].
Смех и пересуды среди каторжников прекратились внезапно.
На ладьях тоже, вероятно, говорили очень негромко, потому звуки оркестра вместе с лёгким плеском волн Иртыша звучали среди окружающей тишины слаженно, мелодично и впечатляюще.
– Freischütz![16] – вскричал Сергей Дуров. – Ах! На этой опере мы были вместе в Петербурге. Помните, Фёдор Михайлович? – спросил он Достоевского.
Тот печально улыбнулся и ответил:
– Помню.
И оба умолкли.
А между тем, флотилия уже доплыла до нас. Каторжники обнажили головы и стали во фрунт, лицом к реке, напряжённые, как струны.
Конвойные солдаты отдали честь. В первой из изящных лодок, той, что с пунцовыми парусами, среди военных и штатских чиновников из Петербурга и омской знати, сидевших на скамьях, покрытых коврами, первое место занимала генеральша Шрамм[17].
Справа от неё сидел какой-то петербургский чиновник, а слева – губернатор, князь Пётр Горчаков.
И эта флотилия с гирляндами зелени и цветами, с разноцветными парусами, с музыкой, – эта флотилия, полная свободных, статных, уверенных в своей безопасности людей, посреди величественной реки плыла перед нашими глазами, как фантастическое явление, колдовское видение, или сон, приснившийся наяву, в этот солнечный июльский полдень.
Флотилия медленно исчезала из вида.
Истинно мимолётное видение… медленно удалялось… удалялось, пока не исчезло за выступом скалы, что остро врезалась в Иртыш.
Мелодия из «Вольного стрелка» тоже стихала в благоухающем золотистом мареве… пока совсем не утихла, и только шёпот ветра слышался над старыми деревьями.
Мы вернулись в лес, к прерванным перед полднем работам.
Но прекрасное видение, что мелькнуло перед ватагой этих людей, которых мучили голод, нужда, неволя, унижения, – это прекрасное видение всколыхнуло в них желчность, зависть и ненависть к тем счастливым избранникам судьбы, которых они видели мгновением ранее.
– Слякоть, нелюди, подлые кобылки[18], имеют тысячные состояния, челядью обросли по горло, как генералы, валяются на мягких перинах… Каждый день напиваются, как короли… Сволочь, а не люди! – сказал Скуратов, хромой безобразный карлик, похожий на гнома.
Вздохнул, отхаркался, сплюнул сквозь зубы и, поворотившись к нам, полякам, издевательски смеясь, спросил:
– Ну-с? Как вам? Ничего себе, а?.. Господа шляхта? И хотя дозорный, прапорщик Иван Матвеевич,
методично одёргивал:
– Мелете языками, как мельничные жернова! Кому говорю, молчать!
Напрасны были понукания.
Напрасны были и угрозы кнутом. Работа шла медленно, вяло, лениво.
Сегодня метка деревьев утруждала нас и раздражала, хотя это была одна из самых лёгких работ.
Часы тянулись нестерпимо долго!..
А бор тем временем всё более мрачнел, в нём стало душно.
Верхушки деревьев сотрясали зловещие порывы ветра.
Из толпы прокладывающих дорожки послышался громкий голос, доносившийся сквозь удары топоров и скрипа лопат, голос злобного карлика Скуратова:
– Эй! Господин надзиратель! Уже день погас, как свечка Тобиашки паршивого, а вы ещё держите на работе нас, молодцов!
– Да уж, такие вы молодцы! – раздражённо проворчал дозорный Иван Матвеевич.
– Мы не молодцы, согласен, но прапорщик тоже не офицер! – огрызнулся злобный Скуратов, намекая на слабость Ивана Матвеевича, который, будучи всего лишь прапорщиком, требовал, чтобы ему отдавали честь, как полагалось военным высшим чинам.
Скуратов, осуждённый на двадцать лет каторги за убийство двух своих родственников, иногда бывал довольно остроумен.
Проворный, находчивый, не лишённый юмора, он в омском остроге был как бы местным шутом. Ему удавалось развеселить даже самых понурых. Каждую его реплику сотоварищи встречали громкими неудержимыми взрывами хохота.
Он очень этим гордился, остроумие приносило ему немало пользы.
Кашевары[19] подсовывали ему самые лакомые куски, сотоварищи по каторге делились с ним водкой и табаком, помогали на работе, часто даже отрабатывали за него задания, которые карлику было не под силу выполнить самому.
Когда мы вышли из бора, солнце уже клонилось к закату, зажигая на водах Иртыша фиолетовые, кровавые отблески. От киргизских степей шёл парной, душный воздух.
Когда мы приблизились к городу, сорвался ветер. Откуда-то издалека надвинулась туча. Закрыла собой пламенеющий закат, затемняя его яркие краски.
Вскоре появилась ещё одна, ещё больше и гуще… Всё вокруг стало хмурым и потемнело.
Лёгкие дуновения ветра превратились в грозный вихрь.
Вдоль дороги, ведущей в Омск, стояли ряды деревянных строений, балаганы[20], служившие складами для кирпича и упряжи артиллерийских коней, сараями для толчения и обжига алебастра и кирпича.
Сейчас все они были давно закрыты. Только в огромной кирпичной кухне солдаты ещё работали.
Вокруг раздавались удары молота, бренчание железных рельс, разложенных на каменном полу.
Из трубы валили снопы искр. Облака чёрного дыма плыли ввысь и там сливались с хмурым, почти чёрным небосводом.
Перед кузней встали несколько возов, гружённых железом.
Когда мы проходили мимо, офицер, сопровождавший эти возы, задержал партию окриком: – Стать!
Мы остановились, ожидая дальнейших распоряжений.
Оказалось, что требуется наша помощь при разгрузке и переноске железа в кузню, к чему мы приступили сразу же, хотя весьма неохотно, потому что не имели права ни отказаться, ни даже протестовать.
Начал моросить густой мелкий дождик.
Наступило предвечернее время.
Золотисто-пурпурная полоса догорающей вечерней зари ещё светилась на западе, но со всех сторон небосклон был так тёмен, что казалось, будто ночные тени уже витают над землёй. – Само небо сжалилось над нами и плачет о нашей тяжкой доле! – сказал Сергей Дуров[21], который любил прибегать к риторическим и патетичным, возвышенным выражениям, постоянно сохраняя облик мученика за правое дело, сетуя на мстительную руку судьбы, так обидевшей его.
А дождь превратился в сплошной ливень, перемежающийся с градом небывалой величины.
Мы промокли до нитки. И очень были благодарны офицеру, когда тот, посоветовавшись с Иваном Матвеевичем, решил позволить нам прекратить работу и укрыться в кузне.
Мы вошли.
Около огромных кувалд и мехов трудились обнажённые до пояса солдаты.
От огня шёл жар, как в гроте у Циклопа или в аду. Дружно, в унисон падали удары молотов, солдаты хором пели какую-то заунывную песню.
И вдруг… грянул выстрел… один… второй… третий.
Потом несколько пистолетных выстрелов послышались одновременно.
Офицер и дозорный, Иван Матвеевич, бросились к дверям, чтобы узнать, что произошло. Вскоре непрерывные выстрелы слышались чередой друг за другом, солдаты оставили меха, кувалды, молоты, а за ними и все, не соблюдая субординации, высыпали из кузни во двор.
При последних отблесках закатной зари мы увидели страшную картину.
Воды Иртыша вздымались… поднимались… росли… Пару часов назад Иртыш струился так тихо и спокойно… Сейчас он рычал как легендарный зверь, изрыгая из своей разверзнутой пасти настоящие фонтаны мутных волн и серо-белесой пены.
Ветер, свирепо свистя, уносил ввысь бурные волны; он свивал их в столбы и будто в каком-то адском танце вертел изящные ладьи, которые в погожий солнечный полдень под голубым балдахином небосвода, с музыкой проплыли перед нашими глазами.
На обратном пути в Омск их накрыла гроза.
Ураган посрывал с мачт цветочные гирлянды, в лохмотья превратил цветные паруса, поломал мачты, вырвал вёсла из рук усталых гребцов.
Лодки пытались пристать к берегу.
Тщетно.
Вихрь отталкивал их от берегов, отталкивал на средину реки.
Они сталкивались и, толкая друг друга, наносили друг другу всё новые повреждения.
Казалось, что две мощные стихии, ураган и вода, сговорились между собой и поклялись истрепать, уничтожить и погрузить вглубь Иртыша эту красивую флотилию и этих людей, таких весёлых и беззаботных несколькими часами ранее.
Увидев освещённое помещение и множество мужчин на дворе, несчастные потерпевшие начали стрелять из пистолетов.
Это был призыв о помощи, просьба спасти.
Но даже при искреннем желании помочь – уже было поздно, не хватало людей, не хватало тросов, а притом стихия разыгралась – дождь лил ручьями, вихрь ломал придорожные деревья, которые с треском валились во двор. Неустанно рокотал гром, сверкали молнии и, словно стрелы, вонзались в Иртыш и тонули в бурливых глубинах реки.
Страшная это была буря.
К счастью, продлилась она недолго, как это нередко бывает летней порой.
Когда ураган и молнии немного притихли, офицер велел солдатам отпрягать коней от возов и мчаться верхом в город за людьми, верёвками и повозками. Нас задержали, полагая, что при спасательной акции наша помощь может понадобиться.
Чёрные угрожающие тучи по-над рекой, над степью и над берегами реки поплыли на север и вскоре совсем исчезли за далёким горизонтом.
Иртыш совершенно успокоился.
Только баранки, или пенистые пятна, плывущие по спокойной сейчас глади воды, говорили о прежнем бесновании реки, а также о последствиях страшной бури.
Притом положение флотилии оказалось весьма небезопасным. Усилия матросов прибиться или хотя бы приблизиться к берегу, откуда можно было ожидать помощи, оставались тщетными.
Ветер упорно толкал лодки к середине реки, к самым глубоким местам.
Женщины в лодках жалобно кричали:
– Спасите! Спасите! Господи и Святой Николай Чудотворец, спасите!
– Сейчас! Сейчас! Успокойтесь! Прошу покорно! – изо всех сил своих юных лёгких кричал молодой офицер, размахивая белым платком, привязанным к длинной жерди, указывая в сторону Омска, чтобы потерпевшие поняли, что из города вскоре должна приспеть помощь.
Более всего пострадала ладья с пурпурным парусом, именно та, в которой сидела генеральша Шрамм с омской знатью и петербургскими гостями.
Флаг с надписью «Mon plaisir» был продырявлен.
Не двигаясь с места, ладья углублялась в реку, она всё больше тяжелела. Матросы что-то мастерили на дне. Очевидно, пытались заткнуть образовавшееся грозное отверстие.
Дамы в промокших платьях встали на скамьи, мужчины шапками выливали набравшуюся воду из лодки и переходили из одного конца в другой, чтобы удержать её в равновесии.
Один за другим с «Mon plaisir’а» выкидывали утяжелявшие лодку предметы: ковры, всякие корзинки, коробки, шали, зонтики, дамские накидки… Всё делалось для того, чтобы облегчить набиравшую воду лодку.
Но, несмотря на все усилия, она погружалась всё больше… Казалось, ещё мгновение, и она пойдёт ко дну…
А люди из Омска, позванные на помощь, не прибывали. Всё не прибывали.
Другие судёнышки, входившие в состав флотилии, несколько приближались к причалу.
Только ладье с пурпурными парусами грозила неминуемая и быстрая гибель.
И тут на лодке «Mon plaisir» поднялся какой-то солдат, до тех пор занятый работой вместе со всеми.
Видимо, его подозвал генерал. Солдат приблизился и салютовал.
Генерал дал ему какой-то короткий приказ.
Солдат вновь отсалютовал.
Затем снял одежду, обнажив свою богатырскую постать, снял фуражку и бросил на дно лодки, глянул в опять распогодившееся голубое, чуть порозовевшее небо, трёхкратно перекрестился, широко расправил плечи и кинулся в реку, крикнув:
– Господи, помилуй!
«Mon plaisir» сильно заколыхалась, а потом сразу же чуть приподнялась.
Вся флотилия прогулочных лодок с «Mon plaisir'ом» счастливо избежала потопления и не разбилась во время бури, а была чудодейственно спасена.
Генерал Горчаков и генеральша Шрамм затеяли ещё более захватывающую охоту, чем было запланировано ранее.
Очевидно, такой праздник должен был компенсировать прибывшим из Петербурга чиновникам неудачную прогулку по Иртышу, испуг и пережитые волнения, когда они попали в бурю, которая разбушевалась именно здесь.
Потому мы вновь отправились на следующий день в бор, прокладывать дорожки, строить из дёрна и мягкого мха скамейки, мастерить из веток шалаши, в которых охотники могли бы отдохнуть, и беседки, где будут расставлены роскошные угощения.
На третий день после бури, когда после работы в лесу мы по берегу Иртыша возвращались в острог, конвойные предшествующей партии каторжан подбежали с криком:
– Андроник Оноприенко!
В их голосе звучала жалость, горечь и испуг.
Они многократно клялись, повторяя беспрестанно слова какой-то молитвы, что дорогу им загородило какое-то ведьмовское видение.
Вся ватага каторжников остановилась.
– Ну-с! Чего стали? Чего подняли такой гвалт? – допытывался дозорный.
В ответ один из конвойных опустил руку, указал на землю и дрожащим голосом опять закричал:
– Андроник Оноприенко!
На влажном песке лежал труп.
Синий, распухший, с открытыми глазами лежал труп того солдата, который тремя днями ранее кинулся в Иртыш с ладьи «Mon plaisir»…
Попал в самую глубину и утонул.
Никто о нём не беспокоился.
Никто не искал его следов.
И всё же бурливая и убийственная стихия на сей раз оказалась милосердной: вода вернула земле тело, чтобы оно упокоилось в освящённом месте.
– Ну-с, и чего стоите, как болваны? Чтоб вам сгореть от водки! – злился прапорщик. – Андроник Оноприенко утопился, велика беда! Зачем из лодки выскочил, дурачище.
Скуратов выступил из ряда вперёд и, сдвинув шапку на затылок, сказал:
– Он, бедолага, Иван Матвеевич, прыгнул в реку, потому что от своего генерала получил такой приказ.
Сообщение Скуратова вызвало общее смятение. Некоторые кивали головой в недоумении, а прапорщик пнул карлика:
– Врёшь, зараза сибирская! Хромой настаивал на своём:
– Не вру, Иван Матвеевич, честное слово, не вру. Инвалид, и Гришка, и другие матросы говорили про это вчера, когда мы помогали грузить на возы попорченные лодки. Андроник Оноприенко здоровенный был, как вол, а большой и сильный, как медведь, да и тяжёлый на диво. А лодка с губернатором и генералами была дырявая… Так, чтобы облегчить лодку, генерал велел Оноприенко выпрыгнуть. Гришка, и Инвалид, и все матросы слышали, как Его Превосходительство сказал: «Ничего с ним не станется, выкупается, а то, наверняка, грязный весь, доплывёт до берега, глотнёт горилки и получит полрубля!». Верно, так генерал и думал. Только бедолага Андроник не доплыл, и горилки так и не выпил, и полрубля не получил. Ну-с, и жизни лишился.
Во время рассказа Скуратова меня охватило состояние, будто морозный ветер повеял с севера и заледенил мне кровь.
Дорога до острога, где находились казематы каторжан, проходила около летнего обоза полка, в котором состоял Андроник Оноприенко. Среди палаток ходили солдатики, а, закончив свои дневные занятия, пели хором:








