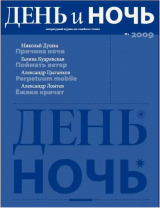
Текст книги "День и ночь, 2009 № 05–06"
Автор книги: Михаил Лермонтов
Соавторы: Яков Полонский,Валентин Курбатов,Александр Щербаков,Эдуард Русаков,Николай Переяслов,Наталья Данилова,Зинаида Кузнецова,Владимир Алейников,Оскар Уайлд,Константин Кравцов
Жанры:
Газеты и журналы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 39 страниц)
И, как ни странно,
этих малых крошек
Хватает на прокорм России всей…
* * *
Женщина над человеческой бойней
С красным крестом на груди,
Перекрестись, если это спокойней,
Смилуйся, не уходи.
Очередь справа – фонтанчики пыли.
Жизнь дешевеет в бою.
Выдумай так, чтоб меня не убили,
Спрячь меня в сумку свою.
– Я за тебя помолюсь и поплачу,
Ангел мой с пулей в крыле.
Я тебя спрячу,
конечно же, спрячу
И в небесах, и в земле.
ДиН гостиная
Леонид Сафронов
Виктору Астафьеву посвящается…
Тяга
Как над сёлами космос засвищет,
Так согнувшись от тяжких вериг,
Что-то во поле бродит и ищет
Синим светом обросший старик.
Раз набрёл на лихую ватагу —
Не народ, а сплошной матерьял.
«Что ты ищешь?» «Небесную тягу
На земле, – говорит, – потерял».
Отвалили ему полковриги;
С голодухи и хлеб – колбаса:
«Ты бы сбросил, – гогочут, – вериги,
Легче станет попасть в небеса!»
Тут такая в них тягость попёрла,
Подхватить не успели кошли,
Всей оравой по самое горло
В ненасытную землю ушли.
И не могут сработать ни шагу
Из неё ни назад, ни вперёд,
Чуют носом небесную тягу,
Да земная за горло берёт.
Человек
В страхе землю озирая
У истоков древних рек,
Бродит изгнанный из рая
Самый первый человек.
Утучняя сладкой пищей
Плоть свою – земную персть,
Бродит он и способ ищет
Двери райские отверсть.
Но не думай, вор, о краже —
За святой рекой Евфрат
Херувим стоит на страже
У закрытых райских врат.
Он вращает по округе
Огнедышащим мечом.
От меча бежит в испуге
Человек, бренча ключом.
И, споткнувшись, вязнет в дверце
Рыжих пойменных болот
И в тоске срывает сердце —
С древа жизни райский плод.
* * *
Казаки
Мимо Дона тихого,
Мимо Дон-реки
Ехали угрюмые
С фронта казаки.
Грозный ветер с севера
С воем в спины дул,
На седле под буркою —
Мёртвый есаул.
Кровь лампасом выцвела
На виске седом…
Краснозвёздным выстрелом
Выбит белый Дон.
* * *
По другому берегу
Мимо Дон-реки
Ехали суровые
С фронта казаки.
Бился под копытами
Мировой пожар…
На руках товарищей
Мёртвый комиссар.
Пуля кровью вышила
На груди кумач…
По-над Доном слышится
Материнский плач.
* * *
Мужики
Тары-бары-шаровары,
Продувные кушаки…
В городском-тверском пивбаре,
Как московские бояре,
Загуляли мужики.
Притаранили тарани
Целый ворох в сто пудов
И шумят, стирая грани,
Грани сёл и городов.
Спорят нервно, но степенно
О шелках да о бобах,
И кипит пивная пена
На прокуренных губах.
Для таких любая кружка,
Как не выкати – мала…
Вьётся пена, словно стружка,
Льётся пиво, как смола.
Раскраснелись, аки раки,
От заморского питья:
Кулаки крепки для драки,
Рожи гожи для битья.
А в сторонке горожане
Из столичных пиджаков
Смотрят, точно парижане,
На российских мужиков.
Мол, сцепитесь ради шутки,
Коли жизнь невесела,
На пятнадцатые сутки
Доберётесь до села…
…Тары-бары-шаровары,
Продувные кушаки…
В городском-тверском пивбаре,
Как московские бояре,
Пили пиво мужики.
* * *
Апокалипсис
Вылезал из житейской трясины
Змей не змей – земноводная слизь,
Это чудо завидев, осины
С перепугу, как бабы, тряслись.
Выползал на большую дорогу,
На ухабах свивался в кольцо,
Гнусно корча незримому Богу
Полуморду и полулицо.
Коль машина из тьмы наезжала,
То шофёр уходил в тормоза:
На него, свесив грозное жало,
Зверь нездешний таращил глаза.
И на кончике медного рога
С треском лопался визг колеса,
Из-под ног уходила дорога,
И летела душа в небеса…
* * *
Ночное светило небесным пупом
Сквозь тучи светило попихе с попом.
От луж бы до луж бы дорогой хромой
Скорей бы со службы добраться домой.
До милых поповен, до малых попят —
Они, час не ровен, всё ждут и не спят,
Чтоб матушка с тятей дошли поскорей,
Прогнали бы татей от полных ларей.
Вдруг видит попиха свеченье в степи —
От вражьего лиха, Господь, укрепи! —
То бродит гнедая заблудшая Русь,
На мир нагнетая великую грусть…
Шепнула попиха на ухо попу —
И вывели лихо они на тропу.
От луж бы до луж бы житейских морей
Обратно до службы дойти бы скорей!
От ямы до Яма сквозь Вечность бредут,
От срама до Храма Россию ведут.
Уснули поповны средь малых попят,
Попята неровно носами сопят.
Вдруг видят с полатей Таинственный Суд:
Что Матушка с тятей Россию спасут.
* * *
Шли попята по опята
Шли попята по опята
А за ними папа-поп,
А за папой, толстопята,
Шла попиха: топ-топ-топ…
Самый маленький попёнок
Вдруг наткнулся на пенёк:
На пеньке стоял опёнок
Одноног и одинок.
Тут сцепилися попята
Меж собой из-за гриба,
У попа рука – лопата
Кучу-бучу загребла.
Подбежала тут попиха
И сказала: «Тихо! Тихо!
Что шумите на весь лес,
Смотрит Боженька с небес.
Драться грех из-за опёнка…»
«Да», – сказал тут папа-поп
И счастливого попёнка
Тем опёнком по лбу – хлоп!
Сразу стало тихо-тихо…
У попёнка крепок лоб…
По опята шли попиха,
Три попёнка, папа-поп.
ДиН гостиная
Ренат Харис (перевёл с татарского Николай Переяслов)
Морщины на лбу
1
Чем более жизнью побиты мужчины,
тем глубже им лбы исписали морщины.
Вот режет морщина мне лоб, глубока,
а чудится – это из песни строка.
Кто ж пишет морщины – судьба или время?
В них горечь и тайна,
в них мудрость и опыт.
Что нужно, чтоб лбов наших нотные станы
раскрыли в морщинах сокрытые песни —
язык стихотворца?
игла граммофона?
смычок дирижёра?..
* * *
2
Морщина схожа с бороздой на поле.
Неясно лишь – что жизнь туда засеет?
Быть может, голос, что дрожит от боли,
быть может, слово, что созреет в клятву,
быть может, веру, что родит надежду
и вереницу светлых дней умножит…
Быть может… может…
* * *
3
Живя свой век, не знает человек
то, что морщины – суть истоки рек:
и тех, что мчатся по камням, бурля,
и тех, какие жадно пьёт земля,
и тех, что поглощают океаны,
и что без виз пересекают страны,
и тех, что трескотливы, как сороки,
и тех, что позабыли жизни сроки,
и что проворны, как в семнадцать лет,
и что покорны, будто бы им нет
и дела до того, куда им течь,
уйти в леса или в долинах лечь,
гнать пред собой волну иль времена
через страну, где мир или война,
нести плоты, байдарки иль судьбу…
Где б ни текли они, исток – на лбу.
* * *
4
Нет без причины ни одной морщины.
Они – след давней раны иль кручины.
Возможно, ещё с древней той поры,
когда оружьем были топоры.
Возможно, это прадед наш далёкий
когда-то получил урок жестокий,
когда в него разбойник бросил камнем
или кинжалом в рукопашной схватке
полосонул, сражаясь, неприятель,
или медведь в лесу его сграбастал,
чтоб меж дерев с рогатиной не шастал…
А, может быть, то чьё-то слово злое
продрало лоб ему в четыре слоя…
* * *
5
…Вот и мой лоб прочерчен строчкой жизни.
Коль это песнь – то о моей Отчизне.
Коль борозда – то под посевы хлеба.
А коль река – то та, что льётся в небо.
А если рана – то не ножевая, а от любви,
что век не заживает…
Глядя на воду
(Из вереницы зарисовок)
1
Смотрю на реку. А по глади вод —
древесный корень медленно плывёт…
Кого питал он, когда рос в земле?
Какие соки пил в глубинной мгле?
Плывёт, качаясь, словно мёртвый зверь,
как будто имя, что ничьё теперь:
тверди его хоть про себя, хоть вслух —
оно мертво, коль с ним расстался дух…
Смотрю на реку: то и впрямь – река?
Иль то плывут меж берегов – века?
Ужель вот так и наши имена,
как этот корень, унесёт волна?..
* * *
2
Река течёт себе, не зная,
из-за чего окрестный лес
порой шумит, себя терзая,
словно в него вселился бес.
И лес стоит, не понимая
жизнь рек, что точат берега —
куда по ним к началу мая
уходят талые снега?
И сам я тоже, тоже, тоже
постичь не в силах ни-че-го.
Смотрю на мир – и сердце гложет
непониманье тайн его…
* * *
3
Вода стоячая – зеркальна
и неподвижна с давних пор,
её частицы не сверкали,
свергаясь вниз с высоких гор.
В ней нет желанья мчаться к устью,
спеша безудержно вперёд.
И, наполняя душу грустью,
над ней – дух гнилости плывёт.
Она давно болотом стала,
в котором жизни гул затих,
словно душа, что перестала
страдать и плакать за других.
* * *
4
Легла на землю мгла тенистая,
ни лист не дрогнет, ни трава.
Вода и воздух пьют неистово
коктейль ночного колдовства.
Вода влечёт к себе магически,
словно она – гипнотизёр,
и ты тревожишься панически,
но отвести не можешь взор.
Борясь со страхом, ты решаешься
и, дождь волос собрав в пучок,
идёшь к воде – и погружаешься
в блестящий Космоса зрачок.
* * *
5
Там, где речка свои воды
от чужих скрывала глаз,
обезумев от свободы,
мылись девки в ранний час.
Без купальников, нагие,
веселились стайкой фей…
И на их тела тугие —
я глядел из-за ветвей.
Ни ресницы, ни деревья
не скрывали сладкий вид…
…Было, было, было время,
когда очи знали стыд!
* * *
Какая во всём ненадёжность! И бренность какая!
Рассыпались камни дорог, что носили Тукая.
Урал обмелел. И увязла в скоплении ила
та лодка, что прежде Тукая по водам носила.
С чего ж земной шар, что обязан вкруг Солнца кружиться,
под весом Тукая, как будто сухарь, стал крошиться?
Ведь в мире подлунном не может быть лёгких поэтов,
поскольку поэты – несут на себе тяжесть света.
На Волгу родную Тукай попытался вернуться,
надеясь, что камни Казани под ним не прогнутся.
Там поднял на плечи Вселенную, и – в то же время
земля расступилась под ним, не сдержав это бремя…
Но, бросить не в силах просторы, что так хороши,
осталась летать над землёй его птица души,
которая, к счастью, отныне сиротства не знает
и, встретив горячее сердце, гнездо в нём свивает.
ДиН гостиная
Анатолий Аврутин
Всё ничейно… Поля? – Вот те на…
А по-русски выходит «поляна».
И высокое слово «страна»
На две трети читается «рана».
Сердце Родины. Ширь да подзол,
Хоть в подзоле всё чудится злое.
Это кто к нам с небес снизошёл?
«Снизу шёл»… Остальное – пустое…
Всё рыдали княжны в теремах,
Расшивали рубакам рубаху.
Ох, Владимир ты свет Мономах,
Что ж преемники дали-то маху?
Сколько взгляд ни мечи из-под век —
Лишь устанут набрякшие веки,
А тут всё не поймёшь – «человек»:
О челе или, может, о веке?
Так вот, мучась, уйдём навсегда
В мир, где больше ни боли, ни бреда,
Помня – русское слово «беда»
Всё ж две трети от слова «победа»…
* * *
Старик должен жить со старухой
(Иначе всем сказкам конец), —
Сварливою и тугоухой,
Твердящей, что он – не жилец.
Старик должен шаркать по скверу,
С газетой на лавке сидеть,
А если и выпить, то в меру,
Чтоб в рюмочке было на треть.
Старик должен к первому снегу
Взбодриться… Мол, дожил опять.
И в женщине видеть коллегу,
Анализы с ней обсуждать.
И, шаркнув ногой старомодно,
Старик должен к ручке припасть,
Когда с этой дамой дородной
Уже наболтается всласть.
Точнее, не к ручке, а к длани…
И прежде, чем грузно присесть,
Оттенок забытых желаний
В глазах благодарных прочесть.
* * *
Хватаю газету, листаю программу:
Какое-то шоу, потом – мелодрама…
А мне бы другое средь хмурого века —
Мне что-нибудь вроде «Найти человека»…
Чтоб люди рыдали… Чтоб слёзы по лицам…
Чтоб мог бы и я, не стыдясь, прослезиться.
Да чтоб домочадцы не поняли – плачу
Я не потому, что смотрю передачу.
Мне просто иначе бы сил не хватило
Припомнить, как ты навсегда уходила…
* * *
Любимым лгу… Не лгу бумаге,
Не смог солгать календарю.
И воют в ужасе дворняги,
Когда я с Богом говорю.
И мчит со скрежетом по венам
Ржавеющий гемоглобин.
И в озарении мгновенном
Я со столетьем не един.
Я чаще там, где профиль Анны,
Где Блок, стремящийся на фронт,
Где мне рукой махнёт жеманно
Худой, взъерошенный Бальмонт.
Где император в чёрной раме —
И свет высокий по плечам…
Где от «Стихов Прекрасной Даме»
Курсистки плачут по ночам.
В кабак зайти… Вдвоём не спеть ли
С цыганкой? И наверняка
Спасти Есенина от петли
И Гумилёва – от ЧК.
А там – Бог весть…И мне не внове
Стоять у бездны роковой,
Пока потоком чёрной крови
Не хлынет ужас мировой.
* * *
Да, мы такие… Нечего пенять.
Уходят божества, минуют сроки.
Но вновь: «Умом Россию не понять…»,
Но вновь: «Белеет парус одинокий…»
С какой бы скорбной думой на челе
Мы ни брели сквозь ужас и забвенье,
Опять: «Свеча горела на столе…»,
Опять: «Я помню чудное мгновенье…»
И сам, итожа в свой последний час
Короткий путь служения земного,
Прошепчешь, чуть дыша: «Я встретил Вас…»,
«Я встретил Вас…» И больше – ни полслова.
* * *
Расхристан вечер… Сумрак виноват,
Что мысленно всё прожито стократ,
И на закат так быстро повернуло.
А месяц что? Двенадцатая часть…
Хотя бы не споткнуться, не упасть —
Пусть не с высот, с расшатанного стула.
Ещё когда бы чеховских мужчин,
Их душами пленясь не без причин,
Тургеневские женщины любили,
То был бы смысл иной у бытия,
Был светел духом, может быть, и я…
А так… И дух, и трепет позабыли.
А чёрен день ещё и потому,
Что сколько ни пытаюсь, не пойму —
За что тебе любовь и безголосье?
Ведь это же так просто! – рюмку хрясь!
Вторую, третью… И душою в грязь,
Туда ж – портки, обувку и волосья.
А так душа – один сплошной озноб…
Пытаюсь петь, как в юности, взахлёб,
Когда шептали мы: «Любовь до гроба…»
Не ведали, заложники судьбы, —
Уйдёт любовь, останутся гробы…
Любовь уж больно нервная особа.
И всё… Не знаешь, нечёт или чёт…
И что-то, жизнью названо, течёт…
Цена? Давно забытая полушка.
И снова беспросветны вечера,
И снова щеки мокрые с утра,
Как будто ночью плакала подушка…
* * *
…И без того последняя черта
Отведена за новые пределы,
Где боль – не та, где бренность – суета,
Где Божий свет – подлесок поределый.
И можно не смотреть, а созерцать,
Как снова рок становится судьбиной,
Как Авель носит Каина печать,
Соединён с ним связью пуповинной.
Поленьев нет, но теплится очаг,
И ты, летучей бренностью подхвачен,
Прозрачность видишь в небе и в речах.
И сам летишь… И сам полупрозрачен…
ДиН гостиная
Танакоз Ильясова (перевёл с казахского Николай Переяслов)
Я знаю: пускай выше гор – небеса,
но горы их высям не станут завидовать.
Пусть солнце слепит им лучами глаза —
они своей боли слезами не выдадут.
Я знаю: пусть сыплют проклятья мне вслед —
земля подо мной не просядет болотом.
Железо руками не гни – проку нет,
лишь мышцы порвёшь и покроешься потом.
Я знаю: орёл, погибая в бою,
не просит врага, что сильней, о пощаде.
Оставьте насильно без жала змею —
она не заплачет о яде.
Я знаю: пусть слабой меня назовут,
пусть свергнется ливень стеною,
пусть слава и почести мимо идут,
но дар стихотворный – со мною.
Я знаю: хоть тоннами воздух скупай,
душа им вовек не напьётся.
Хоть в землю на локоть слова закопай,
поэзия – снова пробьётся!
* * *
Все нервы – в клочья! Я едва очнулась,
щенком побитым раны зализав.
И стало мне наукой прятать чувства
то слово, что никто мне не сказал.
Живу одна. Никто со мною песню
не запоёт, взглянув в мои глаза.
Так моё сердце напоило спесью
то слово, что никто мне не сказал.
Весь мир вокруг – лишь место для скитаний,
отечество – не больше, чем вокзал.
Навек меня лишило всех мечтаний
то слово, что никто мне не сказал.
Не битва мою силу подкосила,
не враг мою отвагу растерзал.
Костёр, во мне пылавший, погасило
то слово, что никто мне не сказал.
Оно мне в грудь вошло, как остры вилы,
и, в мир втолкнув, словно в огромный зал,
поэзией мне душу отравило —
то слово, что никто мне не сказал!..
* * *
Взгляни в себя – и в сердце иль в крови
найди вакцину, что всю боль излечит.
Как ни влечёт меня предчувствие любви —
а страшно встречи.
Входя в трамвай, от страха чуть дышу —
а вдруг нас там прижмёт толпа друг к другу?
Сойду скорей, как будто я спешу…
Вновь – всё по кругу…
Моей не в силах изменить судьбы,
стал чёрт – святошей, а мой ангел – пьянью.
Бреду, устав от долгих дней борьбы,
меж сном и явью.
Не я ль мечтала в тишине ночей
о страсти той, что разрывает душу?
Не я ль стреляла искрами очей,
а ныне – трушу?
Я не могу понять: ты – похититель
тех чувств, что я растила, как дубы,
иль ты – мой царь и сладкий повелитель
моей судьбы?
Взгляни в меня – и в сердце иль в крови
найди вакцину, что всю боль излечит.
Как ни страшит предчувствие любви —
а жду я встречи…
* * *
Наш мир умрёт без жёлтого огня
сентябрьских рощ и – чёрных стай грачиных!..
Хочу, чтоб кто-то полюбил меня —
за просто так,
бездумно,
беспричинно.
Характер мой упрямый не кляня
и не ища во мне повадки царской,
хочу, чтоб кто-то полюбил меня,
как любят дети белый снег январский.
Стереотип придуманный гоня,
что собран был по фильмам и эстрадам,
хочу, чтоб кто-то полюбил меня
не потому, что нет прекрасней рядом.
Наш мир умрёт, коль смех изгонит прочь —
ведь смех, как солнце, темень проясняет.
Не удивляйтесь
тем, кто любит ночь,
своей любви никак не объясняя.
Была б я зверь – дала б себя убить.
Но как – ненужной – кануть в смерть-пучину?
Я так хочу кого-нибудь любить —
за просто так,
бездумно,
беспричинно…
* * *
Без пристанища
В потоках струй – пристанища не сыщешь,
народ бежит, спасаясь, от дождя.
И лишь слеза, из глаз моих сойдя,
примкнёт к тем каплям, что струятся свыше.
Средь острых скал – пристанища не сыщешь,
здесь лишь вершины гордые царят,
что серебром в лучах зари горят
да по ущельям – дикий ветер свищет.
Средь зноя дня пристанища не сыщешь,
и в родниках – пристанищ тоже нет.
Земля без нас лежала тыщи лет,
и не сказать, чтобы грустила слишком.
Вот стольный град. Войди в него, гоним
не покаяньем, а огнём ристалищ,
и гордый нрав свой, что бежит пристанищ,
как стяг победный, водрузи над ним!
* * *
Я не лавина, что летит по склону,
и не росток зелёный у тропы.
Я – пустота лишь, что подобна клону.
Я – ноль, никто. Я только часть толпы.
Нет, я не фреска, что хранит ЮНЕСКО,
над ней трясясь, как неусыпный страж.
Мечты – угасли, не оставив блеска,
прошли, растаяв, как в степи мираж.
Полжизни – пир. Вторая половина —
то труд, то бунт средь снега и дождя.
И дух мой – рухнул, как со скал лавина,
и всю судьбу перечеркнул, шутя…
* * *
Ода зонту
«Если горы замёрзнут, то я ль буду в том виноват?» —
говорил стылый дождь, заслоняя собой горизонт.
Мы искали прибежища, в двери стучась наугад,
позабыв дома зонт.
Дождь, как гвозди, вонзается в грунт —
чтобы цветы расцвели вместо лужи.
И, верша многотысячный бунт,
раскрывают зонты свои души.
Кто бы душу свою ни открыл,
распахнись ему нынче удача,
словно пара зонтов – пёстрых крыл?..
О, душа моя – родина плача!
Только пни от былого леска…
Только души терзает тоска…
Кто-то встал, перекрыв горизонт,
над собой держа зонт…
В тот момент, когда дождь отгудит
уходящей водой в водостоках,
снеговик глянет с болью в груди,
чтобы мы не столкнулись в потоках,
заплутав в направленьях и сроках.
Истомившись пристанища тьмой,
я шагнула под дождь многожильный.
…Впору плакать, как дождик, самой —
хоть бы кто-нибудь зонт предложил мне!..
ДиН стихи
Константин Кравцов
Дым Отечества
Неближние места
А. может, есть неближние места.
где, забредя на кладбище, не встречу
когтящих зелень звёзд пятиконечных,
но только крест воскресшего Христа.
Там испокон ко всенощным звонят,
со всех сторон старухи семенят
и, может, сам той звонницы осколок,
я, разделяя участь буквы ять,
воскресну по молитвам богомолок,
не чаявших Твой промысел понять.
* * *
Дым Отечества
Он сладок был не более, чем едок,
и если что оставит на последок,
то только холод, холод колокольный,
полуночное сборище с дрекольем,
с Иудой, что пришёл для поцелуя,
но запевает пламя аллилуйя
в сырых костях и в голосе пропащем,
и снова в жестяном больничном сквере
так голо, что гармонию обрящем
и я, и ты, любезный мой Сальери.
* * *
Растворение в осени
Вот стоящий по плечи в крови,
сад становится почвой – той красной землёй,
из которой и взят он, скудельный сосуд, —
чаша, слепленная из листвы.
Распадается чаша – сохранно вино,
как в огне купина. Распадается свет
и становится почвой – священной землёй,
райской глиной сыновней Твоей.
ДиН стихи
София Резник
Воздушный змей
Дождик разноцветный
Мама, мне вчера приснился дождик!
Мне приснился разноцветный дождик;
Оставлял он на асфальте пятна,
Капли разноцветные – на окнах.
Он сначала синим шёл и красным,
А потом оранжевым с лиловым,
И зелёным, ярко-изумрудным
Цветом ливень с неба лил на город.
Люди забегали под навесы,
Прятались в домах и магазинах,
Чтобы не промокнуть, не заляпать,
Не испачкать платья и костюмы.
Люди закрывали плотно двери,
Закрывали поплотнее окна,
Чтобы дождь вдруг не попал случайно
Внутрь – на пол или подоконник.
Дети все сидели тихо дома,
И смотрели, как бегут дорожки
Краски по стеклу. И как машины
Разрисовывают мостовую.
Мама, мне вчера приснился дождик.
Дождь из красок, необычный дождик.
Я не стал гулять, пока не высох
След последний разноцветных капель,
Потому что ты бы не хотела,
Чтобы я запачкался случайно;
Да и как бы отстирался свитер
Или джинсы. Я остался дома.
Я бы, может, выбежал наружу
Прыгать по лилово-белым лужам,
Пальцами размазывать по листьям
Синие, оранжевые капли.
Но я знал: ты за меня боишься,
Как там я весь буду в этой краске,
И остался. Только знаешь, мама,
Я не знаю было бы мне плохо
Или нет. Давай, как будет дождик
Следующий, – выберемся вместе,
В краске чтоб измазаться на пару.
Пусть другие, чистые такие,
Смотрят на нас с завистью из окон.
* * *
Это осень! Не важно, что май на дворе.
За окном листья сухо дрожат на ветру.
Полумрак, тишина. Стынет чай на столе.
Я иду по ковру, по ковру, по ковру.
За окном представление – «Солнце в лесу».
На столе хлеб на блюдце, маслёнка и нож.
Это осень! Плевать, что июнь на носу.
Ты идёшь пока врёшь, пока врёшь, пока врёшь.
Белка серая вспрыгнула, ветку тряхнув.
Эта осень уже отдаёт декабрём.
Свет лежит полосами вкосую к окну.
Мы идём пока врём, пока врём, пока врём.
Три часа пополудни, май месяц, четверг.
На стене натюрморт: виноград и грейпфрут.
Солнце сыплется вниз. Сосны рвутся наверх.
Все идут пока врут, пока врут, пока врут.
Воздушный змей
Янику
Дети все умеют летать сперва,
Но об этом учат их забывать
Руки материнские и слова.
Отпустить детей в синеве кружить
Страшно. Да и скучно одним-то жить.
Мама, не держи меня – поддержи!
Как воздушный змей я лететь хочу!
Упаду – ты мне помоги чуть-чуть;
Если ж сильный ветер я подхвачу,
Ты под натяжением из горсти
На моток верёвочку отпусти,
А как она кончится, не грусти.
Не грусти, родная, и не робей —
Я ведь не обычный воздушный змей —
Полетав, я всё же вернусь к тебе.
ДиН детям
Наталья Данилова
Ветерок озорничал
Ветерок озорничал,
В подворотнях бегал,
На мосту фонарь качал,
Колокольцами бренчал,
С крыш бросался снегом.
У прохожих рвал из рук
Свежие газеты,
У продрогших двух подруг
Выхватил береты,
Старый флюгер закружил
В энергичном танце,
Карусель запорошил,
Огоньки все затушил,
Лёд подёрнул глянцем.
По бульварам проскакал
Рыцарем отважным,
С тротуаров дань собрал —
Длинный шлейф бумажный.
А потом что было сил
Дул в печные трубы.
Повторить концерт просил
Чей-то голос грубый.
Водосточная труба —
Ржавая старуха —
Пожелала ветерку
Ни пера ни пуха!
Ветерок озорничал,
Весело резвился,
Громко форточкой стучал,
Старый дед ему кричал,
Чтоб угомонился.
Только рано на покой
Ветру-малолетке,
Не сидеть ему с тоской
В золочёной клетке.
Он на то и ветерок,
Чтоб лететь, не чуя ног,
И шутить при этом,
Чтобы к нам вернуться смог
Через тысячу дорог
С пламенным приветом!
ДиН юбилей
Валентин Курбатов
Блаженство и отрава

Поздравляем с 70-летием члена редколлегии «ДиН», друга, коллегу, наставника и заступника, ярчайшего публициста и критика наших дней – Валентина Яковлевича Курбатова.
Редакция «ДиН»
Издатель жизни
Как входят в нашу жизнь друзья? Почему-то кажется, что если они настоящие, то мы никогда не можем вспомнить мгновение встречи. Они как-то сразу «оказываются». Ты «опоминаешься» сразу посреди дружбы.
Кажется, впервые он по «наводке» Виктора Петровича Астафьева попросил меня о предисловии к книге военных повестей «Вернитесь живыми», которую сам составил к шестидесятилетию начала войны «в благодарность родителям, вынесшим главное испытание века», как было написано в посвящении.
Я ничего не знал о нём к той поре, кроме того, что он был некогда журналистом «Комсомолки», потом гонял машины то ли в Монголию, то ли из неё, пробовал себя в разных бизнесах и не отчаивался. Всё было обыкновенно. Мешала сознанию только «Комсомолка», потому что сотрудничество с нею в начальные дни перестройки означало полную противоположность тому, чем жил я, чем жил Распутин, чем жили все мы – старые консерваторы, не торопившиеся вместе с «Комсомолкой» сдавать своё Отечество суетной новизне. Но нас сводил Виктор Петрович, и это уже было свидетельством духовной близости. Да и сам Геннадий давно жил иной, не «комсомольской» жизнью, а мы только донашивали свои старые предубеждения. Его издательство поначалу тоже, вероятно, было «бизнесом». Он издал военные повести Астафьева и потерпел поражение – умные «сотоварищи» прокатили его, лишив тиража. Но он чему-то научился, издал много разной разности, набивая руку, пока не явился однажды замысел этой книги военных повестей, к которой я и должен был написать предисловие и которая стала первым настоящим его успехом и событием в издательской жизни Иркутска. И не одного Иркутска.
Вероятно, он тогда впервые подумал и о своей марке, о том, что пора принимать личную ответственность за каждую книгу и без страха писать «Издатель Сапронов». До этого издательство звалось «Вектор» и было отвлечённо, как само это слово, ибо оно, как слово «направление», ещё не показывает стрелки, а только сам процесс движения – без определения куда. На переломе лет и времён, когда порыв Горбачёва побуждал «начать и углубить» что-то тех, кто уловил необходимость движения, но тоже ещё не знал куда, это было бессознательной хитростью. Точно знаю, что у Геннадия расчёта тут не было, а именно чутьё – умное ощущение общего движения во все стороны, желание движения, чтобы только не стоять на месте, потому что были силы, всё куда-то шло, и не стоялось на месте, и тоже хотелось идти. Вот и явился «Вектор». А за ним скоро явилась газета «Зелёная лампа», которая освещала уже более отчётливый круг стола с высокими и духовно верными книгами, этической чистотой и эстетической разборчивостью. Опыт работы с Астафьевым и военными повестями, когда надо было говорить с Носовым и Быковым, стремительно вооружал его. Да ведь он и жил в Иркутске, а там, какие ты тонкости ни исповедай, всё равно знаешь о существенно вернейшем камертоне, которым является В. Г. Распутин.
«Комсомолка» мешала услышать Геннадия и Валентину Григорьевичу. И это после знакомства с Геной ещё долго было его и моей занозой. Мне не работалось «по полной», пока они не были вместе. Да и ему тоже. Мы уже сделали несколько работ вместе. Кроме военных повестей я написал предисловие к «Пролётному гусю» Виктора Петровича – последней книге, которую он, уже безнадёжно больной, успел подержать и которой успел обрадоваться. А потом по Гениному настоянию согласился и на издание своей переписки с Виктором Петровичем, когда Виктора Петровича уже не было. Геннадий ломал моё сопротивление, потому что вернее слышал время и уже понимал, что прежние законы, по которым переписка должна была стать историей, дождаться часа, когда она не заденет живых, уже не работали. Время сжимается с агрессивной стремительностью, и то, что не будет показано сегодня, завтра безнадёжно устареет, а послезавтра вовсе будет никому не нужно. И чутьё не подвело его: «Крест бесконечный» (название было Генино, и оно было прекрасно) выдержал три издания. Угадка радовала его, и он гордился книгой, кажется, больше, чем я, и торопился представить её в Красноярске, Москве, Иркутске.
Вот тогда, в Иркутске, я и попросил Валентина Григорьевича, чтобы мы встретились втроём, сказал, что мне тяжело, что они не работают вместе. Валентин Григорьевич отговорился было, что они, в общем, и не расходились хотя бы потому, что и не сходились. И мы встретились.
А потом всё уже просто летело. Это были лебединые издания Геннадия и счастливые работы его неизменного товарища и настоящего открытия в книжной графике и дизайне Сергея Элояна. Геннадий ввёл в книгу и этого блестящего и широко известного станковиста, который тоже решил попробовать себя в новой области, и это было победой обоих. В них билось одно сердце, и оттого и четырёхтомник прозы Распутина, и его «Сибирь, Сибирь», и «Земля у Байкала» сразу становились издательскими событиями года России. И Гена только успевал получать дипломы.
Он с детской ненасытностью почти для каждой книги искал новые решения и технологии в переплётах, шрифтах, полях. Не для игры, а для того, чтобы предельно подчеркнуть существо каждой новой работы, все стороны её красоты. А уж какой ценой давались эти красота, мера, художественное совершенство и как они сопрягались с хищными законами рынка, которому не до духовной чистоплотности, – об этом знало только сердце издателя. И усталость немногих его сотрудников.
Его основной бизнес был прозаичен – это были железные двери из Китая. Конкуренция в этой области огромна и беспощадна. Круг забот немыслим – таможни, товарные станции, задержанные отгрузки, опаздывающие контейнеры, бесконечные поездки в Китай, договоры, технологии, конкуренты. Чтобы потом каждая копеечка ушла в счастье книги, где тоже законы не пряник – где типографии (а он работал с ними в Новосибирске, Екатеринбурге, Москве, Китае) своего не упустят, где другие товарные станции и контейнеры, где книгопродавцы и высокие инстанции, в которых надо напоминать о достоинстве и свете культуры, чтобы хоть часть тиражей уходила в библиотеки Красноярска и Иркутска, Омска и Новосибирска.
Зато как отрадны были и как восстанавливали сердце презентации книг и книжные выставки. Я бывал на некоторых представлениях в Иркутске и в Ассоциации книгоиздателей России в Москве. Везде было не поспеть. Это был ритм полёта. Вот увидел в старом письме 2003-го года, как он показывает астафьевскую «Царь-рыбу»: «27 ноября запланировали представить книгу в Овсянке и Дивногорске. 28-го в Литературном музее. 29-го помянем Виктора Петровича и переедем с Серёжей в Новосибирск. 1-го покажем её в Новосибирске, 2-го улетим в Москву и 4-го-5-го покажем в Ассоциации книгоиздателей».
Таким же горячим праздником была ежегодная зимняя выставка Нон-фикшн на Крымском валу, где ничего не стоило утонуть – так огромен был этот книжный океан, где кипел муравейник честолюбий лучших издательских фирм, где властвовали империи «Молодой гвардии» и «Азбуки-классики», «ЭКСМО» и «Вагриуса». Но читательская воронка вокруг малого островка «Издатель Сапронов» кружилась весело и неостановимо. И тут скоро являлись договоры, обмены, новые контакты и теперь уже естественный постоянный интерес к тому, что выйдет у «Издателя Сапронова».
Мы возвращались вечерами к его неизменному редактору Агнессе Фёдоровне Гремицкой, радостно усталые садились за рюмочку. Геннадий открывал книги, которые успел высмотреть у «соперников», и отыскивал лучшее, чтобы применить в своих новых идеях и замыслах. А потом, чтобы ослабла пружина дня и нашлись силы для завтра, он читал только купленного Георгия Кружкова с его иронической лирикой («Но розы Севера не страшны русской деве, особенно, когда она живёт в Женеве») или «Митька» Сапегу с его русскими «хайку» («Заболею. Умру. А пока солнце, ветер, весна, трали-вали».). Читал с такой артистической тонкостью и смеющимся умом, что и мы смеялись с ним до усталости. И не было в тот час людей счастливее нас, и нежнее друг к другу, и увереннее, что завтра мы издадим ещё чего получше. И ещё посмотрим (тайно имея в виду «ЭКСМО» и «Вагриусов») кто кого!








