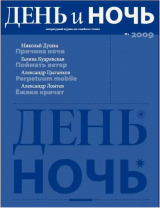
Текст книги "День и ночь, 2009 № 05–06"
Автор книги: Михаил Лермонтов
Соавторы: Яков Полонский,Валентин Курбатов,Александр Щербаков,Эдуард Русаков,Николай Переяслов,Наталья Данилова,Зинаида Кузнецова,Владимир Алейников,Оскар Уайлд,Константин Кравцов
Жанры:
Газеты и журналы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 39 страниц)
Это очень разумно и правильно.
Как бы там ни было, а мы решили с этой дамой обязательно познакомиться.
И тогда вчетвером, взяв с собой Кароля Богдашевского в качестве переговорщика, отправились в «петербургский отель». Это был большой грязный дом с обязательным кабаком, с лавкой разных разностей и несколькими хозяйственными постройками, стоящими в каре, около главного здания, где размещались комнаты для гостей – приезжих или местных – что приходили сюда искать утех или сгубить кусочек повседневной жизни в кабаке.
Таковых, очевидно, собралась немалая компания, причём в отменном настроении, поскольку издалека слышны была балалайка, песни, танцы и громкий говор.
В конюшне было полно тарантасов, коней, возов, кибиток, а перед настежь распахнутыми воротами дома мы увидели особых посетителей: медведя и волка.
То ли двое четвероногих сторожей каждого впускали в отель, но никого не выпускали, кроме тех, кого провожал кто-нибудь из слуг либо сам хозяин.
С теми, кого они знали, с постоянными посетителями кабака и постоянными гостями отеля, Миша-медведь и Саша-волк «здоровались», приветствовали, ощерив клыки, что должно было служить знаком большого расположения.
Миша быстро карабкался на высокий столб, с которого сползал с ловкостью истового гимнаста, а Саша в это время грыз кости, целая груда которых лежала под стенами и воротами отеля.
Кароль Богдашевский велел позвать хозяина.
На вопросы о той даме, что пару дней приехала издалека и здесь остановилась, татарин Ахметка отвечал путано, двусмысленно и увиливая.
Причём на его плоском тёмном лице читалось беспокойство, а в маленьких скошенных глазах загорались настороженные огоньки, как в зрачках дикого зверя.
Всё это было очень подозрительно.
Кароль Богдашевский сказал, что эта постоялица – его кровная родня, приезд которой он давно ожидает, что он хочет и должен увидеться с ней, что если Ахметка тут же не проводит нас к этой госпоже, мы пойдём в полицию.
Загнанный в угол, Ахметка наконец решился проводить нас вглубь дома, причём рассказывал, что дама приехала уже нездоровой, что её состояние всё ухудшалось и сейчас она очень больна.
– Почему не вызвали врача? – спросил Кароль.
– Сама барышня не хотела, не приказывала, а почему? Не могу знать, – ответил Ахметка.
Всё ещё медля, жалуясь и сетуя на хлопоты и неприятности, с которыми ему, как хозяину отеля, приходится слишком часто сталкиваться, татарин проводил нас через целый лабиринт коридорчиков, каморок, потайных лестниц, высоких порогов до боковой пристройки.
Тут, опередивши нас перед дверьми в деревянной стене и указав на дверь, сказал:
– Здесь!
Богдашевский легонько постучал. Постучал чуть громче второй раз. И, наконец, в третий.
Но из-за закрытых дверей не слышно было ни голоса, ни движения, ни наилегчайшего шелеста.
– Может, она вышла? – спросил он у Ахмета. Тот отрицательно покачал головой.
– Нет! Я вам точно говорю, что она больна, что вообще не выходит и даже не поднимается с постели.
– Тем более нам нужно её повидать. Нечего раздумывать, нечего колебаться.
– Конечно! Иди ты, Кароль, на первый залп, – сказали мы, – ты одет как цивилизованный европеец, мы же в наших каторжных одёжках выглядим как бандиты, мы только испугаем больную.
– Правда! – поддакнули друзья. Богдашевский осторожно приоткрыл дверь. Вошёл. Осторожно закрыл дверь за собой.
Нас удивило, что за этими дверьми мы не услышали никакого голоса.
Вдруг Кароль быстро вышел в коридорчик.
– Входите! Входите! Бога ради, – звал он нас шёпотом, голос его сильно изменился.
В комнатке, вернее, в низкой мансарде, слабо освещённой круглым окном под самой крышей, на кровати, накрытой несвежей постелью, лежала женщина. Она была молода.
Её длинные светлые косы свисали, расплетёнными и растрёпанными концами касаясь пола. Под шёлковым лёгким одеялом угадывались контуры высокой, худощавой фигуры.
Молодая женщина явно была очень тяжело больна.
О сильной горячке свидетельствовала её пылающая голова, неподвижно лежащая на подушках; её воспалённые глаза, горевшее от жара, нежное, прекрасное лицо, её горячие руки, которые на пурпуровом атласе одеяла казались выточенными из алебастра.
Она была совершенно без сознания.
Мы обратились к ней по-польски, по-французски, наконец, по-российски.
Она не ответила нам, очевидно, не понимая ничего и не отдавая себя отчёт, что около неё происходит.
– Но тут нужна немедленная медицинская помощь, – вскричал Богдашевский.
– Адам, – обратился он к Клосовскому, – беги к доктору Муразову. Если дома не застанешь, то в офицерском клубе точно его найдёшь. Хватай деда, сажай в тарантас и доставь возможно скорее.
Клосовский выбежал, а мы тем временем осмотрели мансарду, пытаясь отгадать, кто это чудесное создание, молоденькая девушка, которую трагическая судьба пригнала сюда северной зимой, – а случай отдал больную, безродную неприкаянную, под опеку изгнанников, под нашу опеку. Что она принадлежала к высшему обществу, свидетельствовало всё её обличье, благородство её поистине изумительной красоты.
Женщина бедная не могла быть одета в такое изящное бельё, лежать на дорогой постели, как эта больная.
Пока мы бились над этой живой загадкой, Олесь Гжегожевский, который в это время шнырял по мансарде, изучая все её углы, вдруг поднял с пола какой-то маленький предмет.
Это была суконная ладанка.
На одной стороне ладанки голубым шёлком вышиты слова:
«Наисвятейшая Богоматерь Ченстоховская, проводи мою Маришеньку по тернистому пути, который она для себя избрала».
Таинственность, окружавшая больную женщину, понемногу начала разъясняться в самой для нас интересной ипостаси: эта прекрасная особа была Полька и эта ладанка, несомненно, принадлежала ей.
Никто из местных не чтил и не носил таких святынь. Ни один наш земляк в эту пору через Тару не проезжал, в этом отеле не останавливался, жившие здесь поляки об этом бы узнали.
Наше сочувствие к больной ещё усилилось от того, что эта несчастная оказалась нашей землячкой.
Богдашевский решил, что сразу же после посещения врача он перевезёт её в другое жилище, более достойное, чем эта мансарда в грязном сибирском заезжем дворе, где днём и ночью раздавались крики и пьяная брань и царило беспредельное хамство, где из каждой комнаты и каждого уголка исходило несносное зловоние, просто убийственное для изнурённой женщины, притом непривычной к подобной обстановке.
Вскоре Адам Клосовский привёл доктора Муразова. Эскулап явился хмурый, в кислом, как уксус, настроении, сердитый, оттого, что его оторвали от забав офицерского клуба. Именно в этот день ему везло в игре, и тут чёрт принёс этого поляка с вызовом к больной родственнице. Наверняка это жена какого-нибудь «мятежника», а может, она сама – «мятежница», которая могла бы себе спокойно помереть в любое время, никого не утруждая: смерть каждого «мятежника» или «мятежницы» – очевидная польза для «матушки России».
Примерно так должен был рассуждать доктор Муразов, что мы поняли из его поведения и чёрного юмора. Тем не менее он стал вежливым, любезным и приятным в обращении, как только после взаимных приветствий Кароль Богдашевский прямо у входа вручил ему свиток банкнот.
Он принял деньги без церемоний и, удостоверившись, что предложенная сумма намного превышает обычный докторский гонорар в Таре, сразу же из грубияна превратился в человека обходительного и внимательного, как и положено врачу, лечащему охотно, и принялся выслушивать больную. Осмотр получился печальный. Муразов признал состояние пациентки как весьма опасное.
Поставил диагноз: воспаление лёгких, осложнённое воспаление мозга. А эти две болезни при слабом организме не сулят быстрого выздоровления, более того: следовало готовиться к катастрофе.
Партия, в которую мы входили, выбывала из Тары быстрее, чем было намечено. Разные прогнозы, а главное, ранние холода предвещали быструю и тяжкую зиму. Потому партия должна была поспешить, чтобы возможно скорее добраться до Томска.
Покидая Тару, мы оставили «нашу Маришеньку» (теперь мы так называли больную девушку) в том же состоянии, в каком увидели её впервые.
Её польское происхождение не вызывало никаких сомнений.
Ни на минуту не приходила она в сознание, лишь при каких-то горячечных видениях с её прекрасных уст срывались имена, или выражения, бессвязные слова – имена, обычные в Польше, и выражения были часто чисто польские.
Что последовала она в Сибирь за мужем или возлюбленным, тоже можно было сказать наверняка, ибо какой другой повод кроме жертвенной любви мог бы погнать красавицу, молоденькую полячку, по этому тернистому пути, вытоптанному стопами политических преступников?..
Тем не менее фамилия нашей Маришеньки так и оставалась для нас тайной.
В течение многих лет нас переводили из тюрьмы в тюрьму, перемещали из крепости в крепость, мы знали целую армию осуждённых, если не лично, то понаслышке из рассказов сотоварищей.
Не чужды были мне имена разных заговорщиков, известен их удел в разных обстоятельствах и в разных происшествиях. Всё это засело у меня в памяти, так же, как Катехизис и Отче Наш.
Не раз я пытался звать: «Сестрица» – и называл то или иное имя, возможно, счастливчика, которого удостоила любви «наша Маришенька».
В конце концов, при различных раскладах и комбинациях, сопоставлениях времени, мест, личностей, вырастало целое сооружение правдоподобности и домыслов, и всё это привычно рушилось, как здание на хрупком фундаменте.
Но, конечно, у «нашей Маришеньки» должен был быть паспорт и прочие подорожные документы, подтверждающие её личность, место рождения, место, куда она отправлялась в свою вынужденную дорогу.
А эти документы исчезли, пропали без следа.
Некоторые из посетителей «кабака» и «петербургского» заезжего двора вспоминали, что эта красивая больная девица, которую взяли под опеку поляки, прибыла несколько дней назад в Тару на тарантасе, гружённом чемоданами и множеством тюков.
Они помнили, что эти чемоданы и тюки отнесены были в переднюю комнату отеля.
По наблюдениям таких свидетелей, эта барышня была очень богата, ямщик, который её привёз, долго и подробно рассказывал о её доброте и щедрости, о том, что она ни с кем не торговалась, платила за всё, сколько просили, хотя ей называли цены, намного выше, чем обычные.
Отсюда следовал вывод, что «наша Маришенька» заболела сразу по приезде в Тару, что Ахметка перевёл неприкаянную несчастную из её парадной комнаты в мансарду, чтоб её там спрятать и скрыть от любопытных глаз, что он присвоил весь её багаж, а паспорт и подорожные документы уничтожил, сразу же уложив больную девушку в постель, в доказательство её болезни.
Всё это было ясно.
Тем не менее Ахметка всё отрицал.
Досмотр в петербургском отеле не выявил ничего подозрительного, равно полиция отрицала наличие подорожных бумаг.
Накануне отбытия партии в поход мы пошли проведать больную. Наши братья, живущие в Таре, перенесли «нашу Маришеньку» из мансарды заезжего двора в другое жилище. Теперь она занимала большую комнату, чистую и светлую, с видом на реку Архарку и древние вечнозелёные леса. Она располагала удобствами, её лечил лекарь, её неустанно опекали приязненные горячие сердца, готовые ради неё на любые жертвы.
С уважением пожимали мы исхудалые и горячие ручки больной, прикасались к ней лёгкими поцелуями и шептали пожелания здоровья.
– Встретимся ли мы с ней ещё когда-нибудь?.. – спрашивал я растроганно и печально.
– Ты спрашиваешь, встретимся ли мы ещё с ней? Но, дорогой мой, конечно же, встретимся. если не на этой земле, то по ту сторону гроба… Ведь мы шли по жизни общим путём, – ответил профессор Жоховский.
– Фактически наша работа – это работа Данаид! Несколько дней дождя напрочь смывали вал, построенный нашими руками. Первый же разлив снесёт его вообще. И снова придётся тачками подвозить навоз, смешивать с гравием, песком, тростником, придётся всё это укладывать, трамбовать, чтобы, закончив, вскоре проделать то же самое. Право, трудно придумать другую, столь же оглупляющую работу!
Так вещал Юзеф Богуславский, тыкая в землю лопатой, которую держал в руке, а я отвечал ему со смехом:
– А ты что думал, Юзик? Что нас послали на каторгу с целью развития умственных способностей и для использования на полезной и продуктивной работе?. Мы должны приучать себя к «оглупляющим» работам, потому что других на каторге не будет…
Юзеф Богуславский и я беседовали так в Усть-Каменогорске[48].
Поскольку мы закончили назначенную нам порцию работы раньше других и ожидали, пока сотоварищи закончат свою, мы отдыхали, глядя то на погожее небо, то на Иртыш, в то время спокойный, гладкий, как отполированный лист стекла, в котором отражался то сапфир небес, то белые перелётные облака.
Подошёл офицер в звании инженера, обозрел вал, который каторжники насыпали над Иртышом. Местами замечал небрежную работу и, наверное, чтобы придать себе больше веса, ругал каторжников, ругал конвойных дозорных, а потом приказал вернуться в каземат.
В дороге встретили ефрейтора, который сказал, чтобы я явился в канцелярию коменданта крепости.
Комендант, майор Маценко, был неплохим человеком, особенно для нас, поляков. Держал себя пристойно, вежливо и не скрывал симпатии, что таилась в его душе по отношению к Польше.
– Рад, что могу вам доставить удовольствие, Шимон Себастьянович, – сказал он, когда меня привели в канцелярию и вручили мне письмо, которое почта только что привезла.
Я взглянул на почтовый штемпель… Письмо пришло из Тары. Пропутешествовало оно всего пару месяцев… В сороковых годах, нас, каторжников, редко когда привозили сразу к месту казни.
Включали нас то в одну, то в другую партию преступников. Мы отбывали долгие походы вглубь Сибири, чтобы потом той же дорогой поворачивать к Уралу и России.
Это были поспешные марши и поспешные рокировки. Были то долгие и короткие этапы, в зависимости, конечно, от соображений начальников в главных сибирских городах.
Так что письма тоже проделывали долгие путешествия, пока попадали к адресату.
Получив письмо из рук майора Маценко, распечатал его поспешно.
Я был уверен, что это, несколько месяцев ожидаемое мною послание, содержит вести о «нашей Маришеньке». И предчувствие меня не обмануло…
Кароль Богдашевский, не скупясь на подробности, рассказал нам о той женщине, которую мы узнали в Таре и к которой испытывали такую сердечную привязанность и сочувствие.
Лекарь Муразов правильно поставил диагноз.
«Наша Маришенька» потихоньку… потихоньку… увядала, как цветок, схваченный морозом… Угасла, как звезда, которую громовые тучи укрыли так, что она совсем исчезает и навсегда прячется от устремлённых к ней людских глаз.
«Наша Маришенька» оставалась без сознания. За минуту до гибели у бедняжки появился лёгкий проблеск сознания.
Просящим жестом протянула она ручонки к братьям-изгнанникам, которые в последние дни её жизни находились около неё непрестанно, с большим усилием прошептала:
– Передайте ему, что.
И – всё. Более не последовало ни одного слова… ни одного слога.
Никто из нас не смог выполнить предсмертной воли «нашей Маришеньки». Никому из нас не удалось узнать, что и кому хотела она передать.
ДиН повесть
Пётр Ореховский
Симулякры[49] и симулянты
Мои друзья идут по жизни маршем,
И остановки – у пивных ларьков.
В. Цой
…Тогда была проведена кардинальная реформа, согласно которой день поступления в школу считался одновременно днём окончания университета… Реформа оказалась прекрасной… По статистическим подсчётам, наша страна сразу заняла первое место на Марсе по числу людей с высшим образованием. Император был доволен реформой потому, что она свидетельствовала о его любви к народу, к просвещению. Учителя были довольны тем, что все они стали преподавателями университетов… Отцы семейств с удовлетворением взирали на своих семилетних сопляков, которые кончали университеты, так как умные дети – гордость отцов и матерей. Об учениках я уже не говорю: они были просто счастливы, что родились в Кошачьем государстве. Лао Шэ. Записки о Кошачьем городе

1. Аспирантка
Бумажный самолётик резко взмыл к потолку поточной аудитории Санкт-Петербургской экономической академии, завис там на долю секунды, клюнул носом вниз и по красивой синусоиде приземлился на трибуну лектора, который как раз в этот момент отвлёкся от рисования формулы на доске и сердито оглядывал аудиторию.
– Это чёрт знает что такое, – пробормотал себе под нос профессор Лощинин и уставился на смазливую девицу, расплывшуюся в улыбке, обнажившей рекламные ровные акульи зубы. – В чём дело, Жукова?
– Смешное очень понятие – эластичность функции, – ответила Жукова, не переставая мерзко хихикать.
– И что здесь смешного?
– Ну как же? У каждой женщины и у каждого мужчины – своя эластичность функции. Очень смешно.
Лощинин на секунду онемел, а потом обозлился.
– К двум феноменам человеческой жизни применение любой подписи, по-видимому, будет казаться особенно смешным молодым людям. Скажем, вы можете, Жукова, взять заголовки газеты «Коммерсант» и поместить их под фотографией полового акта, и это будет очень многозначительно. Кроме того, вы можете добиться того же эффекта, поместив эти или другие заголовки, а также любые термины или определения на двери туалета, и это, с большой вероятностью, тоже покажется вам смешным. Но всему своё место, Жукова. Мы же с вами находимся в учебной аудитории, а не в одной из охарактеризованных выше ситуаций, не так ли? Поэтому ваше чувство юмора представляется мне неуместным. Как и эта бумажная конструкция, которая приземлилась мне на кафедру.
Студентка Жукова, сидевшая в первом ряду, перестала улыбаться, выпрямилась, демонстрируя полуобнажённый бюст, который был виден с преподавательской кафедры во всех подробностях даже невысокому, чуть выше среднего роста Лощинину, и наградила лектора роковым взглядом исподлобья.
Тем временем оторвавшаяся от конспектов аудитория тихо гудела, почти не обращая внимания на диалог между профессором и студенткой. Юноши на плотно населённых задних рядах повернулись друг к другу и отвернулись от доски, их бубнёж сливался в довольно громкий рокот. Девушки впереди по большей части развлекались с мобильными телефонами, отправляя и принимая эсэмэски. В разных концах несколько человек сидело с отсутствующим видом – в их ушах торчали наушники, а взгляд рассеянно блуждал по аудитории.
Лощинин всё никак не мог успокоиться, вертя в руках самолётик, и продолжал:
– В данном случае речь шла об эластичности спроса по цене. Кто может сказать, что это такое? – он уцепился взглядом за студента с отсутствующим видом и спросил – Как вы думаете, Островский?
– Вы ко мне? – удивлённо спросил Лощинина студент, концентрируя взгляд на лекторе.
– Да, к вам. Как вы мыслите? Студент Островский упорно молчал.
– Декарт как-то заявил, что он мыслит, следовательно, существует. Если вы не мыслите, то вы не существуете, Островский. И с кем я тогда разговариваю? – дёрнув щекой, повысил голос Лощинин.
Аудитория наконец притихла. Профессор вернулся к тексту лекции, большая часть студентов завозила ручками по бумаге, процесс подготовки специалистов-менеджеров продолжился. Определение эластичности спроса по цене в этот раз так и осталось для студента Островского тайной.
На кафедре экономической теории, куда направился после лекции Лощинин, было шумно. Там его ждал приятель и собутыльник, кандидат философских наук, доцент Белкин.
– Ваша кафедра мне напоминает бункер Гитлера перед капитуляцией. Все носятся в разных направлениях, все – с какими-то бумажками, одновременно обмениваясь короткими рублеными фразами на ходу, – заметил Лощинину Белкин, когда они выдвинулись на оперативный петербургский простор из дверей государственного высшего учебного заведения.
– Да, чем-то похоже. Только тогда кафедра философии напоминает бункер Гитлера после капитуляции – тишина, никого нет, и только методист вместо часового у входа при телефоне, – не остался в долгу у товарища Лощинин.
– Как неожиданно проявляется в нас знание истории, – после паузы отметил Белкин. – Зайдём?
Приятели остановились у рюмочной – специфического питерского заведения. В других российских городах организации общественного питания аналогичного профиля расплывчато назывались кафе. Лощинин частенько задавался вопросом, есть ли какая-нибудь наследственность между бытовавшими в Петербурге до революции питейными и пережившими меченого Богом последнего генсека КПСС рюмочными, однако наличие или отсутствие этой связи оставалось тайной. Неисчислимое множество питерских краеведов, знающих всё о тайнах и легендах Невского и иных проспектов и выражавших повсюду своё авторитетное мнение, заставляло его держать свои вопросы при себе.
– Конечно, зайдём, двух мнений быть не может, – бодро ответил профессор, и они спустились на пару ступенек вниз.
Забегаловка была оформлена с некоторой претензией на память о Кавказе. Это навело Белкина на очередные политические реминисценции.
– Вот вам, Владимир Алексеевич, и Хантингтон[50].
– Не выражайтесь, – строго ответил профессор.
– Никого не хотел обидеть, но этим летом наша родина воевала с родственной православной страной, поддерживая мусульманских мятежников. Вопреки цивилизационным разломам. И в телевизоре был сплошной патриотизм. Просто ужас что такое, может, шашлыка скушаем под водочку в пику кремлёвской гебне и в качестве поддержки грузинских либералов вместе с нашим земляком Андреем Илларионовым?
– От шашлыка здесь, полагаю, только название. Так что лучше я возьму на закуску традиционное русско-еврейское блюдо – селёдку под шубой. А вы как хотите. Заодно поясните мне, что имеется в виду под патриотизмом, поскольку за последние двадцать лет я уже совсем перестал понимать, что имеется в виду.
Они выпили за начало учебного года. Потом Белкин заявил:
– Патриотизм – любовь к родине. «Ты жажде сердца не дал утоленья, как женщину, ты родину любил».
– И как вы понимаете такую мужскую любовь в стиле Некрасова? – углубился Лощинин.
– Известно как: дружба и любовь в России предполагают, что ты должен говорить близкому человеку всё, что ты о нём думаешь, чтобы сделать его лучше. И с патриотизмом примерно так же. Родина должна быть свободна и богата.
– Интересно. В вашем определении смешано как минимум два патриотизма. Условно я их обозначаю как «славянофильский» и «западнический». Славянофил теперь – это такой человек, который любит родину, которая богата и может дать другим по морде. Это насчёт «свободна и богата».
– Вот-вот. Это и показывают в последнее время по телевизору.
– Любовь нынешнего славянофила ощущается именно тогда, когда родина его поит, кормит и всячески удовлетворяет. Если же она больна, слаба и бедна, то он чувствует национальное унижение. И если последнее нестерпимо, то он может-таки уйти к другой женщине. Эмигрировать то есть.
Для второго типа патриота, западника, любовь к родине – это судьба. Страна у него пьёт, ворует, гуляет, а он её перевоспитывает, хотя и знает, что это – бесполезно, Россия измениться не может – это насчёт того, чтобы «говорить всё, что думаешь». Недавно вот я у одного такого прочёл: «Россия встала с колен. На четвереньки». Сам-то патриот стоит гордо в вертикальной позиции, надо полагать, для того, чтобы при случае врезать пьяной женщине ногой по зубам. Исключительно для вразумления и протрезвления, конечно. Уйти от этой гулящей страшной бабы западник не может – он же её любит, так что ему остаётся только овдоветь. И когда что-нибудь такое происходит типа распада СССР или войны в Чечне – начинается плохо скрываемая радость – ну вот, наконец-то, дождались. Кстати, Некрасов, когда писал про Добролюбова процитированные вами строки, наверняка знал, что знаменитый критик жил с так называемой падшей женщиной… Да и у самого была какая-то треугольная сексуальная жизнь с Панаевыми. Так что родину, как и женщину, можно любить очень по-разному.
– Известно, от любви до ненависти один шаг, – не преминул вставить известную банальность Белкин, почёсывая интеллигентскую мефистофельскую бородку.
– Тут важны ещё два обстоятельства, – с интонациями лектора, слегка педалируя нудность, продолжил Лощинин. – Во-первых, если поскрести любого славянофила, то из него вылезет вера в наличие гениальных жидо-масонов, которые правят миром и хотят поработить Россию. Во-вторых, если подольше поговорить с западником, то увидишь запуганного параноика, который верит в «кровавую гебню», в гениальных и одновременно тупых силовиков, которые опять-таки хотят поработить Россию, а вместе с ней и весь мир, вернуться в тоталитарное общество. И вот они вместе так сильно любят нашу страну, что просто не знаешь, куда от них деваться.
– Что-то я даже не знаю, какой из этих ваших патриотизмов мне противней. Хорошо бы, как у Курта Воннегута – люби ты меня поменьше, лучше относись ко мне по-человечески. Вот как-то поспокойней к родине относиться нельзя? Всё-таки мы уже с ней давно живём, пора бы и уважению появиться. Если не взамен, то в дополнение к страсти, – Белкин отпилил пластиковым ножом на картонной одноразовой тарелке небольшой кусок свинины от блюда, названного барменшей шашлыком, разогретым в микроволновке, и приготовился закусить.
– Вот этого, дорогой мой Андрей, никак невозможно. Ибо являемый в телевидении или печатном слове патриотизм является уже отдельным от чувства продуктом, а коли в нём страсти нет, то кто же его будет покупать? У нас же теперь капитализм. Вы нам денежки, а мы вам патриотизм явим. И примириться нынешние западники со славянофилами никак не могут, ибо, полагаю, разный платёжеспособный спрос удовлетворяют.
На тезисе о необходимости удовлетворения дифференцированных потребностей, с которым спорят социалисты, но в качестве аксиомы принимают все настоящие либералы, приятели свернули дискуссию.
Они выпили на посошок, точно рассчитав закуску, и вышли на крыльцо рюмочной, когда у Лощинина зазвонил мобильный телефон. Поговорив, он обратился к Белкину:
– Надо же, как не вовремя… Андрей, у вас вечер свободен? давайте я вас с девушкой из Новосибирска познакомлю. Покажете ей Петербург, а то мне категорически некогда.
– А она красивая? – деловито поинтересовался доцент.
– Вас интересуют гносеологические или онтологические аспекты красоты данного объекта? – осведомился в ответ профессор.
– Я просто хочу знать, жертвуя ради вас своим временем, могу ли я рассчитывать хотя бы на некоторое эстетическое удовлетворение.
– Красивая, красивая, – буркнул Лощинин. – И с деньгами, так что умная и платить будет сама за себя, если что. Соглашайтесь.
Белкин издал театральный вздох, и приятели пошли в метро.
У Анны Мельниковой были модные пухлые губы, вздёрнутый курносый нос, тёмные волосы и карие глаза миндалевидной формы. Она вполне соответствовала требованиям гламурных журналов, а неправильность носа отличала её от фотомоделей и придавала ей живость. Щеголеватый Белкин остался удовлетворён беглым осмотром. Лощинин представил её как аспирантку своего сибирского коллеги, приехавшую в Питер в командировку, извинился, сославшись на занятость, и быстро ушёл, пожелав им хорошего вечера. Анна растерянно и с каким-то ещё, непонятным для Белкина чувством посмотрела ему вслед.
– Я, конечно, не в силах вам заменить профессора, разве что в некоторых отношениях… Например, вы можете опереться на мою руку, – галантно, как ему показалось, заявил Белкин.
– Владимира Алексеевича вам будет трудно заменить во всех отношениях. Но относительно опереться – почему бы и нет, – как показалось Андрею, с некоторой тоской в голосе ответила Анна.
Белкин проглотил появившуюся у него на языке колкость и вежливо поинтересовался:
– Вы ужинали?
– Да.
И Белкин с Мельниковой под руку пошли вниз по Невскому к Миллионной, где находилась гостиница Академии наук. Стоял тихий, тёплый сентябрьский вечер, Невский был запружён гуляющим народом. Доцент решил поддержать угасающую беседу вопросами о насущной, как ему казалось, для Анны теме.
– Про что ваша диссертация, не расскажете?
– Вам неинтересно будет.
– Приятно, что вы со мной кокетничаете. Нет, правда. Расскажите.
– Про человеческий капитал, который создаётся в первую очередь образованием.
– Да? А я думал, что он создаётся в первую очередь знакомствами.
– Вот, вы уже насмешничаете. А ведь чтобы с нужными людьми познакомиться, тоже образование нужно.
– Тут вы правы, я как-то не додумал. И эти все баллы по ЕГЭ, переход к бакалаврам и магистрам – это тоже для увеличения круга знакомств?
– Типа того. К получаемым баллам по ЕГЭ будет привязываться зарплата учителя, у магистров будут читаться сложные авторские курсы – и у профессоров зарплата возрастёт. В общем, мотивация и эффективность как стимулы для создания компетенций. И все будут друг с другом знакомиться и дружить.
– Однако! Анна, а вы в вузе преподаёте?
– Конечно. Поэтому и степень нужна. Правда, я ещё и в НИИ работаю – и там получение степени тоже увеличивает зарплату.
– Тогда… вы всё это серьёзно – про стимулы? Учитель у нас, если после института, получает на уровне минимального размера оплаты труда. Профессор – в три раза больше. Как раз на уровне кассира-операциониста в банке. Причём коммерческий студент у нас в академии платит сто восемьдесят тысяч рублей в год, а ставка профессора – порядка пятнадцати тысяч рублей в месяц. Получается, что один студент может содержать профессора. Однако в среднем у нас на одного преподавателя приходится порядка десяти студентов. Такая вот рентабельность образовательного процесса и человеческий капитал. Хотя ради объективности надо сказать, что у нас учится около трети бюджетников, а за них государство платит тысяч по тридцать пять. Это же не вузы и школы, а нормальные потогонные коммерческие предприятия, где доцент – рабочий на конвейере, где производят дипломы о высшем образовании.
– Дело же не только в деньгах. Преподаватель, учитель – уважаемые профессии, статусные. И распорядок дня свободный.
Белкин никак не отозвался на пропаганду преимуществ преподавательского труда. Анна помолчала и сказала с видимой неохотой:
– Вообще-то, вы правы, конечно. Но все так считают, у нас же реформа образования идёт уже сколько лет. А мне просто нужна степень.
Белкин неожиданно почувствовал себя неудобно, как будто сказал грубость, а в ответ перед ним извинились. Чтобы сменить тему, он предложил, не рассчитывая на успех, но ожидая, что попытка будет оценена:
– Вы знаете, здесь на Садовой неподалёку есть местечко танцевально-питейное. Не хотите потанцевать?
– С вами? – прищурившись, удивлённо уточнила Анна.
– Ага, – усмехнулся Белкин.








